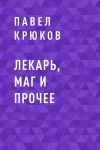Текст книги "Любовь олигархов. Быль и небылицы"

Автор книги: Александр Викорук
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 7 страниц)
Около трех часов объявили стоянку. Теплоход по дуге надвигался на пристань, за ней желтел песчаный берег, изумрудно светился лес, пронизанный красноватыми столбами сосновых стволов. На берегу встретила тишина, стоило лишь немного отойти от пристани. Ветер едва шевелил листья, припекало солнце. Группа музыкантов двинулась вдоль берега, впереди шагал с сумкой Смагин, он изрядно набрался и немного пошатывался. У одного из пологих спусков к воде Смагин вдруг бросился вниз, утопая в песке.
– Заплыв сильнейших, открытие сезона! – крикнул он, кинул сумку на песок и стал раздеваться.
Его пытались образумить, с берега отговаривали, но он уже стоял в плавках, белел молочно-бледным худым телом.
– Борис, – позвал он Михеева, стоящего рядом с Надей, – присоединяйся. Женщины любят отчаянных мужчин.
Музыканты рассмеялись, а Борис возмущенно вскрикнул:
– В коверные не гожусь! – и повернулся к Наде: – Пойдемте гулять, этот пьяница меня раздражает.
Вдвоем они направились по тропинке. Идти по узкой дорожке было неудобно, Борис топтался на травяной кромке, потом прижал локоть Нади к себе. Лес окружил их, стихли крики на берегу, вокруг попискивали по-весеннему суетливые птицы, заливисто наперебой выводили затейливую трель зяблики, звенели синицы, коротко, деловито.
– В этом году первый раз в лесу, – сказала Надя. – Хорошо, как будто праздник, Мы с дедушкой часто в парк ходили. А в детстве сказки про зверей сочиняла, тоже дед виноват. Он про медведей, рысей рассказывал, о тайге. В школе одно время хотела на биологический пойти.
– А он не говорил, что делал в тайге? – ухмыльнулся Борис.
– Говорил, конечно, – Надя стала серьезной, – когда уже выросла. Ему многое испытать пришлось. Я уважаю его. Там каждый цену свою узнает, настоящую. Дед говорит, если человек выдержал испытание, выходит, есть в нем что-то значительное.
– А может, у такого терпячка крепче? – заметил Борис. – Инстинкт самосохранения: гнут тебя, а ты съежился, сцепил зубы – лишь бы выжить, приспособиться.
– Фу-у, как вы говорите, – поморщилась Надя.
– Некрасиво? Зато правда. Чего не придумают для оправдания. И никто не пытается поперек обстоятельств пойти, разорвать круг.
– Да, вы очень решительны, – улыбнулась Надя.
– Давайте перейдем на «ты», – предложил Борис.
– А я заметила, Леонид Витальевич очень терпеливый. Ты на него так наскакиваешь, а он ничего.
– А-а, надоели они все, – отмахнулся Борис. – Смотри, как хорошо кругом, а мы черт знает о чем говорим. В лесу не только музыка, – Борис усмехнулся, обнимая Надю за плечи, – но и любовь.
– Любовь – моя любимая тема, – Надя выскользнула из-под руки Бориса и добавила шутливо: – Но не при северном ветре.
– Ветры непостоянны. В оркестре к тебе все равно приставать с ухаживаниями будут, тот же Смагин. Так лучше считайся моей девушкой.
– Скучно, чья-то девушка, – капризно сказала Надя.
– Давай попробуем. – Борис поймал ее за плечи, прижал к себе и попытался поцеловать. Она вырвалась, отступила назад, в ее глазах мелькнула брезгливость.
– Не надо портить день, – спокойно заявила она.
– А я так хочу, – Борис придвинулся к ней.
– Борис Степанович, – послышался голос Гаревских.
Михеев оглянулся: метрах в тридцати, у самого поворота тропинки, в разноцветии солнечных бликов стоял дирижер.
– Я вас ищу, – сказал Гаревских, приближаясь.
Надя, воспользовавшись замешательством, прошла обратно по тропинке и скрылась за деревьями.
– Что же вы от коллектива оторвались? – начал Гаревских. – Мы так интересно с вами спорили?
– Да я тут другую тему нашел.
– Какую же? Может, она всем понравится?
– Про любовь – для узкого круга, понимаете ли.
Гаревских молчал, лицо его стало серьезным, исчезло выражение превосходства.
– Борис Степанович, – проговорил он тихо, – наверное, вы в чем-то правы, мешают замашки руководителя. Но, поверьте, из лучших побуждений. Надя вам не пара. Я ее немного знаю.
Борис злорадно усмехнулся:
– Тронут вашей заботой. Не для себя ли ее бережете?
– Стыдно, Борис Степанович.
– Это мне стыдно! – возмутился Борим. – Вы такое, можно сказать, сделали. Кстати, а почему Вазнин просидел тридцать лет последним?
– Он не хотел иначе, – оправдываясь, тихо сказал Гаревских. – Вы не знаете. Он был божественно талантлив в свое время. Такая судьба.
– Божественно, – промычал Борис, изучая лицо Гаревских, – а потом вы его взяли до пенсии дотянуть. Да-а, загубили «божественный талант».
Лицо дирижера содрогнулось, побледнело:
– Вы не должны так. Вы, – он задохнулся, – надо пережить, чтобы так…
– А он, наверное, и не знает, кто благодетель, кому обязан. Может, просветить?
Гаревских молчал, опустив глаза, потом сказал:
– Это подло.
– Ничуть. – Борис отступил на шаг – слишком яростно горело лицо дирижера. – Ничуть не хуже, чем лезть в чужие дела. Но я еще подумаю.
Борис обошел Гаревских и направился к берегу. До конца поездки он почти не участвовал в разговорах, ходил особняком, изредка многозначительно улыбаясь.
У Речного вокзала он взял такси, через пятнадцать минут вышел у дома, где жил Вазнин. Борис часто встречал такие дома в центральной части города. Еще дореволюционной постройки, наверное, как раз такие назывались «доходными», потому что все шесть этажей были набиты разнокалиберными квартирами на все вкусы. В громаде дома не было никакого изящества, только добротность и надежность. По стертым ступеням Борис поднялся на третий этаж. Дверь открыл старик Вазнин. Горло его было обмотано серым шерстяным платком, домашние брюки висели мешком, на ногах – разбитые тапочки. Лицо болезненное, вялое.
– Боря? – удивился Вазнин. – Проходите.
– Да вот, я, – Борис следом за стариком вошел в крошечную комнатушку. Слева, зажатый стенами, стоял диван, у окна – небольшой стол, заваленный газетами, журналами, справа, в узкой нише, располагался шкаф.
– Вы что же не поехали за город? – спросил глухо Вазнин.
– Как раз оттуда.
– А где же Надя? – старик забеспокоился, с лица исчезло равнодушие болезни. – С ней что случилось?
– Ну что вы, скоро придет. Не с ней, а вот случилось нечто. – Борис замер, вглядываясь в Вазнина. – Узнал я, что за птица наш Гаревских.
Вазнин непонимающе взглянул на Бориса.
– Вы ведь с ним давно знакомы, – сказал Борис.
– Да, еще с до войны, в консерватории.
– Не знаю, как хватило совести смотреть вам в глаза тридцать лет. – Борис покачал головой, а Вазнин насторожился. – Он же виноват во всем, исковеркал вам жизнь. Он проговорился.
– Замолчи! – крикнул придушенно Вазнин, его руки тряслись, он попытался встать с дивана. Наконец тяжело поднялся, оттолкнувшись руками. Вазнин сделал два шага по комнате, у стены повернулся, не глядя на Бориса, постоял, наклонив голову.
– Никогда бы не стал объяснять вам. – Старик взглянул в упор на Бориса. – Может, на пользу пойдет. Хотя вряд ли. Вы – бездушный… Немцы перерезали дорогу, не мог он уже доехать. Но и сейчас мучается. Почему? Вам не понять. – Вазнин потоптался. – Несколько лет рядом с вами. Уйти из оркестра? В другом не лучше будет. Это в вас сидит, – старик подошел к двери и распахнул ее, в коридоре стояла еще в плаще Надя. – А сейчас уходите и никогда в этот дом не смейте являться.
Борис вскочил, прошел мимо удивленной Нади и выбежал на лестничную клетку, хлопнув дверью.
На следующий день, на репетиции, Борис старался не смотреть налево. Лишь краем глаза замечал согнутый локоть Нади, ее скрипку. Она вызывала в нем такое же раздражение, как раньше старик Вазнин. Сквозь нагромождение оркестра Борис смотрел на Раису, которая чувственно обнимала коленями светло-ореховое тело виолончели.
Вдруг распахнулась дверь, вошел Вазнин. Руки дирижера замерли, оркестр взвыл и замолк. Все уставились на старика. Он медленно шел к дирижеру, глянув безразлично на Бориса, сшиб чей-то пюпитр, пробормотал извинения. Гаревских ухватился рукой за пульт, шагнул вниз с возвышения. Вазнин приблизился вплотную, неожиданно нагнул голову, и, как бы ныряя, уткнулся в грудь дирижера, обхватил руками его за плечи. Лицо Гаревских затряслось.
Почему?
Рассказ из эпохи застоя
– Почему так много песен про любовь?.. И совсем мало о пионерах? – спросила меня Настя, десятилетнее создание, в котором природа небрежно смешала совершенство плавных линий, неистребимую любовь к магазинным пельменям и пристрастие к мудреным вопросам.
Она склонилась над моим письменным столом, чертит синим карандашом странный синий забор. Почти весь лист исчертила. Потом я догадываюсь, что это дождь. Сильный, стеной. Вчера как раз был такой. Копился часа полтора в мрачном небе, а потом захлестнул идущих с работы. Я успел вбежать под козырек автобусной остановки. Было душно от воды, потоком затянувшей воздух, тяжко пахла сырая одежда.
Настя рисовала июльский дождь, а ее родители, мои гости, сидели в углу комнаты. Они, кажется, приближались к выяснению отношений. Я к этому привык, только удивляла сосредоточенность, с которой они выполняли ритуал грядущий ссоры, и безразличие к моему присутствию.
Леонид отвернулся от жены и опасно наклонился к приемнику: с замиранием сердца я жду, что он вот-вот грохнется на пол да еще прихватит с собой приемник. Он крутит ручку настройки, ищет музыку, тонко подсвистывая носом. Рот его некрасиво приоткрылся. Леонид всегда начинает эдак подсвистывать, когда выпьет. Ира, точнее, Ираида, его жена, напряженно улыбается мне. А я читаю в ее глазах: мол, все отлично, этот грубый невежа в своем репертуаре, но мне какое дело. Ее улыбка становится все скованнее, но она продолжает рассказывать о подруге Анне, которая имела на меня виды когда-то:
– Кошмар, просто! Я ей говорю: причем тут я? С чего ты взяла? Сама все заварила, а потом обращается ко мне, как будто я больше ее знаю…
Краткое изложение ее рассказа следующее. Анна познакомилась с кандидатом наук, медиком сорока лет. На четыре года старше меня, отметил я про себя. Уникальные операции, пациенты со связями, выезды за границу на симпозиумы, конференции. Она, конечно, за него ухватилась, «на руках носила», что-то ему устраивала, организовывала. Стали они лучшими друзьями. А на девятое мая, на вечеринке, познакомила его с подругой. Ира ее не назвала, но я понял, кто это – я ее тоже знаю. После этого медик пропал, Анна рвет и мечет, а недавно в разговоре с Ирой по телефону вдруг спросила: как поживает медик?
– А я почем знаю? – спрашивает нас Ира, мы с Леней молчим. – Всего-то раз его видела или два.
В этот момент Леня в очередной раз набредает на первую программу радио. «Я люблю-у тебя-а…» – орет из динамитов певец. Звонит телефон, что-то кричит Настя, указывая в окно. Комната превращается в сумасшедший дом. Я иду к телефону, морщась от невыносимого ора. Почему так много песен про любовь?
Беру трубку. Прелестное создание сидит передо иной, смотрит на меня прелестными глазами, в них еще какой-то вопрос. Мы давно с ней приятели. Я ничего не слышу. Но вот Леня сжалился и сполз с первой программы, певец затыкается и уже орет для других. Ира оглушено молчит, а Настя все смотрит мне в глаза. Действительно, надо бы больше песен писать о пионерах, думаю я и повторяю в трубку: – Слушаю…
– Это Майя… Ты узнал? – едва слышно в трубке.
– Здравствуй. – Какая Майя, работы? Нет, не ее голос, да и зачем? Что-то знакомое. Вспомнил! – Привет! – Обрадовался я, все-таки узнал. Когда же в последний раз говорили с ней? Год назад? Раньше. Спешил тогда, она позвонила не вовремя. Зима была. На работе неприятности. А! Еще начальник отдела был жив: два года назад звонила, в середине декабря.
Она спрашивает, как я живу. Без особого энтузиазма рассказываю о всякой требухе мелких происшествий… Слава Богу, и у нее, кажется, отболело. Мучились мы оба. Кому было хуже?. Мне. Она страдала от любви, я – от нелюбви. Два года назад еще не остыло, а сейчас по голосу совершенно ясно – легко говорит, как с забытым приятелем. А еще раньше было совсем плохо. Во сне она улыбалась, а я часто просыпался, старался не глядеть на ее лицо, отворачивался, а потом сон долго не шел: думал все ей сказать. А как тут объяснишь? Не надо было начинать, но мог ли я устоять. И сам ведь решил: чудо свершилось, настоящее… На первые встречи, как ни пытался я опередить ее, она приходила раньше. Была оживленной, разговорчивой, а то взгляну на нее – и вдруг опустит глаза, крепко ухватится за мою руку и едва идет, смотрит в землю и молчит. А у меня голова кругом, чушь всякую несу, как мальчишка… Однажды, как всегда, проснулся среди ночи и услышал, что она плачет. Сказала, что я во сне стонал. Сказала, что, конечно, мы не должны встречаться, и она не будет ко мне приходить. Она плакала, а я ничего не ответил. Надо было, но не мог. Через день, в понедельник, позвонила мне на работу. Говорила так, будто нашего разговора не существовало. А я сказал, что срочно еду в командировку и встретиться не сможем. Потом три месяца сидел в командировке, благо, в это время испытывали новую связную аппаратуру в Аяне. Приехав, не звонил. Только через полтора года, в декабре, когда еще завотдела был жив, позвонила. Но я сделал вид, что ничего не помню и не понимаю.
Настя уже перестала на меня смотреть, начала пририсовывать внизу, под пеленой дождя, цветок с розовыми лепестками. На их тонкие язычки лил синий дождь. Майя рассказывала, что довольна работой, недавно прибавили зарплату. Начальство ценит ее, намекали о повышении в должности. И тема у нее перспективная, интересная даже: планирование внутригородских перевозок. Что-то в этом роде, как я понял.
Уже несколько минут Ира тихо говорила что-то Леониду – началось выяснение, – он упорно крутил ручку приемника. Ира не выдержала наконец и выпалила громко:
– Да оторвись ты от дурацкого ящика!
Тут же ящик загремел оглушительно, даже Леня вздрогнул.
Заупокойным голосом певица тянула: «Без тебя-а не могу-у…» Я ничего не слышал, делал жуткие глаза Ирине, кивал на Леню. Наконец он сжалился. Стало тихо.
– … у тебя музыка? – спросила Майя. – Так ты согласен со мной?
С чем? Что она говорила, пока приемник орал?
– С чем? – спросил я.
– Мне кажется, Володя, что у каждого из нас еще все будет. Правда?..
Ее голос еще звучит в трубке, Настя малюет бумагу, Ленька посвистывает носом в приемник, а Ира молчит с красным, злым лицом. Мучительно пытаюсь найти ответ. И отвечаю – кажется, пауза не успела затянуться до безнадежности:
– Конечно, и у нас все будет.
– Я тоже так думаю, – обрадовано звенит ее голос.
Да, все должно быть, должно. Что все?.. А-а, любовь, радость, маленькие дети, которые любят рисовать дождь и петь пионерские песни…
Я давно сижу в кресле у письменного стола, чтобы не мешать Ире и Леониду. Выяснение в разгаре. А у меня из головы не выходит разговор с Майей. Зачем я соврал? Опять смалодушничал. Ну что у нее может быть? Двадцать восемь лет, нудная работа, облезлые начальники, поджарая молодежь из другого поколения. На нее если и посмотрят, то на один вечерок, на время. А найдется мужик, то скорее – такие вот спектакли по выходным. Безнадежность… Она хоть раз помешалась от любви. А у меня что?.. Я вспоминаю Анну, смотрю на Иру с Леонидом – даже маленькой зацепки не нахожу для успокоения: мол, не сегодня, так завтра или послезавтра придет то, без чего так мы страдаем, ссоримся, мечемся…
Меня дергают за рукав, я поднимаю голову, выплываю из тягучих мыслей, вижу голубые легкие глаза Насти.
– Дядя Володя, – шепчет она мне в лицо, – ты не думай, они хорошие. У них только на работе все нервы вымотанные, – говорит она серьезно. Лицо ее сосредоточенно и строго: – А я тебя люблю. Ты не скучай, дядя Володя. Ладно?
– Я тебя тоже люблю, – говорю я. – Спасибо тебе.
Она успокоено отодвигается, а мне мучительно хочется вспомнить далекие песни. С нашей любовью так душно, одни сжатые зубы, угар. Сколько ни пой – не помогает. Мне кажется, нам всем не мешало бы вспоминать иногда давние песни. Есть в них какая-то чистота, доверчивость… любовь.
Рейс на Камбоджу
Все случилось из-за того, что жена старшего брата родила двойню. Брат был несколько ошарашен подарком судьбы, потому что к трехлетней дочке прибавилось еще две и в однокомнатной квартире, где они жили, можно было сойти с ума от писка на два голоса, к которым присоединялась и трехлетняя Ксения. На семейном совете было решено, что пока брат с семейством переберется в трехкомнатную квартиру к матери, а Петя, чтоб не путался под ногами, уединится в однокомнатной.
Когда Петя услышал об этом, внутри у него радостно проплыл сладкий холодок, как будто в жаркий день он проглотил оплавленный кусок мороженого. Он постарался не выдать своей радости и прикидывался внимательно-равнодушным, пока мать объясняла, как он будет жить: во сколько приходить домой, что есть из приготовленного матерью. «И чтобы никаких пьянок, друзей там и прочего…» – добавила мать, строго глядя ему в глаза. На слове «прочее» Петя чуть не выдал себя, но удалось упрятать радостную улыбку, а потом уткнулся в книгу: слепо скользил по страницам глазами и жадно прислушивался к разговорам о переезде.
В первый вечер на новом месте он приехал из института довольно рано. После лекций с приятелями зашел выпить кружку пива в забегаловку недалеко от института, поболтали о возможных поездках летом, о скорой дискотеке в клубе. Петя ни слова не сказал о квартире – приберегал на потом, после…
В десять часов позвонила мать. Петя с достоинством отчитался о своих делах, что на ужин ел, чем занимается. А потом сидел, развалившись в кресле, слушал бормотание телевизора, мечтал.
На третий день он привел к себе Аньку Мозгалёву. В Москву она приехала из Сочи, жила в общежитии. До Пети доходили слухи о ее веселой жизни и подробности, от которых замирало дыхание. Мозгалёва прихлёбывала из стакана вермут, дрыгала ногой в такт музыке, смеялась как-то горлом, мягко и нежно, запрокидывая голову, а потом быстро научила Петю нехитрым премудростям любви.
В десять позвонила мать. Петя, стараясь говорить четко и трезво, сказал, что все нормально, заниматься закончил, решил немного послушать музыку, и скоро спать. Мать что-то заподозрила, в голосе ее звучало сомнение, она медлила.
– Перед сном погулял бы, на улице хорошо, – сказала мать. – Снежок идет.
– Верно, – радостно ответил Петя. – Сейчас и пойду. Спокойной ночи, мам. – И положил трубку.
Мозгалёва осталась у него. На следующий день с тяжелой головой, сонный Петя приехал в институт ко второй лекции. Аня пошла отсыпаться в общежитие. Преподаватель назойливо маячил перед доской, чертил громоздкие формулы, а Петя клевал носом и изредка ухмылялся, вспоминая, что теперь он уже д р у г о й, он не подкачал и был «что надо», как выразилась Мозгалёва.
Она явилась к концу последней лекции, встретила его у дверей, и они направились гулять. Сначала целовались в кино, потом сидели в кафе. На квартиру приехали поздно, около часа ночи. Через пять минут задребезжал телефон. Мать спросила, почему так поздно. Объяснил, что занимался у однокурсника, готовился к лабораторке, затем детектив смотрели по телеку. Мать сказала, что приезжать надо раньше.
Через неделю, встретив Аню в институте, Петя сделал вид, что страшно занят: надо задания выполнять, и брать просил съездить в магазин за книжными полками.
– Как знаешь, плеер мой привези завтра, – поморщилась Мозгалёва, чмокнула в щеку и убежала, а Петя задумчивый поехал домой: Мозгалёва в дым прокурила квартиру – мать вчера сделала замечание, что накурено, еле отговорился, – иссякла стипендия, растаяли деньги, отложенные на летний вояж.
Через неделю получил стипендию, и в тот же день пригласил в кино девчонку, с которой познакомился на сдаче зачета по лыжам. Заметил ее, когда еще готовились к старту. Она робко стояла рядом с галдящими однокурсницами, молчала, улыбалась, когда они смеялись. После дистанции он предложил ей свою помощь и, отобрав тяжелые лыжи, донес до лыжной базы, а оттуда поехали вместе. Нравилась ее беззащитность, нежные губы на бледном лице, тихий голос. Звали её Женей, училась на первом курсе по специальности организация перевозок. От своих подруг отличалась: те смешливые, бойкие, а эта – тихоня. Пете нравилось командовать ею.
После кино привел домой. Она разогревала ужин, а он сидел в кресле и объяснял, где что лежит. Сухое вино пила маленькими глотками, морщилась. Петя решил, что она первый раз пьет вино и только потому, что боится отказаться. Когда он поцеловал ее, она часто грустно вздыхала, едва слышно назвала его милым. И ничему не воспротивилась, но в одиннадцать сказала, что ей надо домой: мама будет волноваться.
После такого успеха Петя возгордился. Когда, проводив её, ехал в метро, то даже снял шапку, так было жарко от ощущения победы, уверенности в себе, рассматривал свое лицо в темном стекле вагона. Уже понимал, как неотразимо действует на девчонок его упрямый крупный лоб, короткие вьющиеся светлые кудри, откровенный взгляд голубых глаз. Ему казалось, что есть в глазах нечто демоническое.
Мать опять позвонила за полночь, но Петя уже говорил с ней по-другому. Голос окреп, звучали твердые нотки, так что и не подступись. Мать от неожиданности забыла про упреки, выслушала очередное «объяснение» и попрощалась.
А весной грянула катастрофа. Пришел в час ночи с очередной подружкой, а дома сидела разъяренная мать. Молча взяла за руку девушку и вышла с ней из дома. Вернувшись, сказала, что отправила ее на такси домой, и что терпению её пришёл конец: «Завтра собирайся домой». Через два дня Петя с треском завалил первый экзамен. Хотел скрыть от матери, но она специально звонила в деканат и все узнала.
Жизнь Пети превратилась в сущий кошмар. Целый день занимался в одной из комнат, в соседней пищали дети, вечером мать читала нотации, спать приходилось на кухне. На пятый день возвращения домой стали звонить по телефону подружки. Мать не разрешала подходить к телефону. Сама снимала трубку, говорила, что Петя готовится к экзаменам. С каждый новым звонком и новым девичьим голосом, требовавшим Петю, лицо её сначала все сильнее хмурилось, а когда уже раздражение усилилось до предела, то появилась в лице легкая тень изумления. Даже когда по вечерам в который раз высказывала одни и те же упрёки, смотрела как-то с недоумением.
И во всём был виноват, как считал Петя, преподаватель с кафедры конструкционных материалов – Алфеев. Это он поставил двойку. Седой старичок с тонкими чистыми пальцами, слишком белой и дряблой кожей, которая морщинилась везде: на руках, щеках, шее. Старичок слушал то, что бормотал Петя, пытаясь ответить на вопросы в билете, без всяких эмоций смотрел на Петю тихими, безнадежно спокойными вылинявшими глазами, иногда, вяло разомкнув голубоватые губы, задавал новый вопрос – и Петя чувствовал, что катится в пропасть. В глубине души Петя уже ненавидел этого старого осла, который, конечно же, и не помнит уже, что такое женщина, и поэтому, думал Петя, с такой брезгливостью смотрит на Петю – сильного, красивого, заласканного девушками.
– Плохо, Зуев, – закончил их беседу Алфеев, взял сухими пальцами зачетку и вернул Пете, а потом вписал в ведомость «неуд».
– Александр Лаврентьевич, – как можно более просительно сказал Петя, – разрешите послезавтра пересдать.
– Вы не подготовитесь. У вас же еще экзамены. – Голос Алфеева звучал похоронно.
– А сразу за последним экзаменом?
– Не знаю, как с расписанием у меня. – Алфеев помолчал. – Так сделаем: договоритесь с моей ассистенткой. Запишите: Нарусина Вера Михайловна.
Остальные экзамены Петя еле вытянул на тройки. Друзья его разъехались, а ему предстояла пересдача.
В конце сессии зашел на кафедру, хотя подучить ничего не удалось. Спросил Алфеева, оказалось, он заболел, тогда Петя назвал фамилию Нарусиной. Парень, что объяснялся с ним у дверей, махнул куда-то в сторону окна и умчался. Петя увидел сидящую спиной к нему женщину. Поскольку больше никого рядом не было, Петя направился к ней. Она, склонясь над столом, что-то писала.
– Извините, Вера Михайловна? – спросил Петя.
Она повернулась и сказала, что слушает. Петя автоматически стал выкладывать заготовленные фразы, а сам внимательно разглядывал её лицо, тайно ощущая блаженство – настолько неожиданным было увиденное. Вера Михайловна оказалась очень молодой женщиной, в её лице все было правильно, почти совершенно: полные бледно-розовые щеки, которые, как уже знал Петя, так хорошо гладить ладонями; большие темные глаза, они ласково грели, сочувствовали; ресницы наивно-строгие, губы крупные, влажно поблескивающие, под короткими черными волосами видны были розовые мочки ушей. Из-под строгого темно-синего жакета выглядывал ворот белой блузки, облегающий нежную шею.
– Ваша фамилия? – спросила она.
– Зуев.
– Да, кажется, Александр Лаврентьевич что-то говорил мне, – она наморщила строго лоб, повернулась к столу, взяла исписанный лист бумаги и сказала, не глядя на Петю: – Вы готовы?
– Да, – выдохнул Петя.
– За что вы двойку получили?
Петя объяснил, с трудом вспомнив вопросы билета. Она велела подготовить эти темы и еще продиктовала вопрос.
Петя сел за соседний стол, лицом к Вере Михайловне и, пока она работала, списал все из учебника. А потом он смотрел на нее, мучительно соображая, как с ней познакомиться. Решил, сначала сдать экзамен, а там – будь что будет.
Он увидел, как дрогнули её ресницы, но она не сразу повернулась к нему – помедлила.
– Вы готовы?
Петя молча кивнул. С грехом пополам он стал выкладывать все, что успел понять из учебника. Она слушала, иногда согласно качала головой, потом задала вопрос по другой теме. Петя поплыл, начал говорить вздор. Вера Михайловна небрежно поморщилась и остановила его.
– Тройка, – сказала она и вписала оценку в зачетку. – Вы свободны, но надо серьезнее заниматься.
Петя сидел не двигаясь, она ждала, её щеки вдруг порозовели. И Петя начал решительно, помня вывод, в который твердо уверовал за последние месяцы: женщину надо брать приступом, не давая ей опомниться.
– Вера Михайловна, во сколько у вас работа кончается сегодня?
– А в чём дело?
– Я провожу вас, – решительно сказал Петя, глядя в глаза Нарусиной, от чего голова его немного кружилась.
– В этом нет необходимости. – Она выпрямилась и вдруг встала и добавила: – Идите, у меня дела.
Вечером, около пяти, Петя Зуев сидел на лавочке в скверике у входа в институт. Он собрался дождаться ее во что бы то ни стало, первая неудача нисколько его не разочаровала. Тем более, что он знал, как переменчивы женщины, и стоит лишь немного подождать, и они уже жалеют об отказе. Он увидел её, когда почти отчаялся. Он даже вздрогнул – так хороша была её ладная фигура: маленькие плечи, длинные стройные ноги. Шла она как-то независимо, немного высокомерно подняв лицо, смотрела равнодушно, невнимательно.
Петя быстро прошёл вперед и сел на ограждение подземного перехода, чтобы попасться ей по дороге. Она заметила его, когда он спрыгнул с ограждения и вытянулся перед ней, высокий и ладный. Она оказалась чуть ниже его, смотрела сердито. Попыталась обойти его молча, но он двинулся рядом.
– Я провожу вас.
Она резко остановилась, улыбнулась и сказала:
– Чтобы не было недоразумений, Петя, вас так, кажется, зовут. Вы нисколько меня не интересуете. Могу вас уверить. Вас, похоже, избаловали ваши подружки. Не смейте идти за мной! Или я устрою скандал. Я могу, – добавила она серьезно и быстро пошла.
Он громко рассмеялся, было досадно, даже крикнул ей вслед:
– Подумаешь, невидаль.
Настроение было немного испорчено. Он был уверен, что она просто воображала – мол, студент ей слишком мелко, – рано или поздно ему удастся ее переломить, и она сделается как все: будет рада его ласкам и станет такой, какой он захочет.
Дома его ждала большая радость. Сначала мать около получаса читала ему нотации, что надо быть взрослым, ответственным человеком и прежде всего выполнять главную свою задачу: хорошо учиться. А под конец она сказала, чтобы он завтра переезжал в квартиру брата – уж очень тесно.
– Но смотри, – предупредила она строго. – Если что, опять вернешься, тогда уж всё.
Петя слушал равнодушно, он теперь знал себе цену, да и квартира не так уж была необходима: достаточно девчонок, которые всегда могут найти свободный угол. Он ещё подумал, почему мать не доверяет ему, не хочет понять, что он стал мужчиной и не нуждается в мелкой опеке. Если что, то и самостоятельно проживет.
На следующий день он позвонил Веронике, с которой неделю назад познакомился в институтской столовке. Пригласил её к себе. Дальше все шло как обычно. Правда, с досадой отметил про себя, что все время сравнивает Веронику с Нарусиной. Раздражало то, что девчонка явно проигрывала, хотя была недурна собой и кое-что умела неплохо. Но… стыло в её глазах какое-то равнодушие, даже скорее отчужденность, как будто не сам Петя её интересовал, а то, что он умеет делать с ней – и больше ей ничего и не надо.
А среди ночи Петя вдруг затосковал – так опустошенно и холодно стало на душе. Ему показалось, что он совершенно один в безграничном ночном мраке. За окном сиротски лепетала листва деревьев, холод полз от раскрытой форточки, пахло сыростью холодных июньских дождей, и рядом едва слышно посапывала во сне женщина, которая, в сущности, ему совершенно безразлична. Безразличны были и почти все предыдущие, помнилось лишь волнение первых дней, боязнь проштрафиться. А теперь знал, что опасения – пустяк, а страшно другое – чувствовать рядом холод отчуждения, тоску одиночества. Он представил, как ему казалось, всю землю: города, далёкие деревни, погруженные в сон, – представил длинную бесконечную череду таких же ночей. И почудилось ему, что каждый раз придёт к такой же безмолвной минуте, когда защемит сердце от необъяснимой обиды.
Раньше его нисколько не удивляла лёгкая циничность подруг, и сам был уверен, что надо быть насмешливым, грубым, потому что современный человек должен освободиться от разных глупостей, стать весёлым и успешным – это главное. А тихая Женька не в счёт, да она и сама, думал он, страдает от своих стыдливых комплексов.
А сегодня он почувствовал укол обиды, когда Вероника беззастенчиво и слишком равнодушно скинула одежду, обнажила перед ним своё цыплячье некрасивое тельце, юркнула в постель и слишком требовательно глянула на него. Он никак не мог забыть своей брезгливости. Она и сейчас мутила душу и не давала заснуть.
Утром, открыв глаза, он увидел её у стола, на котором стояли грязные чашки, лежали вчерашние засохшие куски хлеба. Полуодетая Вероника жадно грызла мелкими зубками желтый кусок сыра.
Пока одевались и собирались, Петя старался не встречаться с её глазами, дал себе слово никогда ей больше не звонить. Она сначала болтала всякий вздор, но, почувствовав, его неприязнь, замолчала и, кажется, обиделась.