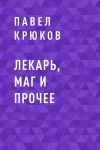Текст книги "Любовь олигархов. Быль и небылицы"

Автор книги: Александр Викорук
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 7 страниц)
Харон из деревни Стиксово
– Дядя Миша, вы – Харон, – проговорил радостно маленький очкастый шкет в цветастой майке безрукавке, мятых шортиках и сандалиях на босых покарябанных ногах. Его карие глаза, словно две вуалехвостки, плавали в линзах очков для дальнозоркости.
– Ты, – поперхнулся Михаил, мужик за пятьдесят, безнадежный алкоголик, – чего ругаешься?
Качнувшись, Михаил хотел обойти мальчика, но тот заступил дорогу.
– Харон – это не ругательство, – жизнерадостно сообщил мальчик, – это мифический человек у древних греков, он сопровождал умерших в царство мертвых. А бабушка говорила, что вы пили с дядей Васей и дядей Толей. Они потом умерли.
– Мели Емеля, – отмахнулся Михаил.
– Игорек, – окликнула мальчика бабушка, – не мешай дяде Мише.
Михаил наконец обогнул мальчонку и двинулся к мастеровым, которых дачники наняли поправить покосившееся крыльцо. Михаил вручил мужикам свой домкрат и повалился на сочную майскую траву подождать, пока мужики принесут от хозяйки деньги за пользование домкратом. А деньги нужны были позарез для опохмелки.
Об этих событиях до сих пор судачила вся деревня. Василий, друг и собутыльник Михаила, сгорел в самом начале апреля, когда только-только сошел снег, обнажилась земля в неприглядном соре прошлогодней травы, примятой и раздавленной зимними снегами. Днем яркое солнце гнало полноводные мутные ручьи, а ночью чистое небо высасывало тепло земли и жестокий мороз все белил инеем. Да, выпивали они у Василия, но провожал как раз Василий Михаила. Михаил с трудом, но помнил, как обнялись у навечно распахнутой калитки. Дальше память отшибло, проснулся Михаил на полу возле кровати жены, долго не мог очухаться и добраться к ведру с водой. А потом вошла жена и сказала, что под утро загорелся Васькин дом, были пожарные, тушили, и Васька сгорел. А с Толькой они пили на задворках магазина накануне первого мая. Сидели на смятом картоне от коробок под яблоней, на ветках которой уже набухли цветочные почки. Толька говорил, что скоро будет отмечать семьдесят лет, что его старший сын собирается купить иномарку, будет таксистом на ближайшей станции.
Тишина была звонкая, ночной воздух прозрачный, звезды яркие, казалось даже, долетел издалека гудок московской электрички. И светляками поднимались огни самолетов с подмосковного аэродрома, потом из глубины неба долетал приглушенных бас двигателей. Огоньки чертили небо дальше, и гул стихал и таял бесконечно в тишине.
Анатолий вздохнул и затих. А Михаил долго лежал в полубеспамятстве, медленно проворачивал мысль, что надо будет прийти к Анатолию на юбилей, пытался сказать об этом, бормотал бессвязные звуки. Потом нахлынуло чувство одиночества, словно его все оставили, он пытался нашарить в темноте Анатолия, и тут так потянуло домой, к теплу, на мягкий матрац у окна, что собравшись с силами Михаил поднялся по стволу яблони, выровнялся, и привычной дорогой поковылял к дому. Никого он никуда не провожал.
Утром он зашел к Ивану Мельникову, и вместе они двинули к магазину, где продавщица с причитаниями сообщила, что Анатолия нашли утром под яблоней мертвым. Приезжала машина с врачом, сказала – инфаркт.
– Ты же с ним был, Мишка, – выпалила продавщица и сверлила его глазами. – Жена Толькина кричала – ты виноват, бросил его.
– Никого не бросал, – оправдывался Мишка, – ушел он. Один был.
– На тот свет ушел, – резанула продавщица…
Деньги на бутылку наконец принесли. Можно было двигаться к магазину. Примяв сочные листья одуванчика, Мишка первым делом поднялся на четвереньки, потом шатаясь кое-как оторвался от земли и нетвердо выпрямился.
Мальчик на этот раз копошился у кучи песка с игрушечными автомобилем и не обратил внимания на Михаила.
Все дело в том, что Василий курил. Михаил давно бросил курево, потому как если на бутылку денег еле наскребешь, то какое еще курево. Он и Василию об этом говорил. Но тот бил себя в грудь и говорил, что его чуть не убили в Афгане, и может позволить себе кайф закурить, и никто пусть не перечит.
Михаил и сейчас согласился бы с ним, но тут его доконала мысль, что, если бы не курево, шел бы он сейчас с Васькой в магазин. Как было бы весело им, хорошо сидеть на пахучей весенней травке, соловья бы слушали, по стакану опрокинули бы. И мотался бы соломенный чуб по потному лбу Василия, и он снова сказал бы, что похож на Сергея Есенина. А теперь и чуб сгорел, и хоронили в закрытом гробу, и лежит он на горке, на кладбище, которое видно, почитай, в деревне отовсюду.
По дороге остановился около участка Василия. Теперь здесь командовал его племянник. Невысокий, рыжие короткие волосы, толстые щеки, нос с веснушками. От кучи мусора вместо бывшей избы-развалюхи уже давно ничего не осталось, бригада работала споро. Уже зиял котлован, выложены блоки фундамента, обозначив устройство подвала. Только в углу участка торчал старый сарай, который закрывала бытовка строителей. Земля была перепахана колесами строительных машин. У самого забора из перемешанной земли торчали мятые головки тюльпанов. И рядом сломанный ствол старой сливы. Еще осенью вместо закуски Василий совал Михаилу мягкие светлокожие сливы, которые под зубами разливались сладким соком.
– А сарай как? – спросил Михаил стоявшего недалеко племянника.
– К чертовой матери клоповник…
«Может, все к чертовой матери?» – вспомнил и повторил про себя Михаил, когда уже с бутылкой стоял у дома Мельников. Хребет дома бессильно прогнулся, кровля обветшала и лохматилась по краям, пыльные окна, словно бельма, незряче отражали дневной свет. Михаил представил вместо рухляди новый двухэтажный особняк с отутюженной кирпичной кладкой, хрустально ярким стеклом пластиковых окон, с красными склонами новой металлической крыши. А рядом с домом сверкающий «Мерседес».
Дверь была открыта, видно, Мельников снова не пошел на работу. И верно, Иван сидел развалясь в засаленном кресле, вытянув ноги чуть ли не до середины комнаты, рядом на ящике стояла бутылка коньяка. Работал он на ассенизационной машине.
Увидев гостя, Иван обрадовано вскрикнул.
– Вань, а когда-то здесь «Мерседес» стоять будет, – вместо приветствия сказал Михаил. – А нас всех на кладбище. Веришь?
– Хрен им. А кто их говно вывозить будет? – загоготал Иван. – Без меня им каюк.
– Из Туркмении выпишут.
– А где туркмен говновозку возьмет. Я свою приватизировал, а новая, знаешь, сколько стоит?
– А они, новые-то, в складчину купят да рабов наймут.
– На мой век хватит, – спокойно ответил Иван и зажег сигарету.
– Бросай курить, Ваня, – Михаил вспомнил Василия и забеспокоился. Он пристроился в старое инвалидное кресло, которое осталось от отца Ивана.
– Я скоро на сигары перейду, – с улыбкой проговорил Иван.
– Ты знаешь, дома, дома чисто спички горят.
– У меня пепельница не сгораемая, – Иван кивнул на обитый грязный таз с коричневой водой, в которой плавали размякшие окурки. – И пожарный щит оборудован, – с хохотом добавил он.
– Ты уж поосторожней, – робко проговорил Михаил.
Тут тоненьким голоском засигналил сотовый телефон. Иван небрежно полез в нагрудный карман.
– Алло, – сказал Иван и нахмурясь долго слушал. – Все понял, Семен Семеныч, пятнадцать тысяч – и лады, пою у ваших ворот серенады. – После паузы добавил непоколебимым голосом. – А что мне делать, бензин-то дорожает… Все, поладили. – Он кинул телефон обратно в карман. – Завтра на дело наше правое. Дорого, говорит. А ты попробуй дешевле от говна избавься.
– Да, – протянул Михаил, – изрядно выходит.
– Ничего, для них это раз плюнуть, – Иван подтянулся в кресле. – Они, понимаешь, все наши денежки прикарманили, миллиарды. А нам, получается, свое говно оставили. Вот, пускай делятся. – Он громко засмеялся, снова откинувшись на спинку кресла.
От стакана коньяка Михаила сразу развезло. Он поник в инвалидном кресле, откинув голову набок, глаза закрылись, и в голове потекли смутные несвязные видения. Тут ему почудилось, что он сидит в лодке, качается на мелкой волне, блаженное тепло обнимает со всех сторон. И, словно голос матери в детстве, волны лепечут ласковые слова. Проспишь, Миша, послышался явственно голосок. Он увидел мужика в длинной рубахе, который греб одни веслом, чему Михаил тихо подивился. Потом беспокойство охватило его. Не туда, не туда, старался сказать Михаил. Небо потемнело, гуща ветвей надвинулась, тиной болотной запахло. Правь к солнцу, к людям, старался выговорить Михаил. Нам в другое царство, донеслось от мужика, который даже не повернул головы. Конец, Миша, отмучался, теперь другие пусть мучаются.
Михаил открыл глаза полные слез. Иван полулежал в кресле с закрытыми глазами. В его руке тлела сигарета. Михаил попробовал подняться, но голова закружилась. Он снова дернулся – все качнулось, и он поплыл по полу, со страхом ощущая, что сон продолжается, и он плывет в бездну, не может затормозить. Наконец его осенило, что он в инвалидном кресле отца Ивана. Он даже вспомнил, как тот стремительно ездил по огороду, сильными руками вращая колеса, и специально проложил дощатый въезд в дом.
Михаил схватился за колеса, подъехал к Ивану, взял у него из пальцев сигарету и бросил в коричневую воду в тазу. Иван открыл глаза.
– А, Мишка, включился, – сказал он радостно. – А тут еще слетаем за бутылкой. Ну, отдохнул? Давай примем понемногу.
Когда за окном собрались поздние майские сумерки, Иван уже изрядно нагрузился. Михаил решил, что пора уходить. Он увидел, что в бутылке еще осталось граммов сто, потянулся допить, но увидел у Ивана дымящую сигарету и остановился. Он аккуратно вынул сигарету и бросил в таз. С трудом поднялся из инвалидного кресла, дошел к двери и затормозил. Вернулся к ящику, взял пачку сигарет и отнес подальше на подоконник. Очень довольный своей предусмотрительностью вышел на улицу. У самой калитки вспомнил, что Иван часто хвалился, что у него всегда при себе бутылка, пачка курева и спички. Набор старого русского, как он говорил.
Михаил вернулся. Бутылка была на месте, пачка сигарет – на окне. Михаил увидел, что нагрудный карман рубашки на Иване топорщится. Пощупал и достал из кармана спички, отнес их тоже к окну.
Тихо посмеиваясь, Михаил вышел в темноту майской ночи. По всей округе бойко выпевали соловьи. Всё вокруг радовалось жизни, каждая травинка трепетала и наливалась соком. Благоухала невидимая в темноте сирень.
В доме уже все спали. Михаил зажег в сенях свет и открыл дверь в дом, чтобы видно было и никого не будить. Войдя он увидел, что жена сидит на кровати и смотрит на него.
– Наконец-то, опять с дружками, – горько сказала она. – Живой еще. Каждую ночь думаю, живой придешь или утром головешки разгребать надо.
– Не плачь, Светка очей моих, – вспомнил Михаил свою старую приговорку. – Живой еще.
– Ты что, – удивилась она, – даже трезвый?
– Так, немного, – радость накатила на сердце. – Хорошо все так.
Он лег на матрац и затих. В груди заломило от радости за жену, за спящую дочку. Вспомнил, как на днях утром дочка, едва проснувшись, прошептала: «Папа, я люблю тебя». Он подумал, что завтра будет погожий солнечный денек, будут петь соловьи. Он пойдет к Ивану, будут толковать о жизни…
Проснулся Михаил раньше всех, его словно толкнула в сердце большая радость. С улыбкой он ополоснул лицо и вышел в свежее, ясное, умытое утро. По тропинке шел мурлыкая простенькую песню, что, мол, нас утро встречает прохладой. Быстро дошел к дому Ивана. У забора словно споткнулся. От верха двери медленно кольцами тянулись струйки дыма. «Тушить, успею», – застучало в голове. Он подскочил к дому, рванул дверь.
Мрак густой зашевелился дымом, загустел, воздух стал заливаться светом. Иван темным силуэтом сидел посередине, его черные глазницы смотрели смертью. Воздух взорвался огнем, вспыхнул огненный нимб горящих волос. Мощное дыхание гудящего огня рванулось на Михаила. Отброшенный пламенем Михаил рухнул навзничь на землю. Дом весь застонал, зашевелился, завыл струями пламени. Столб огня вырвался и ударил в небо. С ним улетела душа Ивана.
Жить хочется
Лето. Так ждешь его, торопишь, радуешься каждой примете прихода и обновления: теплу, яркому солнцу. Птицы летят, почки распускаются… А оно накатило, все украсило зеленью, цветами. И вот нет его уже. Иссохли прежде сочные травы, погасла радуга цветов, все стало серым, бурым, черствым.
Теплый августовский денек медленно погас, загорелись редкие фонари на тенистых улицах дачного поселка. Никита Гончаров решил прогуляться. Закрыл дверь, у калитки отвел склонившиеся ветви жасмина и очутился на тропинке. Впереди заметил знакомый силуэт девочки.
– Здравствуй, Света. Гуляешь? – Тут Гончаров увидел рядом с девочкой собачку на поводке. Собачка встала, потянулась к нему, вежливо принюхиваясь.
– Хотела к вам зайти, – сказала Света.
– А что у калитки стояла?
– Так. Не знаю.
– Тогда пойдем, пройдемся.
Они молча шли, собачка тянула поводок, иногда прислушиваясь к лаю собак у домов.
– Скоро в школу, – вздохнула девочка.
– Как папа?
– Уехал в Москву. Работа.
– А что грустная такая?
– Папа не разрешает Шнурочка в Москву брать.
– Куда же вы его? – спросил Гончаров.
Света шла, опустив голову, молчала, потом наклонилась к собаке, стала гладить по голове. Собака облизывала ей руку, норовила лизнуть в лицо, крутила радостно хвостом, заметая пыль на дорожке.
– Дядя Никита, – заговорила Света сдавленным голосом. – Возьмите Шнурочка на зиму. Я буду помогать вам гулять с ним.
Тут события дня соединились. Гончаров вспомнил дорогу, газующую машину и собаку, изо всех сил бегущую за машиной. Лицо ребенка, расплющенное о заднее стекло машины. Как он тогда не узнал их?!
– Я буду гулять с ним, – жалобным голосом повторила Света.
– Договорились, – успокоил ее Гончаров, хотя сразу задумался о хлопотах: корм, выгуливание.
– Вам надо поводить ее. Он должен привыкать. – Света сунула ему в руку поводок.
Собака забеспокоилась, а Света обняла ее и прижала к груди голову собаки.
– Она так же хочет жить, как и я? – спросила тихо Света. – Шнурочек…, ты хочешь жить? – Конечно, – подтвердил Гончаров, ощущая, как рвется из его руки поводок.
– Дядя Никита, а как познакомились вы с тетей Машей? – спросила Света, склоняясь лицом к собачьей голове.
– Учились вместе.
– И с папой учились?
– И с папой тоже.
Они уже шли по едва видимой в темноте узкой улочке между дачными участками. Гончаров держал поводок, а собака жалась к девочке. Учились они вместе, но в разных группах. Гончаров лишь отмечал про себя, что есть такая девушка на курсе. Милое девичье лицо, не броская, тихая.
– А вы сразу полюбили друг друга? – спросила Света.
– Не сразу.
– А как это получается? Вот были так просто, а потом взяли и полюбили.
– Не знаю. Видели друг друга. – Гончаров вспомнил, как в начале весны сдавали зачет по лыжам.
– На время на лыжах бегали, а потом, – вспомнил Гончаров, – помог лыжи нести. Шел и думаю, какая интересная девушка. На вид – тоненькая, слабенькая. А лучше всех девчонок наших пробежала… Оказалось, она до института в секции лыжной занималась. Мы еще смеялись с ребятами. Девчонки, как коровы, на лыжах. А Маша встала на лыжню, оттолкнулась палками – и полетела.
– Прямо как птица? – обрадовано воскликнула Света.
– Как птица! До сих пор помню.
– А в жизни всегда так бывает? – Света остановилась, смотрела на Гончарова и ждала ответа.
– К сожалению, не всегда. – Он вздохнул. – Мы ведь по земле ходим в основном. Летаем редко…
В тот день Никита пошел провожать Машу. К вечеру небо прояснилось, яркое солнце пряталось все ниже за домами, а небо становилось пронзительно голубым и холодным. В тот вечер они поцеловались.
К весенней сессии Аркадий, приятель Никиты, сообщил, что, оказывается, отец Маши преподает в институте и стал завкафедрой. Аркаша активно и заинтересованно расспрашивал Никиту, как у него дела с Машей, чего было, чего не было. Стал подначивать, что, вот, у него теперь своя рука в институте. Потом как-то издали Никита видел, как Аркаша после занятий шел обняв Машу за плечи. Это было явно свидание. А через неделю, как бы неловко и сбивчиво Аркаша стал объяснять путано Никите, что сама Маша стесняется сказать, просила передать ему, что сейчас готовится к экзаменам, времени нет, и вообще лучше пока Никите не звонить. Никита понял и не звонил и старался не попадаться навстречу Маше, в себе переживал разлад. Прошел год, казалось, все забылось, только мельком дошло до него, что отец Маши скоропостижно скончался от аневризмы аорты. А потом как-то почти столкнулся с Машей в институтской столовке. Сели обедать за один стол, неловко молчали. Маша первая заговорила решительно:
– Аркадий мне сказал, что ты собираешься жениться.
Никита поперхнулся от неожиданности.
– С чего это он выдумал? – наконец спросил он. – А я думал – вы уже жених и невеста.
– Да, – усмехнулась Маша, – он был очень назойлив. О тебе всякие гадости говорил. Правда, после смерти папы, он с трудом узнает меня.
Гончаров до сих пор помнил ее лицо. Как он мог поверить вранью Аркаши? Ведь хорошо знал его пристрастие к вранью. Не раз ловил на лжи. А тот, широкоплечий, с сильными, короткими руками, только смеялся, приговаривая: «Главное – успеть отжаться, а если не отжался – в морг». Его любимая поговорка. И сейчас тошно вспоминать, думал Никита…
– А как же другие? – спросила Света.
– Что другие?
– Которые не летают.
– А-а, – усмехнулся Гончаров, как не похожа была Света на Аркашу, вся в мать. – Они, может, в чем-то другом удались. Вот, папа твой – гениальный хирург.
– А вы?
– Я, получается, гениальный патологоанатом. – С усмешкой сказал Гончаров.
– А это что?
– Увы, я подвожу итоги жизни, по гамбургскому счету. – Ответил Гончаров сам себе. – Если серьезно – изучаю причины смерти.
– От чего люди умирают? – тихо спросила Света.
– Не от чего, – а для чего, – усмехнулся Гончаров. – Чтобы жизнь всегда была молода и прекрасна. – Он провел рукой по голове девочки. – Ты видела, как красивы цветы. А когда семена созрели, растение уже не нужно. Вот, и у Шнурка так будет. Появятся маленькие Шнурочки, и он уже не нужен будет.
– Это не справедливо.
– Просто все мы в жизни ошибки совершаем, – задумчиво произнес Гончаров. – В какой-то момент ошибок становится слишком много. Исправлять их уже трудно. Лучше дать шанс молодости.
Список ошибок, подумал Гончаров, бесконечен. И все предстают перед глазами. Маленькие, усохшие старушки. Это святые. На столе патологоанатома они предстают почти бесплотными, словно стесняются, что причинили ненужные хлопоты. Всю свою былую плоть отдают детям, внукам. Умирают в тишине, ночью, незаметно, чтобы не беспокоить, не испугать. Словно из пустого дома, уходит жизнь беззвучно и скромно. Плоти нет, лишь последние такты часов – сердца. Все прочие – грешники. Следы разрухи и распада, гниение при жизни, полной порока. Переродившиеся, забитые мертвой соединительной тканью органы. Энциклопедия пустой страсти: алкоголь, переедание, табак – и так далее. Здесь все – ничто. Деньги, власть, сладострастие – все к распаду. Спадают одежды, прикрывающие ничтожное тело – и все тайное становится явным. А справедливость? За что страдания? Многолетнее угасание от паралича, распада личности. Смерть порой так же жестока и бессмысленна, как выдуманный человеком бог, всемогущий только бесконечно созерцать мученья сломанной машинки жизни, которая не может ни жить, ни умереть. Конец жизни определен так же жестко, как и ее начало. Надо лишь только не мешать: ни жизни, ни смерти.
Почему люди умирают…
В сентябре Шнурок перебрался к Гончарову. Никита исправно утром и вечером выходил с собакой во двор, обходил все закоулки, вдыхал влажный осенний воздух, который даже в городе все больше насыщался ароматами увяданья. Через несколько дней Гончаров обнаружил, что уже не может без этих прогулок. Каждый раз улица встречала чем-то новым, то солнце ранним утром высветит золотом остекленную высотку в проеме между домов, или туман наполнит прохладной дымкой еще не проснувшуюся улицу. А по вечерам, бывает, пройдет легкий дождь, заблестят на асфальте лужи, потемнеет земля на газонах.
Почти всегда на вечерние прогулки приходила Света. Пожалуй, она не уступала собаке в радости и восторгах от их встреч.
В один из вечеров конца сентября Света не появилась в обычное время. Гончаров решил, что она запаздывает и часто глядел в ту сторону двора, откуда обычно подходила Света. Ему показалось, что и собака тоже часто и насторожив уши глядит в ту же сторону.
– Наверное, не придет, – сказал Гончаров, и ему показалось, что собака поняла его и поэтому оглянулась.
Рядом зашелестела шинами и остановилась машина. Водительское стекло поехало вниз. Он увидел Аркашу.
– Привет, Никита, – сказал он. – Светы сегодня не будет. Чего-то сегодня в клинике не видел тебя. Ты заходи.
– Работы много было, – пояснил Гончаров, жалея, что привычная прогулка не состоится.
– Ты знаешь, – говорил Аркаша как обычно скороговоркой. – У нее в музыкалке занятий много. Утомляется. Короче, она гулять с собакой больше не будет.
Шнурочек стоял рядом, радостно вилял хвостом и тянулся к автомобилю, узнав Аркашу. – Не думал, что возьмешь его, – с улыбкой говорил Аркаша. – Зачем он тебе? Давно усыпил бы его.
– Ты Свете это говорил? – спросил Гончаров.
Ты что, – рассмеялся Аркаша. – Это мы – боги над тварью дрожащей. Она, представляешь, маленькая была, возьмет муравья и спрашивает: «Папа, он тоже хочет жить?» И отпускает. Бабочка сядет на цветок. «И она тоже хочет жить?» Умора. – Он глянул на собаку. – Что хвостом вертишь? Не заработал еще на жизнь? Жизнь сейчас штука дорогая. – Он погладил рукой руль. – Машина, дача, столь денег надо. Да-а, – он вздохнул, – надо было, Никита, в хирурги, к нам пробиваться. На трупах не заработаешь. Жизнь – она дороже. Когда прижмет – все готов отдать… – Он усмехнулся. – Правда, когда пронесет, узнавать перестают. Только голь перекатная благодарит, да за здравие свечки ставит. Жизнь стоит огромных денег.
– Деньги, товар, деньги, – проговорил задумчиво Никита. – Так классики говорили?
– Точно.
– Моя тетка отдала почку своему сыну, – сказал Гончаров, – его спасла, а сама потом умерла.
– Ну, – пробурчал Аркаша, – это родственники.
– Значит, не всеобщий закон?
– Любишь ты философии. Будь здоров! – Аркаша махнул рукой, и машина укатила во тьму.
Двоюродный брат Вадим был почти одногодком с Никитой. Жили они в дачном поселке. В детстве был отличный наивный и добрый парнишка. Тетка нарадоваться на него не могла. А потом упекли его в армию. Письма приходили редко, тетка вся изводилась, а дальше месяца два – ни одного письма. Оказалось, затравили его в части, едва живой попал в госпиталь, лежал там три месяца. Комиссовали инвалидом с больными почками. Домой вернулся раздавленным задохликом. Начал пить, пока не оказался в больнице. Врачи сказали, нужна пересадка почки, доноров нет. Тетка и отдала свою. Парень выжил, а тетка через полгода от переживаний слегла и умерла. Гончаров помогал в похоронах, старался помочь брату. На сороковой день заехал к нему. Вадим долго молчал, потом очнулся и проговорил:
– Во мне ее жизнь. Теперь знаю, зачем живу.
С тех пор Вадим изменился неузнаваемо. Нашел в поселке неброскую девушку, женился. Нашел подработку к пенсии, стал привозить местным жителям лекарства на заказ, потом выучился на фармацевта, открыл палатку – аптеку. Два раза его палатку грабили, так он стал ночевать в палатке. Родились у них две дочки. Однажды сказал Никите, что мать жива, пока он жив…
Гончаров собрался уходить домой, как из темноты вынырнула Света. Она сразу потянулась к собаке, и пару минут было слышно, как они повизгивали от радости.
– Твой папа сказал, что ты не придешь, – проговорил Гончаров.
– Он не разрешает ходить к вам.
Света выпрямилась, и они пошло рядом.
– Я точно знаю, – воодушевленно сказала она. – Пока я жива, жив и Шнурочек. И пока он жив – я тоже жива. Я знаю, чувствую. Летом, знаете, – стала рассказывать она, – я сплю утром, а Шнурочек сидит у кровати и смотрит на меня молча. Как только глаза открываю – он кидается ко мне обцеловать. Такая радость, счастье. У нас жизнь одна на двоих.
В разгар зимы, в конце декабря, морозная погода сменилась оттепелью. Второй день шел снег. Машины вязко месили снежную грязь, мутно светили фары во влажном воздухе. Около десяти едва белело мутное небо, да так полусвет опять сменялся тьмой. В такую погоду тяжелые больные не выживали. Гончаров томился за оформлением документов. Ближе к вечеру понес бумаги завхирургией. У самых дверей кабинета столкнулся с Аркашей. Его лицо было белее халата. За ним из дверей кабинета, сминая все, выдвинулись низенький мужик с бульдожьим лицом и колючим взглядом, за ним низколобые битюги с бритыми головами. Аркаша сначала будто не узнал, потом спохватился.
– А, Никита, – узнал он, – у тебя группа крови какая? – спросил.
– Вторая, плюс, – сказал Гончаров.
– Не то, – досадливо поморщился Аркаша. – Экстренная операция, нужна кровь. – Он покосился на мужика с бульдожьим лицом.
– Будет, – процедил тот, и бритые головы согласно кивнули. Сминая все они двинулись дальше.
Гончаров засиделся допоздна. Уже оделся уходить домой, как вошел санитар.
– Там девчонку привезли. Скорая с улицы взяла. Потеря крови. Будете смотреть или завтра?
– Посмотрю, – смиренно ответил Гончаров.
Переодевшись в секционную. Откинул простыню. Перед ним на столе лежало щупленькое тельце Светы. На голове запеклась ссадина, на сгибах обеих рук Гончаров нашел проколы вен. Он вернулся в кабинет и набрал номер Аркаши.
– Тебе надо зайти сюда, – сказал Никита.
– Сейчас не могу. В чем дело?
– Обязательно. Готовься к худшему.
Через несколько минут в дверь влетел Аркаша.
– Что случилось? – едва промолвил он.
– Туда, – махнул рукой Гончаров.
Он вошел следом за Аркашей. Тот уже стоял молча у стола, потом его ноги подкосились.
Гончаров вышел, через открытую дверь доносились невнятные глухие вскрики. К утру Аркаша появился в дверях, его шатало, глаза ничего не видели. Гончаров проводил его к корпусу. Через час ему позвонили из хирургии и сказали, что у Аркаши обширный инфаркт и ничего не помогло.
Около десяти утра пришел завхирургии с бледным перепуганным лицом.
– Это страшные люди, – тихо повторял он. – Огромные деньги.
Он просил Гончарова ничего не говорить, потом вынул из кармана пухлый конверт.
– Это вам от них.
– Заберите… Его дочь там.
Заведующий молча удалился…
Теперь раз в год, ранней осенью Гончаров брал Шнурка, ехал через весь город на огромное кладбище. Автобус, поминутно останавливаясь на территории кладбища, вез их до поворотной площадки. Там надо было идти минут пять.
Гончаров сметал осенние листья со скромного надгробья, с гранитной доски, на которой была керамическая фотография. На ней лицо Аркаши и Света.
– Теперь в тебе, Шнурок, жизнь Светы, – говорил Гончаров, – ее любовь.
Собака, остановившись, тихо виляла хвостом, потом вскакивала петляла вокруг, принюхиваясь к помятой ногами траве, к воздуху, который таил неуловимые нами запахи.
По утрам Шнурок садится у кровати Гончарова и тихо смотрит на него. Когда Гончаров открывает глаза, Шнурок бросается к нему целоваться.