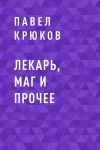Текст книги "Любовь олигархов. Быль и небылицы"

Автор книги: Александр Викорук
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 7 страниц)
Три трупа на Плющихе
Трупов на самом деле было четыре, но четвертый труп имел регистрацию на другой московской улице. Это была девушка, еще совсем не тронутая тлением. Открытые глаза с голубой радужкой, юное лицо с бледной кожей, на которой веснушками успело отметиться весеннее солнце, легкое джинсовое платье, мягко облегавшее все прелести юного тела. Рядом, привалившись на спинку узкого кухонного диванчика, располагался молодой парнишка, его лицо с приоткрывшимся ртом было обращено к инвалиду, тело которого полуразвалилось в драном низком кресле. Солнце в окно подсвечивало жидкие русые волосы на голове инвалида, отчего они светились ярким венчиком. Рядом, спиной к кухонной плите, на стуле покоилось дряблое тело хозяйки семейства.
– Все мы – трупы! – повторил металлическим голосом инвалид. – Да, мы жрем, пардон, шамаем, пьем водку…
– Слишком часто, – вставила, всколыхнувшись, хозяйка.
– Часто прыщи на одном месте вскакивают, а водку пьют по случаю, – назидательно проскрипел аппарат инвалида. – Да, мы живые, но не ведаем, что все решено. Уже движется навстречу сила, которая порешит нас. – Инвалид замер, расширив глаза и вытянув указательный палец. Потом он потянулся к стопке книг, лежавшей на полу у подножия кресла. Наконец, кряхтя, дотянулся, тонкими узловатыми пальцами подцепил книжку в затертом потрепанном переплете.
– «Батый двинул ужасную рать к столице Юриевой, где сей князь затворился. Татары на пути разгромили до основания Пронск, Белгород, Ижеславец, убивая всех людей без милосердия и, приступив к Рязани, оградили ее тыном», – металлический голос стал монотонным, торжественным. Инвалид оторвался от книги, переживая волнение.
Парнишка на диванчике притворно закатил глаза, изображая чрезмерное утомление, поскольку все это он слушал, наверное, в сотый раз. А девушка с голубой радужкой глаз изумленно смотрела на инвалида.
– «В шестой день, декабря 21, 1237 года, поутру, изготовив лестницы, татары начали действовать стенобитными орудиями и зажгли крепость; сквозь дым и пламя вломились в улицы, истребляя все огнем и мечом. Князь, супруга, мать его, бояре, народ были жертвой их свирепости. Веселяся отчаянием и муками людей, варвары Батыевы распинали пленников или, связав им руки, стреляли в них как в цель для забавы, – инвалид приустал и голос его скрипел тише, но тут опять накатило: – Несколько дней продолжались убийства. Наконец исчез вопль отчаяния: ибо уже некому было стенать и плакать».
Инвалид захлопнул книгу, привалился к спинке кресла, в его глазах все еще метались всполохи того пожара.
– Все превратились в трупы. И мы – трупы, не ведаем, что час пробил. Что мы вообще знаем! – вскричал инвалид. – Самое смешное, нутром чую – есть во мне татарская кровь, буйство. Они, племя разбойное, грабежом жили. А мы рязанские, хлебопашцы, тихушники белесые. Намешано. Деда моего, рассказывал, в детстве татарином дразнили: чернявый вышел да с раскосинкой глаза.
– Ну, папань, – заухмылялся парнишка, – Батый тут ни при чем. Это, наверное, какой-нибудь заезжий бизнесмен.
– Ты, Владик, не прикалывайся, – погрозил пальцем инвалид. – Я тебе мою теорию объяснял. Мало хотеть лучшей жизни. Надо еще головой шарить, что это такое. Я, вон, в девяносто третьем году на своих костылях тоже поперся к Белому дому. Ельцин, свобода, братство. А что получили? Мордасами об тейбл, асфальт то есть. Демократия – это не лейбл на заднице. Это такая система власти: рядом с горой власти есть гора контроля за властью народа. Сейчас народ в болотине, а чиновники сидят на своей горе и поплевывают на болото, на головы народу. Вякай, не вякай – никто даже не услышит. Конституцию читали? – взревел требовательно инвалид. – Прочитали бы – ужаснулись! Диктатура там. Значит, сказал чиновник – не вырубишь и топором, а твое слово – что кошка чихнула. Раньше говорили, дураки: грабь награбленное. А чиновники теперь приговаривают: грабь казенное… И все предрешено. Ты, вот, Владик, в девяносто первом малец был, предрешено, вырастешь оболтусом. Потому что России умные не нужны. Россия – заматерела диктатурой – и все развалится на части. Хватайте, соседи, что плохо лежит. Все решено. Говорил ведь, как инвалидом сделали. Один дурак, солдатик, по ошибке в бочку с соляркой канистру бензина вылил, другой полоумный, дембель, решил обогреваться в кабине соляркой, набрал из бочки почти чистый бензин, налил в горелку. А я мимо шел, на смену. Тут как рванет, дверь вырвало. Как сейчас вижу, клубы пламени, черная дверь на меня летит. Очнулся в госпитале. Хирург потом рассказывал, как меня латали, сшивали частями.
Инвалид принялся вспоминать госпиталь, друзей офицеров из дивизиона ПВО, навещавших его, загорелых, с румянцем на щеках, и он, немощный, полумертвый обломок индивидуальной, микроскопической человеческой катастрофы.
Девушка с юной бледной кожей прикрыла глаза – солнце доползло к забытому на подоконнике зеркальцу и жаркий блик слепил ее глаза. Она ощутила снова приятную волну счастья, которое изредка посещало ее уже не первый раз с тех пор как она поняла, что беременна. Радость охватывала сердце, тело становилось невесомым, душа улетала в блаженстве в неведомую голубую высь. Она тоже знала, что все предрешено. Они познакомились этой зимой с Владиком, русым мальчиком, сидевшим рядом. Как она ясно чувствовала даже на расстоянии тепло его тела, шелк его мягких волос. Ей нравился его низкий голос, его руки, трогавшие ее тело, его разговоры о компьютерах. Весной, когда отец Владика стал на инвалидной машине укатывать с женой на дачу, на их ложе, составленном из двух полуторных кроватей, Владик овладевал ею. Они предохранялись, но в приливах ошеломляющего счастья она глотала ртом жаркий воздух и жаждала, чтобы в ней зародилось нечто, что станет мальчиком или девочкой, которые будут похожи на него. Она будет прижимать его плоть к спелой груди, переполненной молоком, ловить его сладкое дыхание. Теперь все предрешено, осталось только считать недели. Часто накатывало радостное тепло новой жизни, а затем тайный страх за маленького, за себя, за Владика, за растрепанного смешного инвалида в драном кресле.
– Давай, Мария, – обратился инвалид к хозяйке, – выпьем за весну, за праздник.
– Степа, не балуй, – хозяйка недовольно нахмурилась, – договорились же – вечером, а сейчас пора собираться, погода, вон, солнышко, теплынь, погуляем. А напьешься, кто тебя потащит?
Степан усмехнулся, хитро прищурился и тихо проговорил:
– Эх, хотел за молодежь по стопочке, чтоб все у них сложилось хорошо.
Хозяйка задумалась, лицо ее напряглось:
– Ну, если за молодежь по одной.
Владик засмеялся уловке отца, глянул на девушку и спросил:
– Ты, Светка, будешь?
Та отрицательно замотала головой.
– А ей еще зачем? – возмутилась хозяйка. – Тоже придумали. Мало, что тебя спаивает отец, так еще и Свету.
Она тяжело поднялась, открыла буфет, достала графин и три маленьких стопки, наполнила их и проговорила взволнованно:
– Чтобы у вас все было хорошо.
Она выпила стопку досуха, долго морщилась и думала о том, что Владик наконец нашел хорошую девушку, тихую, скромную, какие уже не водятся. Правда, кто знает, как она себя поведет дальше, когда ощутит свою власть над мальчишкой. Может, еще такой норов покажет. Думала она еще о болях в легких, которые в тяжелые дождливые дни сдавливали грудь. Думала о том, что в ее роду и мать, и бабушка умерли от рака легких. С прошлого года, как появились приступы, стала она захаживать в церковь и ставила свечки, про себя не проговаривала, а лишь намеками назвала свою тревогу и просила помочь ей все силы небесные, неведомые. Степан заходил с ней вместе, переставлял костыли, посмеивался. Он не знал настоящей причины, но по напряженно серьезному лицу жены догадывался, что ее влечет какая-то тяжелая тревога.
– Вот, мать, это настоящая свобода, – расслаблено смеясь, сказал Степан. – Как говорили классики: моя свобода выпить стопку заканчивается там, где начинается твоя свобода выпить со мной.
Владик перестал елозить вилкой в тарелке и засмеялся:
– Ну, папка, мыслитель.
– Да-да, – гнул свое инвалид. – Это так же верно, как простая гамма. Диктатура – это безграничная свобода одного при несвободе всех остальных. – Он помедлил, покачивая головой. – Но кого это интересует? Желая отомстить врагу, – заговорил Степан по памяти, – Евпатий Коловрат с тысячью семьюстами воинов устремился вслед за ними, настиг и ударом смял их задние полки. Изумленные татары думали, что мертвецы рязанские восстали… Трупы, значит.
– Ну, хватит тебе тоску наводить, – возмутилась жена. – Праздник все-таки.
– Нет, это страшно… и хорошо, – сказала тихо Света. – Это ведь наши предки. Они не предали, они любили и умерли за них. Мы живем, значит, любовь сильнее смерти.
– Вот это девчонка, так сказала! – воскликнул Степан. – Давай, мать, за это выпьем!
– Нет уж, хватит. И собираться пора, время.
На дворе яркое солнце золотило свежий ежик травы на газонах и проклюнувшиеся листочки кустарников. Медленно они вышагивали в сторону магистрали. Владик и Света все чаще, забывая про старших, удалялись вперед, обнимаясь и прилаживаясь друг к другу. Мария стала говорить, что погода хорошая и надо съездить на дачу, а Степан думал, что когда-то беззаботно бегал по этим улицам, переполненный радостью, в ожидании необычной и счастливой жизни. Теперь нет у него одной ноги. Где она? В горле скрипит аппарат. Какой Батый изранил его, испоганил жизнь. И что ждет этих мальчика и девочку. Подняв голову, Степан увидел неподвижные глаза встречного пешехода, от неожиданности выронил костыль и, беспомощно балансируя, удерживал равновесие. На него надвинулся крепкий парень с неподвижным неживым лицом, в глухой темной куртке, спортивных брюках, в руке – длинная сумка. Такие глаза Степан видел у некоторых знакомых, прошедших Афган, и у пацанов, вернувшихся из Чечни. Это был выжженный смертью взгляд.
Парень нагнулся, поднял костыль и сунул Степану.
– Не ровняй ходули, мужик.
Степан вцепился в костыль, потом обернулся и увидел спину парня с сумкой. Он медленно и уверенно шел дальше.
– Ты что, Степан? – встревожилась жена. – Что с тобой?
– Ничего, – пробурчал Степан и медленно двинулся дальше.
На магистрали, со стороны моста через Москву реку, медленно шел праздничный люд. Как и решено было, остановились посмотреть на людей, нашли место поспокойнее у круглого бетонного цветника, в котором торчали алые головки тюльпанов. Степан почему-то был уверен, что с верхних этажей соседних зданий был виден Кремль, в сторону которого шли люди. Конечно, с высотки МИДа Кремль был как на ладони. Степан рассказывал, как в детстве с пацанами бегали смотреть парад и демонстрацию.
– На саму площадь не пускали, – говорил с улыбкой Степан, – так мы к ближайшим мостам подбирались. Там и демонстранты проходили и техника стояла.
Владик не слушал, прильнув головой к Светке, что-то шептал ей.
Выстрел стукнул в тишине, пуля пробила голову Владика и скользнула по черепу девушки, оглоушив ее. Они упали без звука. На бледную кожу потекла алая кровь. С воплем отчаяния на них рухнула Мария. Вторая пуля пробила ей голову и крик оборвался. Степан повернулся. Он уже знал, откуда стреляли. Ему показалось, что он увидел блик от оптического прицела и знакомый выжженный смертью взгляд снайпера.
Это было последнее, что он видел.
Вечером объявили, что противники демократии организовали террористические провокации с целью дестабилизации общественного порядка. Но их планы провалились. Есть жертвы среди мирного населения. Выборы отменяются. Порядок будет восстановлен непоколебимой волей президента.
* * *
Послесловие.
Рукопись данного рассказа автору вручил некий тип у ворот областной психушки, что на улице Восьмого марта. Автор шел себе, размышляя о своих делах, потом заметил, что впереди публика шарахается от какого-то малого, который сует белые листки. Подумал, что рекламки раздает, но уж больно непрезентабельный вид был у малого в мятой пижаме бурого цвета. Когда поравнялся с ним, тот тоже вытянул руку с ученической тетрадкой без обложки.
– Слушай, друг, возьми сочинение. Сосед по палате каждый день пишет. Напишет, давай, говорит, Колька, отнеси, у него ноги нет, отдай первому встречному. Выбросить жалко. Возьми. Рассказ, говорит.
Я взял мятую тетрадку.
– А где имя автора? – спросил.
– Нет у него имени, не помнит. У нас все его писателем зовут.
Хотел я вернуть тетрадь, но тип уже смылся. Рассказ пришлось немного причесать, выкинуть матерные выражения, вставить солнечные лучи, зеленую травку и листочки. Может, это все клевета, а, может, и правда?
Из жизни слов. Литинститут
Александр Викорук
выпускник Литинститута 1981 года
У путешественника нет памяти. Это первый закон профессиональных географов и сочинителей. Что не зафиксировано на бумаге, то исчезнет. Останется только то, что легло на бумагу или в непостижимые и бездонные гигабайты компьютера.
Кто-то вспомнит и запишет, что видел ангела, пролетевшего в ветвях крон деревьев над монументальной головой Герцена. А кто-то с гневом настучит в вечность, что опять засор в туалете у гардероба – и дурно пахнет.
Воспоминания – дело личное, интимное и не скромное.
Поступил в Литинститут я благодаря рассказу, который начинается с того, что герой погибал в ДТП. Его душа проникла через разбитое лобовое стекло и повисла в по-осеннему голых и мокрых ветвях деревьев.
Уже на последнем курсе учебы мне рассказал Николай Стефанович Буханцов, который вел семинар по текущей советской литературе, что это он читал мои конкурсные рассказы и рекомендовал их прочитать Георгию Сергеевичу Березко, набиравшего семинар в 1975 году.
– Он любитель прозы с чудинкой, – покрутил в воздухе пальцами Буханцов.
На первом семинарском занятии уже сильно немолодой Георгий Семенович Березко довольно рассеянно расспрашивал вчерашних абитуриентов о прозе на творческом конкурсе. Говорил он вяло и глаза, замутненные скрываемым недомоганием, смотрели без особого интереса.
Когда я сказал, что, вот, в рассказе герой погибает и его душа бродит по свету, прощаясь, глаза Березко тут же осветились, он весь воспрянул от прилива энергии:
– Помню, помню, – повторил он оживленно.
В этот момент, может, тот самый ангел мельком залетел в приоткрытое окно и махнул над нами своим легким крылом. Наверное, именно такое чудо соединяет обитателей Литинститута в странное сообщество людей, которые могут без конца говорить о прозе, стихах, о том невыразимом ожидании будущего, в котором должны состояться гениальные планы.
Семинар Березко был дневным, а мое начальство на службе – был я заочником – не согласилось отпускать меня с работы по вторникам. И перекочевал я на заочный семинар Александра Евсеевича Рекемчука.
На первом семинаре Александр Евсеевич представился стареющим писателем, в то время ему не было еще и пятидесяти, а нас причислил к молодым писателям, которым предстоит проложить дорогу в литературу.
– Ничего гениального мы еще не написали, – утвердительно постановил он.
Мало похожий на ангела Александр Евсеевич в 1977 году сам отнес мой рассказ в «Московский комсомолец», и с этой публикации начался мой литературный стаж, тогда в советские времена имевший особое значение, а сейчас – вещь абсолютно бесполезная и никчемная.
Рассказ был гладкий, не выдающийся. Речь шла о ночной встрече бесхозного пса, который норовил кому-нибудь пристроить свои преданность и собачью любовь, и человека, обычного, порядочного, осознающего, что не хватит его душевной доброты, чтобы принять любовь этого лохматого бродяги.
Об этом давнем рассказе вспомнил я, когда мой приятель прослезился, рассказывая о трех дворняжках, которых он приютил:
– Вот, бесконечно благодарные твари!
А у самого дети взрослые, внуков полно. Благодарности только маловато будет.
Есть такие вечные темы в литературе. Одна из советских тем – суть трагедии Григория Мелехова. Официальная критика основательно потрудилась над ней. Но партийное косоглазие все-таки помешало разглядеть главное. Именно во времена учебы довелось мне приобщиться к этой загадке. И пришел я к выводу, что трагедия Мелехова в том, что родился он, чтобы пахать землю, любить женщину, растить детей. А вместо этого был вынужден убивать то красных, то белых. Собственно, в этом была трагедия всего народа, которого большевики втянули в братоубийственную бойню, и Мелехов оказался одной из капель крови.
Эта идея мне сильно пригодилась во время госэкзамена по русской литературе. Знания студентов, особенно заочников, всегда ущербны и зияют провалами. Поэтому заботами невидимого ангела под моей рукой оказался билет, в котором одним вопросом была как раз трагедия Мелехова, а вторым – поэзия Тютчева. При всем уважении к великому русскому поэту мои познания о его творчестве были весьма приблизительны.
Уж не знаю, на каких весах члены экзаменационной комиссии взвешивали мои познания, но «в осадке» вышло «хорошо».
Была в моей учебной истории и редакционная практика. В ту пору в пристройке к зданию Литинститута обитала редакция журнала «Знамя». Вот, и напросился я на практику в отдел прозы. Тогда заведующей отдела была известная критик Наталья Иванова, и под ее началом две дамы.
Не обошлось и тут без анекдотов. В одном из казенных шкафов с застекленными полками одиноко на чистой полке лежали листки, исписанные от руки. В момент затишья я полюбопытствовал и обнаружил, что это послание начинающего автора.
Основным моим занятием было чтение рукописей авторов и сочинение ответов, в основном, с отрицательным заключением. И где-то к концу моей практики одна из дам выловила из шкафа эти листки и вручила мне.
Это было описание эпизода встречи героя с женщиной без тех пресловутых «завязок» и «развязок», нечто отрывочное, как услышанный обрывок чужого разговора, да еще со старомодным прозвищем героини «Ундина».
Недолго думая, я сочинил ответ, указав автору, что такого рода прозаический стиль устарел.
Много позже моя память-копуша подсказала, что это отрывок из прозы Лермонтова о бедных контрабандистах из Тамани. Бывает, что графоманы «передирают» куски из классики и посылают в редакции в качестве незатейливой шутки. Милые дамы держали этот «подвох» для своих шуток над безобидными рецензентами.
Но мой промах не остался без возмездия. Та же дама вручила мне для прочтения рукопись перевода фантастической повести западного автора. По мере чтения я не мог отделаться от ощущения, что текст мне знаком. Наконец память проявила всю правду: то же самое я читал много лет назад в журнале «Аврора». Мне удалось найти и номер и установить настоящего автора перевода.
Дама благодарила и была счастлива, поскольку эту повесть они уже предлагали к печати, и вышел бы грандиозный редакционный скандал.
Шел я на практику в «Знамя» не без тайной надежды, что удастся напечатать хотя бы рассказик. Увы. Мало того, уже много позже, после безрезультатных попыток предложений в редакции своих рукописей, послал я в Кострому несколько рассказов Игорю Дедкову, тогда набиравшему популярности критику с хорошей репутацией совестливого человека. А как раз в это время он перебрался в Москву. И он ответил мне, что один рассказ понравился и он передал его в отдел прозы журнала «Знамя». Тоже, увы. Через какое-то время получил я конверт с рукописями и стандартным благожелательным отказом.
А через два или три года Игорь Дедков умер. Может, после вольных волжских просторов – слишком тесно было его душе в редакционных джунглях столицы. И стал он ангелом.
А за несколько месяцев до окончания учебы в Литинституте состоялось уникальное для любого студента событие. Мало похожий на ангела Александр Рекемчук передал мою повесть «Зона холода», мою дипломную работу, главному редактору журнала «Юности», выходившего тогда трехмиллионным тиражом. Борис Николаевич Полевой, это был последний год его земной жизни, не поленился и пригласил студента в свой редакционный кабинет. Сказал, что читал рукопись, отметил, что верно в повести говорится о сложной судьбе молодых ученых. Посетовал, что его племянник как раз в стадии защиты диссертации. Повесть была поставлена в первый номер 1981 года.
Но жизнь сложнее видимой нам стороны. Там, на другой, теневой стороне, в закулисье плетутся, может, главные стежки. Уже после выхода повести, когда еще я раздавал друзьям и знакомым экземпляры январского номера, Александр Евсеевич как-то при встрече сообщил о «подводной части айсберга».
Оказалось, на заседании редколлегии журнала, когда принималось окончательное решение о формировании первого номера, член редколлегии, тоже руководитель семинара прозы в Литинституте, заявил, что предлагаемая повесть не соответствует настроениям в обществе в преддверии очередного исторического съезда КПСС. Был в те времена такой вид «идеологического спорта». Когда можно было сделать какую-нибудь пакость под соусом «высоких идейных принципов». И повесть сняли с номера до лучших идеологических времен. Не знаю, была ли похожа на ангела, в душе – без сомнений – чистый ангел, машинистка редакции, которая перепечатывала отредактированную рукопись. По словам Рекемчука, она позвонила ему и выдала страшную редакционную тайну. Ну, а Рекемчук позвонил Борису Полевому и убедил вернуть повесть в номер.
Я не знаю другого руководителя семинара в Литинституте, который бы так много делал и делает для своих студентов. Уверен, что по части благодарности – чемпионы только прирученные дворняжки. И студентам Литинститута очень далеко до них по этой части. Но все равно: жизнь щедро одаривает тех, кто не скупясь отдает свои знания, опыт, время и силы своим ученикам. Учитель жив, пока живы его ученики.
Судьба не имеет пробелов, которые встречаются в литературных сюжетах. После заметной публикации наступила реальная «зона холода» – удел большинства никому не известных авторов. В это время я познакомился со Славой Фахрудиновым, тоже выпускником Литинститута. Талантливый поэт, приехавший из провинциального Кирова. После окончания института перебивался мелкими публикациями, заработками по редакциям, в литконсультациях. Жил по снимаемым углам, в основном в ближнем Подмосковье.
Он и предложил мне влиться в его компанию единомышленников, которые пишут челобитные по партийным инстанциям с разоблачением редакций, которые гнобят молодые литературные таланты. Идея глубоко идиотская в стране, где процветает секретарская и редакторская проза. Где, за малым исключением существования единичных литературно одаренных авторов, которых можно было пересчитать на пальцах двух рук, царило море посредственных писателей. Да и никогда не бывало много гениальных авторов. В такой обстановке искать правду с помощью жалоб бессмысленно.
Позднее, правда, я стал догадываться по ряду признаков, что Слава был хитрован тот еще. Он подбивал своих друзей на писание жалоб, а потом ходил по главным редакторам и стращал их тем, что у него есть «банда» жалобщиков, которых он натравит на данного главреда, если тот откажет ему в публикации.
Нет добра и нет зла без человека. И каждый человек каждодневно делает этот выбор: творить добро или зло.
Примерно в этот период собрал я рукопись для первой книги и отнес в редакцию издательства «Молодой гвардии». Когда женщина-редактор во время нашей единственной беседы узнала, что перед Литинститутом я закончил радиотехнический факультет МЭИ, то несколько раз с намеком повторила, что ее сын заканчивает школу и мечтает поступить в МЭИ. Она окропляла мои тупые мозги прозрачными намеками на эти обстоятельства и возможную благодарность за мои содействия по исполнению мечты ее сына. Но, видимо, ее перспективные идеи не вмещались в мои прямолинейные извилины. Поэтому я через некоторое время получил отрицательно-ласкательную рецензию на рукопись от одного из метров редакции «Нового мира».
А со Славой через какое-то время мы почти мирно расстались, применив против друг друга (друг – тот, кто связан дружбой. Толк. Слов.) обоюдоострое оружие кляуз. Сначала он написал кляузу на меня и его знакомую по Литинституту, нас троих тогда связывал вместе некий издательский проект. А мы в ответ написали на него такую же «обоснованную» кляузу. Сейчас все это смешно.
Но в жизни трудно разойтись деловым партнерам, бывшим мужьям и женам, друзьям и подругам, даже в таком мегаполисе, как Москва. Тени бывших друзей и знакомых преследуют нас.
Поэтому история с Фахрудиновым имела продолжение в пору всеобщего хаоса. В те времена, когда Россия превратилась в месиво с клокочущей горячей смолой и во все стороны летели жалящие ошметки. Тогда царила передача «600 секунд». Смотрели ее между чаем и кухней. Однажды шел я с чашкой по комнате, слушая сюжет о смерти бомжа на питерском вокзале. Обычный сюжет, схватываемый краем уха. И тут мельком зацепился глаз: недвижное тело, джинсовая кепчонка на голове, безвольно приоткрывшийся рот на сером лице. Картинка мелькнула, и только в коридоре цапнуло возможное сходство – или померещилось все – черты лица Славы… Так и терзает временами это видение до сих пор. Кажется, все бы отдать можно, чтобы призрак оказался ошибкой. И на деле все живы, и где-то ходят по многомиллионной Москве. Но чем больше проходит лет, тем больше людей уходит в иной мир.
Тут поневоле задумаешься, и как наркоман, который в чьей-то истории, в момент ломки кричал матери: зачем люди живут! – шепнешь мутным поздним рассветом зимнего дня: зачем люди живут?
Здесь и смешались в гремучую смесь в моей голове физико-математическое образование радиотехнического факультета и гуманитарное литинститутское. В чем смысл жизни, что такое нравственность? И не одинок я был в этих размышлениях. Тут и Иммануил Кант под «ником» Бакин в интернете жаловался, что церковники, обозленные тем, что он доказал несостоятельность пяти «доказательств» существования бога, распустили клевету, что после этого Кант сформулировал шестое «окончательное» доказательство существования бога.
– Не было такого, – на форуме повторял гневно Бакин, – не было!
А было наравне с чудом звездного неба над головой человека, второе чудо – нравственный закон в человеке.
Да еще к этому Федор Михайлович, призраком проходящий по коридорам Литинститута, все вопрошал с ужасом, что если бога нет, то все дозволено. И писал роман за романом, в которых черные дела творит человек.
Нет добра и нет зла без человека. Это человек творит и добро и зло, и каждый из нас ежедневно делает выбор между добром и злом.
Тут появился возле монумента Герцена и Иммануил Кант. А за ним – ангел Пушкина. Он обычно нахохлившись, как голубь, сидит на голове памятника ему любимому, а тут явился, пока не знаю зачем.
Я и говорю:
– Зачем же, уважаемый Федор Михайлович, заставили Родю Раскольникова, человека болезненно чувствительного, топором черепа женщинам крушить? Это удел бесчувственных животных. А вы – кровищи напустили. Наши режиссеры, как упыри, тут упивались, весь экран телека залили липкой кровью. Кино сняли, наверное, минут десять тесак в черепе крупным планом вонзали, кровь ручьями пускали. Вы, Родиона измучили, зрителей до шока довели. Испытание всем устроили.
– Федор Михайлович, ведь все просто. Те, кто черепа друг друга крошит, потомства не оставляют. Остаются чувствительные, жалостливые. Вроде Раскольникова. Настоящая история человечества началась в тот день, когда человек впервые произнес: дети мои, любите друг друга.
Не убивай. Такая заповедь в небе над живыми городами и селениями витает. Это закон жизни, его в уголовный кодекс даже прописали. Если есть человек, то не все дозволено. А только то, что во благо жизни.
– А вы, старичок Иммануил, правильно сказали: «нравственный закон в человеке». В человеке – и только. Нет его больше нигде. И не надо бубнить про «идеальный разум», лучше возьмите реальный разум, он всем подскажет, что, если в Швейцарии князю Мышкину и в психушке рай земной, то в России с новым русским бизнесменом – ему смерть. Значит, нравственность относительна и дается человеку в процессе познания свойств людей и их поступков.
А еще познанию и нравственности пригодится замечательный научный метод «черного ящика». Это когда объект не режется для изучения нутра, а по внешним признаком определяется механизм действия.
Вот, и с церковниками, дорогой Иммануил-Бакин, расквитаемся. Боги есть у всех народов, значит, за этим стоит какое-то реальное явление жизни. А теперь посчитаем главные признаки бога: всемогущий, дает и отнимает жизнь, определяет судьбу, дает бессмертие. Есть ли такое чудо в живой природе?
В изобилии. Это геном. Без него ни одно живое существо не появится и не умрет в предписанные сроки, геном дает бессмертие в лице потомков. Геном создает гормональную и нервную системы, от которых и чувство радости, и хандра страшная и все наши планы и задачи по устройству жизни. Геном ежесекундно вершит чудеса по рождению миллиардов живых существ, а человек суеверно приписывает это всемогущество каким-то призрачным богам, которых, как сказано в Евангелии, никто не видел и с ним никто не разговаривал.
Тут тени ангелов Федора Михайловича и Иммануила бледнеют, а я вижу, что вещаю это все в зале ученого совета. А в президиуме восседает доктор философии Иван Иванович Дубровский. Меня он в упор не видит и не слышит, долдонит латино-немецкую философскую жвачку. И тут мелькает светлый лик ангела Пушкина. Лицо Дубровского зло кривится, он сбивается и начинает, клокоча злобой, извергать гениальный текст Пушкина. Тут я понял, зачем явился к нам Пушкин.
– … А ныне – сам скажу – я ныне
Завистник. Я завидую. – О небо!
Где ж правота, когда священный дар,
Когда бессмертный гений – не в награду
Любви горящей, самоотверженья,
Трудов, усердия, молений послан —
А озаряет голову безумца,
Гуляки праздного?..
Гнилая с плесенью рука Дубровского начинает удлиняться и тянется через ряды кресел ко мне, в полуразложившихся пальцах – бокал с шампанским:
– Пей же, Викорук, пей.
Я беру бокал, делаю вид, что пью и незаметно выплескиваю шампанское на пол. Ламинат плавится, пузырится шипящими волдырями.
Тут я оживаю и уже кричу в лицо злодею.
– А слова тоже входят в геном. Злобные слова, лживые – ядовиты и смертельны, как бациллы чумы, а добрые слова животворны, как ласковая улыбка матери, кормящей грудью младенца.
А мало похожий на ангела Александр Рекемчук говорит:
– Книгу, Викорук, надо писать об этом. Это открытие!
Книга написана, названа «Ковчег жизни», живет в чуде-юде интернете. Издана. И немногие счастливчики купили ее в книжной лавке Литинститута.
Слово-геном явило нас всех к жизни, научило различать добро и зло. Словами живет Литинститут, и приходят в него новые люди, готовые все время говорить новые слова о поэзии и прозе жизни.