Текст книги "Разин Степан"
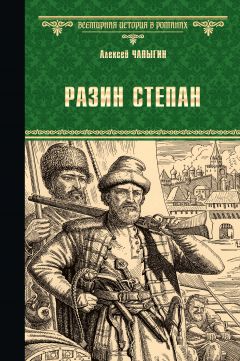
Автор книги: Алексей Чапыгин
Жанр: Русская классика, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 42 страниц)
В верхние окна пытошной башни веет сухим снегом. Огонь факелов мотается – по мутной белой стене прерывисто мечется тень человека, вздернутого на дыбу. Рубаха сорвана с плеч, серый кафтан лежит перед столом на полу. Поднятый на дыбу, скрипит зубами, изредка стонет. Палач только что продел меж связанных ремнем ног бревно, давит на бревно поленом, глядит вверх, чтоб хрустнувшие, вышедшие из предплечья руки пытаемого не оторвались. Колокольный звон закинуло в башню ветром.
Киврин за столом, крестясь, сказал:
– Всеношна отошла, должно, по ком церковном панафиду поют? Звонец у Ивана нынче худой, ишь жидко брякает!
У дверей на скамьях, как всегда, два дьяка: один в синем, другой в красном кафтане. Дьяк в красном ответил:
– То, боярин, в Архангельском соборе звон!
– То-то звон жидкой! Ну, Иваныч, с богом приступим!
– Приступим, боярин, – ответил дворянин.
– Заплечный, бей! Дьяки, пиши!
Ж-жа-х! – хлестнул кнут, еще и еще.
– Полно! Пять ударов, – счел дьяк.
Из-за стола мертвый голос Киврина спросил:
– Замышлял ли ты, вор, Иван Разя, противу воеводы Юрия Олексиевича Долгорукова? А коли замышлял противу посланного в войну государем-царем полководца, то я противу великого государя замышлял ли?
– Противу всех утеснителей казацкой вольности, противу воевод, бояр, голов и приказных замышлял! – прерывающимся голосом, но твердо ответил с дыбы бородатый курчавый казак.
– Пишите, дьяки! Сносился ли ты, вор, со псковским стрельцом Иевкой Козой и протчими ворами, кто чернил имя государя, великого князя всея Русии, и лаял похабными словами свейскую величество королеву?
– Жалость многая берет меня, что не ведал того, не мог к тому доспеть, – сносился бы…
– И еще что молышь?
– Сносился бы со всеми, кто встал за голодный народ противу обидчиков, что сидят на Руси худче злых татар. Пошел бы с теми, кто идет на бояр и воевод-утеснителей…
– Прибавь, заплечный, кнута вору – пущай все скажет!
Ж-жа-а! – желтая спина битого все больше багровеет.
– Полно! Всего сочтено двадцать боев, – говорит дьяк.
Мертвый голос из-за стола:
– Кого еще, вор, назовешь пособником бунта, заводчиком?.. Не сносился ли с шарпальниками, что пришли со Пскова и на реке Луге, под Ивангородом, громили судно аглицкого посла? А еще скажи тех, кто живет в дьявольском злоумышлении противу великого государя?
Пытаемый не отвечал.
В нише башни, где до пытки стояло подножное бревно палача, под ворохом рогож блестели на каблуках больших сапог подковы. Сапоги зашевелились, застучали колодки, из рогож высунулась черная голова с окровавленным лицом. Покрывая ветер и звон колокольный, раздался голос:
– Брат Иван, жив буду – твоя кровь трижды отольется!
– Стенько, злее пытки знать, что и ты хватан!
– Очкнулся? – Киврин показал желтые зубы улыбкой. Волчьи глаза метнулись на рогожи: – Жаль, не приспело время, ино двух бы воров тянуть разом!
– А пошто, боярин, не можно?
– Вишь, не можно, Иваныч: к Морозову не был, а надо ему довести, что заводчик солейного бунта взят и приведен.
– Да неужто быть он должон не у нас, у Квашнина?
– Морозову надобно довести, Иваныч! Ну, заплечный, внуши пытошному правду.
Снова бой кнутом. Первый кнут брошен. Помощник палача подал новый. Заплечный тяжелой тушей, отодвигая назад массивные локти в крови, топыря широкую спину в желтой кожаной куртке, налег на бревно, всунутое меж ног пытаемого, – трещат кости…
– Хребет трещит, а все упорствуешь? Сказывай, вор, пособников, заводчиков, супостатов государя!
Подвешенный кричит из последних сил:
– Дьявол! Все сказал…
– Заплечный, должно, с поноровкой твой кнут? Подкинь-ка огню, огонь – дело правильное.
Помощник палача накидал дров на железный заслон под дыбой. Палач вынул давящее книзу бревно. Густой дым скрыл от глаз дьяков и боярина пытаемого. Пламя загорелось, стало лизать ноги казака. Пытаемый стонал, скрипел зубами шибче и шибче, потом зубы начали стучать, как в сильной лихорадке. Шлепая рукой в иршаной рукавице о стол, Киврин, воззрясь на пытку, шутил:
– Оттого и мужик преет, что государева шуба ладно греет. Заплечный, кинь в огонь клещи – побелеют, срежь ему тайный уд, да и ребра ломать придетца!
На огне зашипели брызги крови…
Палач сказал:
– У пытошного, боярин, нижним проходом бьет кровь!
– Ослабь дыбу, мастер! Отдох дай… Изведетца скоро, не все скажет. Ты крепко на бревно лег – порвал черева, ну и то – не на пир его сюды звали. Да вот, дьяки, был ли поп ему дан, когда вели?
Встал дьяк в синем кафтане:
– Боярин, когда пытошного ввели во Фролову, поп к ему подходил, да пытошный, Иван Разя, лаял попа, и поп ушел!
– Ну, не надо попа, без попа обойдется!
Пытаемый снят с дыбы, лицо черное; шатаясь на обожженных ногах, с трудом открывая глаза, слабым голосом сказал, как слепой поводя и склоняя голову не в ту сторону, где под рогожами лежал Разин второй:
– Стенько! Брат! У гроба стою, упомни меня…
– Не забуду, Иван, прости!
Киврин, сбросив на стол рыжий колпак, крикнул, скаля редкие зубы:
– И Стеньку честь окажем не мене! Стрельцы, отведите другого рядом – опяльте в кольца.
Захватив факел, четверо стрельцов отвели Степана Разина в пустое, рядом с пытошной, отделение башни, сбили с рук колодки. Из-под кровавых бровей Разин вскинул глаза на стрельцов:
– Всем, кто пес боярский, заплачу щедро!
Стрельцы распяли руки Разину по стене, вдели их в железные кольца, на шею застегнули на цепи ременное ожерелье с гвоздями.
– Сказывали – удал лунь, да птицы вольной ему не клевать!
Из головы от удара кистенем все еще сочилась кровь, пачкала лицо, склеивала глаза.
– Тряпицу ба, что ль, кинуть на голову – ведь человек? – сказал один стрелец с цветным лоскутом на бараньей шапке.
Другой сказал начальнически:
– До пытки выживет, а дале – боярин!
– Живучи эти черкасы, – прибавил третий.
Четвертый стрелец с факелом молчал. Со стены текло, от холода каменела спина. Вися на стене, упираясь ногами в каменный пол, Разин метался, пробуя сорваться, и выдернул бы из стены крючья с кольцами, да на больной от ременной петли шее вновь была крепкая, хотя и нетугая, петля – она при каждом движении головы колола гвоздями. Каменные толстые стойки без дверей мешали ему увидеть, что делали палачи с братом. Лишь слышал Степан, как шипело от каленых щипцов, пахло горелым мясом, слышал треск костей и понимал, что ломают ребра Ивану. Слышал стоны и вопрошающий мертвый голос:
– Скажешь ли, вор, пособников?
– Скажу одно… умираю…
– Тако все! Заплечный, нажги кончар, боди черева. Пишите, дьяки:
«Вор, Ивашко Разя, клял воевод, бояр и грозился новым бунтом, в пытке был упорен, заводчиков сказать не хотел и, пытанный накрепко, пытки не снес».
– Верши, заплечный! Вот ту – жги…
Раздался протяжный стон. Прикованный к стене Разин слышал, как загремело железо заслона и грузное скользнуло под пол.
– Стрельцы, мост спустить! Кончим, помолясь Богу. Устал я, да и за полночь буде… – И тот же мертвый голос продолжал: – Заплечный, бери кафтан: одежда казненного завсегда палачу, не от нас иде…
– Рухледь, не стоит того, боярин, чтобы с полу здымать!
– Богат стал? Ну, твой помощник не побрезгает, заберет. Тушите огни.
11Полная мыслями о госте, что утром рано покинул ночлег, Ириньица, качая люльку, пела:
Разлучили тебя, дитятко,
Со родимой горькой матушкой,
Баю, баю, мое дитятко!
Во леса, леса дремучие
Угонили родна батюшку…
Баю, баю, мое дитятко!
Вырастай же, мое дитятко,
В одинокой крепкой младости.
Баю, баю, мое дитятко!
У тебя ль да на дворе стоит
Новый терем одинехонек —
Баю, баю, мое дитятко!
За дверями шаркнуло мерзлой обувью, звякнуло железо; горбун, убого передвигаясь, спустился в горенку.
– И песню же подобрала, Ириха…
– Не ладно поется, дедко?.. На сердце тоска. – И запела другую:
Ох ты, котенька, коток,
Кудревастенький лобок!
Ай, повадился коток
Во боярский теремок.
Ладят котика словить,
Пестры лапки изломить!
– Вишь, убогой, эта веселее?
Горбун снял с себя шубное отрепье, кинул за лежанку, снял и нахолонувшее железо. Бормотал громко:
– Пропало наше, коли народ правду молыт… Помру, не увижу беды над боярами, обидчиками… худо-о…
– Что худо, ворон?
– Да боюсь, Ириха, что нашего котика бояры словили…
– Опять худое каркаешь?
– Слышал на торгу да коло кремлевских стен.
Ириньица кинулась к старику, схватила за плечи, шепотом спросила:
– Что, что слышал? Сказывай!
– Ишь загорелась! Ишь пыхнула! Дела не сделаешь, а, гляди, опять в землю сядешь, как с Максимом мужем-то буде. Не гнети плечи…
– Удавлю юрода – не томи! Максим, не вечером помянуть, кишка гузенная, злая был. Что же чул?
– Чул вот: народ молыт – гостя Степана привезли к Фроловой на санях, голова пробита… Стрельцы народ отогнали, а его-де во Фролову уволокли.
– Не облыжно? Он ли то, дедко?
– Боюсь, что он. На Москве в кулашном бою хвачен… «Тот-де, что в соляном отаман был, козак»…
– В Разбойной – к боярину Киврину?
– Куды еще? К ему, сатане!
Ириньица заторопилась одеваться, руки дрожали, голова кружилась – хватала вещи, бросала и вновь брала. Но оделась во все лучшее: надела голубой шелковый сарафан на широких низанных бисером лямках, рубаху белого шелка с короткими по локоть рукавами, на волосы рефить6060
Рефить – сетка.
[Закрыть], низанную окатистым жемчугом, плат шелковый, душегрею на лисьем меху. Достала из сундука шапку кунью с жемчужными кисточками.
– Иссохла бы гортань моя… Ну куды ты, бессамыга6161
Голая.
[Закрыть], с сокровищем идешь?
– В Разбойную иду!
– Волку в дыхало? Он тя припекет, зубами забрякаешь…
– Не жаль жисти!
– Того жаль, а этого не?
Ириньица упала на лавку и закричала слезно:
– Дедко, не жги меня словом! Жаль, ох, спит, не можно его будить, а разум мутится.
– Живу спустят – твоя планида, а ежели, как мою покойную, на козле? Памятуй, пустая голова с большим волосьем!..
– Дедо, назри малого… Бери деньги из-под головашника… корми, мой чаще, не обрости Васютку…
– Денег хватит без твоих. Ой, баба! Сама затлеешь и нас сожгешь…
12Спешно вошла по каменной лестнице, пахло мятой, и душно было от пара. На площадке с низкой двустворчатой дверью в глубине полукруглой арки встретил Ириньицу русобородый с красивым лицом дьяк в красном кафтане, в руке дьяка свеча в медном подсвечнике:
– Пошто ты, жонка?
– Ой, голубь, мне бы до боярина.
– Пошто тебе боярин?
Дьяк отворил дверь. Ириньица вошла за ним в переднюю светлицу боярина. Белые стены, сводчатые на столбах; столбы и своды расписные. По стенам на длинных лавках стеганые красные бумажники6262
Бумажник – матрац, набитый хлопчатой бумагой.
[Закрыть], кое-где подушки в пестрых наволочках, в двух углах образа. Сверкая рефитью, жемчугами, поклонилась дьяку в пояс:
– По Разбойному, голубь, тут, сказывают, иман молодой казак – лицо в шадринах, высокий, кудреватый…
– Пошто тебе лихой человек?
– Ой, голубь! Сказывают, голова у него пробита, а безвинной, и за что?
– Знаешь боярина, жонка, – на кровь он крепок… Битье твое челом не к месту – поди-ка в обрат, покудова решетки в городу полы. Жалеючи тебе сказываю… больно приглянулась ты мне.
Ириньица кинулась в ноги дьяку. Дьяк поставил свечу на пол, поднял ее, она бросилась ему на шею.
– Голубь, что хошь проси! Только уласти боярина…
– Перестань! – сказал дьяк, отводя с шеи ее руки. – Глянет кто – беда, а любить мне тебя охота… Сказывай, где живешь?
– Живу, голубь, за Стрелецкой, на горелой поляне, за тыном изба, в снегу…
– Приду… а ты утекай, не кажись боярину, не выпустит целу, пасись, – шептал дьяк и гладил Ириньице плечи, заглядывая в глаза. – И где такая уродилась? Много баб видал, да не таких.
– Скажи, голубь, правду – уловлен казак?
– Знай… не можно о том сказывать… уловлен… Степан? Разя?
– Он, голубь! Пусти к боярину, горит сердце…
– Не ходи – жди его, он в бане…
– Не могу, голубь мой! Пусти, скажи, где?
Дьяк махнул рукой, поднял свечу с пола.
– С ума, должно, тебя стряхнуло? Поди, баня ту – вниз под лестницей… Завернешь к левому локтю, дойдешь до первой дверки – толкнись, там предбанник… Ой ты, малоумная баба!
Ириньица, бросив в светлице душегрею, шапку, сбежала по лестнице, нашла дверь. На полках предбанника горели свечи в медных шандалах. На широкой гладкой лавке лежали зеленый бархатный полукафтан и розовая мурмолка с узорами.
Из бани мертвый голос выкрикнул:
– Тишка, где девки? Эй!
Ириньица приоткрыла дверь, заглянула в баню – на полке желтело угловато-костлявое что-то с кривыми тонкими пальцами ног. От фонаря, висевшего на стене, блестел голый череп.
«Все одно, что покойника омыть», – почему-то мелькнуло в голове Ириньицы; она ответила:
– Что потребно боярину – я сполню!
– Э, кто ту? Сатана! Да мне и девок не надо – лезь, жонка, умой старика… утри!
Ириньица быстро разделась до рубашки, не снимая сетки с волос, встав на колени на ступеньку полка, привалилась грудью к желтому боку.
– Мочаль… мочаль! Разотри уды мои… Э-эх, и светлая!.. Дух от тебя слаще мяты! Откуда ты, жено? Ой, спасибо…
В предбаннике завозились шаги.
Боярин крикнул:
– Тишка, не надо никого – один управлюсь!
– Добро, боярин! – Шаги удалились.
– Скинь рубаху, жонка!
Ириньица сняла отсыревшую от пота рубаху, снова намылила мочалку, а когда нагнулась над стариком, он впился тупыми зубами в ее правую грудь.
– Ой, боярин, страшно мне!
– Чего страшишься? Не помру. Робя кормишь? Молоко…
– Большой уж, мало кормлю.
Холодные руки хватали горячее тело.
– Черт, сатана, оборотень! – бормотал старик, и лысая голова с пеной у рта билась о доски полка. Ириньица подсунула руки, отвернула лицо – голова перестала стучать, билась о мягкое тело. – Добро! Убьюсь, поди… не тебе… мне страшно – мертвый хочу любить!.. Прошло время… время… Укройся – не могу видеть тебя! Боюсь… кончусь – тебя тогда усудят…
Подхватив с полу рубаху, Ириньица ушла из душного мятного пара в предбанник, оделась и ждала. Боярин слез с полка. Она помогла войти в предбанник. Заботливо обтерла ему тело рушником, бойко одевала. Он кашлял и тяжело дышал. Шел, обхватив ее талию рукой, говорил тихо, с удушьем:
– Сердце заходитца! Должно, скоро черту блины пекчи.
Она привела его в светлицу, подвела к лавке, положила головой на подушку, закинула на бумажник ноги, покрыла его ноги своей душегреей. Боярин дремал, она сидела в ногах, очнулся – попросил квасу. Дьяк в красном кафтане стоял с опущенной головой, прислонясь спиной к стойке дверей. По слову боярина сходил куда-то, принес серебряный ковш с квасом; боярин отпил добрую половину, рыгнул и, передавая ковш дьяку, сказал:
– Дай ей – трудилась! Эх, Ефимко, кабы моложе был, не спустил бы: диамант – не баба.
Дьяк молча поклонился.
Боярин спросил:
– Что хмурой, спать хошь?
– Недужится, боярин, чтой-то…
Ириньица глотнула квасу – отдала ковш.
– Поди спи, мы ту рассудим, что почем на торгу.
Дьяк ушел.
– Ну-ка, жемчужина окатистая, сказывай, пошто пришла? Не упокойннков же обмывать, поди, свой кто у нас, за ним?
Ириньица сорвалась с лавки, кинулась на колени:
– Низко и слезно бью тебе, боярин, челом за казака, что нынче в Разбойной взят… Степаном…
– А! – Боярин сел на бумажнике и скорее, чем можно было ожидать, спустил ноги на пол. На мертвом лице увидала Ириньица, как зажглись волчьи глаза. – Разя? Степан?
– Он, боярин!
– Кто довел тебе, что он у нас, – дьяк?
– Народ, боярин, молыт, по слуху пришла к тебе…
– Ты с Разей в любви жила?
– Мало жила, боярин!
– Тако все? А ведомо тебе, жонка, что оный воровской козак и брат его стали противу Бога?
– То неведомо мне, боярин!
– Сядь и сказывай правду. Ведомо ли тебе, что Степан Разя был отаманом в солейном бунте?
Ириньица, склонив голову, помолчала, почувствовала, как лицо загорелось.
– Знаю теперь – ведомо!
– То прошло, боярин!
– Подвиньсь! – Боярин снова лег, протянул ноги, глядя ей в лицо, заговорил: – Был сатана, жонка, и оный сатана спорил с Богом… А тако: сатану Бог сверзил с небеси в геенну и приковал чепью в огнь вечный. Кто противу государя-царя, помазанника Божия, тот против Бога. Рази, весь их корень воровской, пошли против великого государя, и за то ввергли их, как бог сатану, в огнь… Ты же, прилепясь телом к сатане, мыслишь ли спастись? Да еще дерзновение поймала прийти молиться за сатану? То-то ласковая да масляная, как луковица на сковороде. Ну што ж! Ложись спать, а я ночью подумаю, что почем на торгу… Эй, Ефимко, дьяк!
На голос боярина вышел из другой половины светлицы русый дьяк.
– Сведи жонку в горенку, ту, что в перерубе! Завтра ей смотрины наладим… В бане была, да худо парилась…
– Мне бы к дому, боярин! А я ранехонько бы пришла.
– Хошь, чтоб по дороге лихие люди под мост сволокли да без головы оставили? Мы тебе голову оставим на месте… По ребенку нутро ноет? Ребенок от Рази?
– Да, боярин!
– Дьяк, уведи ее!
Дьяк сурово сказал:
– Пойдем-ка, баба!
Дьяк был в красном, шел впереди, широко шагая, держа свечу перед собой. Ирнньица подумала:
«Как палач».
В узкой однооконной горнице стояла кровать, в углу образ – тонкая свеча горела у образа.
– Спи тут!
Дьяк поставил свечу на стол и, уходя, у двери оглянулся. Поблескивали на плечах концы русых волос. Глаз не видно. Сказал тихо:
– Пала на глаза – уйдешь ли жива, не ведаю… Сказывал…
– О, голубь, все стерплю!
Дьяк ушел. Ириньица зачем-то схватила свечу, подошла к окну: окно узкое, слюдяное, в каменной нише, на окне узорчатая решетка, окно закрыто снаружи ставнем. В изогнутой слюде отразилось ее лицо – широкое и безобразное, будто изуродованное.
– Ой, беда! Лихо мое! Васенька, прости… А как тот, Степанушка, жив ли?.. Беда!
Потушила свечу, стала молиться и к утру заснула, на полу лежа.
13Снилось Ириньице, кто-то поет песню… знакомую, старинную:
Ей немного спалось,
Много виделося…
Милый с горенки во горенку
Похаживает!
И тут же слышала – гремят железные засовы, с дверей будто кто снимает замки, царапает ключом, а по ее телу ползают черви. Ириньица их сталкивает руками, а руки липнут, черви не снимаются, ползут по телу, добираются до глаз. Проснулась – лежит на спине. Перед ней стоит со слюдяным фонарем в руках, в черной нараспашку однорядке боярин в высоком рыжем колпаке. Волчьи глаза глядят на нее:
– А ну, молодка, пойдем на смотрины…
Ириньица вскочила, поклонилась боярину, отряхнулась, пошла за ним. Шли переходами вдоль стенных коридоров, вышли во Фролову башню. В круглой сырой башне в шубах, с бердышами, с факелами ждали караульные стрельцы.
– Мост как?
– Спущен, боярин!
Киврин отдал фонарь со свечой стрельцам.
Пришли в пытошную. В башне на скамье у входной двери один дьяк в красном. Ириньица поклонилась дьяку. Дьяк встал при входе боярина и сел, когда боярин сел за стол. В пытошную пришли два караульных стрельца – встали под сводами при входе.
– Стрельцы, – сказал Киврин, – впустить в башню одного только заплечного Кирюху!
– Сполним, боярин.
– Дьяк, возьми огню, проводи жонку к лихому…
– Слышу, боярин.
Дьяк снял со стены факел, повел Ириньицу.
Боярин приказал стрельцам:
– Сдвитьте, робята, дыбные ремни на сторону, под дыбой накладите огню.
Боярин вышел из-за стола, кинув на стол колпак, подошел к пытошным вещам, выбрал большие клещи, сунул в огонь.
Один из стрельцов принес дров, другой бердышем наколол, разжег огонь на железе. Рядом, в пустом отделении башни, взвыла голосом Ириньица:
– Сокол мой, голубой, как они истомили, изранили тебя, окаянные, – в чепи, в ожерелок нарядили, быдто зверя-а?!
Боярин пошел на голос Ириньицы, встал в дверях, упер руки в бока. От пылающего высокого огня под черной однорядкой поблескивали зеленые задники сапог боярина.
Ириньица шелковым платком обтирала окровавленное лицо Разина.
Сонным голосом Разин сказал:
– Пошто оказала себя? На радость черту!
– Степанушко, сокол, не могу я – болит сердечко по тебе, ой болит! Пойду к боярину Морозову, ударю челом на мучителей…
– Морозову? Тому, что в солейном бунте бежал от народа? Не жди добра!
– К патриарху! К самому, государю-царю пойду… Буду просить, молить, плакать!
– Забудь меня… Ивана убили… брата… мне конец здесь… вон тот мертвой сатана!
Разин поднял глаза на Киврина. Боярин стоял на прежнем месте, под черным зеленел кафтан, рыжий блик огня плясал на его гладком черепе.
Ириньица, всхлипывая, кинулась на шею Разину, кололась, не замечая, о гвозди ошейника, кровь текла по ее рукам и груди.
– Уйди! Не зори сердца… Одервенел я в холоде – не чую тебя…
– Ну, жонка, панафида спета – пойдем-ка поминальное стряпать… Дьяк, веди ее…
Ефим отвел Ириньицу от Разина, толкнул в пытошную.
– Поставь огонь! Подержи ей руки, чтоб змеенышей не питала на государеву-цареву голову…
Ириньица худо помнила, что делали с ней. Дьяк поставил факел на стену, скинул кафтан, повернулся к ней спиной, руками крепко схватил за руки, придвинулся к огню – она почти висела на широкой горячей спине дьяка.
– А-а-а-ай! – закричала она безумным голосом, перед глазами брызнуло молоко и зашипело на каленых щипцах.
– О-о-ой! Ба-а… – Снова брызнуло молоко, и вторая грудь, выщипнутая каленым железом, упала на пол.
– Утопнешь в крови, сатана! – загремел голос в пустом отделении башни.
Впереди стрельцов, у входа в пытошную, прислонясь спиной к косяку свода, стоял широкоплечий парень с рыжим пухом на глуповатом лице. Парень скалил крупные зубы, бычьи глаза весело следили за руками боярина. Парень в кожаном фартуке, крепкие в синих жилах руки, голые до плеч, наполовину всунуты под фартук, руки от нетерпения двигались, моталась большая голова в черном, низком колпаке.
– Боярин, сто лет те жить! Крепок ты еще рукой и глазом – у экой бабы груди снял, как у сучки…
Киврин, стаскивая кожаные палачовые рукавицы, вешая их на рукоятку кончара, воткнутого в бревно, сказал:
– У палача седни хлеба кус отломил! Ладно ли работаю, Кирюха?
– Эх, и ладно, боярин!
Ириньица лежала перед столом на полу в глубоком обмороке – вместо грудей у ней были рваные черные пятна, текла обильно кровь.
– Выгрызть – худо, выжечь – ништо! Ефимко, сполосни ее водой…
Дьяк, не надевая кафтана, в ситцевой рубахе, по белому зеленым горошком, принес ведро воды, окатил Ириньицу с головой. Она очнулась, села на полу и тихо выла, как от зубной боли.
– Ну, Кирюха! Твой черед: разрой огонь, наладь дыбу.
Палач шагнул к огню, поднял железную дверь, столкнул головни под пол.
Дьяк кинулся к столу, когда боярин сел, уперся дрожащими руками в стол и, дико вращая глазами, закричал со слезами в голосе:
– Боярин, знай! Ежели жонку еще тронешь – решусь! Вот тебе мать пресвятая… – Дьяк истово закрестился.
– Да ты с разумом, парень, склался? Ты закону не знаешь? Она воровская потаскуха – видал? Вору становщицей была, а становщиков пытают худче воров. Спустим ее – самих нас на дыбу надо!
– Пускай – кто она есть! Сделаю над собой, как сказываю…
– Ой, добра не видишь! Учил, усыновил тебя, в государевы дьяки веду. Един я – умру, богатство тебе…
– Не тронь жонку! Или не надо мне ни чести, ни богачеств…
Киврин сказал палачу:
– Ну, Кирюха, не судьба… не владать тебе бабиным сарафаном. Подь во Фролову – жди, позову! Ладил в могильщики, а, гляди, угожу в посаженые…
Палач ушел.
– Ефимко, уж коли она тебе столь жалостна, поди скоро в мою ложницу – на столе лист, Сенька-дьяк ночью писал. Подери тот лист, кинь! Ладил я, ее отпотчевавши, Ивашке Квашнину сдать да сыск у ей учинить – не буду… Купи на груди кизылбашски чашечки на цепочках и любись. Оботри ей волосья да закрой голову. Ну, пущай… так… Стрельцы, оденется – уведите жонку за Москву-реку, там сама доберется.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































