Текст книги "Разин Степан"
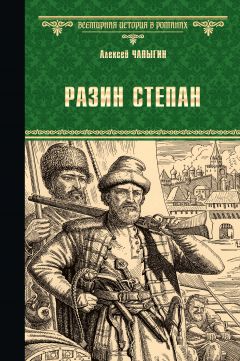
Автор книги: Алексей Чапыгин
Жанр: Русская классика, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 42 страниц)
– Мать Ильинишна, боярыня, примай гостя, пришел козак-от.
– Да где же он, мамка?
– Ту, у двери стоит…
– Веди, веди!
Мамка, стуча клюкой, выглянула за дверь:
– Эй, как тебя? Крещеной ли? Иди к боярине!
Звеня подковами сапог, Разин вошел в синем кафтане с чужого плеча, в окровавленной рубахе, лицо – в засохшей крови.
– Мамка, намочи скоро в рукомойнике рушник, дай ему обтереть лицо…
– Ой, уж, боярыня, век разбойную кровь не чаяла обмывать!
– Не ворчи, делай!
Мамка, отплевываясь про себя и шепча что-то, намочила полотенце, подала. Разин обмыл лицо.
– Вот ту, аспид, еще потри – шею и лапищи страшенные… Мой ладом.
– Добро, чертовка!
– Вот те провалиться скрозь землю – старуху нечистиком звать! Кабы моя воля – век бы на сей порог не глянул…
– Поди, мамка, мы поговорим глаз на глаз.
– И… и страшно мне, королевна заморская, одну тебя с разбойником оставить – я хоть девок кликну?
– Иди – никого не надо!
Мамка, оглядываясь на Разина, ушла.
– Садись, казак, вот здесь. Нет, тут не ладно, пересядь ближе, дай в лицо гляну… Худое лицо, глаз таких ни у кого не видала я…
– Боярину дал слово – недолго быть с тобой…
– Кто пекся о тебе, я или боярин?
– Не ведаю, – дал слово, держу!
– Ведай, кабы не я – боярин со своей истиной, гляди, оставил бы тебя в Разбойном. Я не дала…
– То спасибо, боярыня!
– Дар за дар: ты мне жизнь сохранил, и я тебе – тоже. Скажи: ты учинил соляной бунт?
– Народ вел я… он же злобился ране на бояр…
– Скажи, светло, привольно в степи на широкой воле? В море, в горах – хорошо?
– Мир широк и светел, боярыня, и бури в нем и грозы не мают, не пугают человека – радуют… Темно и злобно в миру от злого человека, боярыня! Сердце болит, когда видишь, как одни живут в веселии, в пирах время изводят, едят сладко, спят на пуху и носят на плечах золотное тканье, узорочье. Другие едят черствый кус, да и тот воеводы, дьяки, подьячие из рук рвут, топчут, льют кровь и куют в железа человека. А пошто? Да по то, чтобы самим сладко жилось.
– За то, что говоришь и видишь правду, поцелуй меня! Я тоже ту правду чую, да силы нет встать за нее, – целуй!
– Вот!.. И сладок твой поцелуй, боярыня. Глаз таких не видала, как мои, а я таких поцелуев досель не знал…
– Ты мог бы меня полюбить, казак?
– Не знаю, боярыня…
– Не ведаешь? Ты смеешь мне говорить? Я же люблю!
– Страшно тебе любить меня!
– Я не понимаю страха!
– Ты пойдешь за мной, боярыня?
– Пойду – и на все готова, хоть на пытку…
– Безумная ты!
– Жена полюбила – умной ей не можно быть! Горит душа, и любит сердце – нет страху, опричь радости единой, единой радости, как у звезды, коя с неба падает наземь и тухнет по дороге… Не боюсь и того, если душа моя потухнет и очи померкнут, – все примаю, и чем более позор, тем краше радость моя… Целуй еще!
– Нет… не могу!
– Вот ты какой? Я для тебя из тех, кто сладко ест и ненавидит черный народ, кто радуется его великому горю и скудости, да? Да?
– Слову твоему верю, боярыня! Чую – ты не такая, как все, но познай меня!
– Ну!
– Иду я скрозь моря, реки, города! Кого полюбил – ласкаю и кидаю жалеючи – нельзя не покинуть… Я – как дикий зверь, и будет за мной налажена от бояр великая травля, худчая, чем за зверем, – ее не боюсь! Я чую, ты сможешь взять в плен мою душу жалостью, того боюсь! Теперь еще спрошу, куда идти тебе со мной, в такой непереносный путь? В горы утечи? Кайдацкие горцы ловят и дагестанские татаровья да князь Каспулат, что худче зверей. В степях ордыны и турчин имает от Азова… И я не хочу, чтоб тебя с очей моих сорвали, продали ясырем поганые. Худая радость в дому, да почет и честь!.. Не могу переносить, что ты жить зачнешь в бое, муке… Или пора пришла великая тебе сменить терем на татарскую кибитку? Нет моих сил уберечь тебя, за добро лиха делать не могу…
Боярыня опустила голову.
– Вот скажу – ты не сердчай, с добра говорю. Покуда не накрепко срослись наши души – расстанемся!.. Подумай еще – на Дон умыкнуть тебя, там моя жена, да жена не лихо – лихо иное: зачахнешь с кручины, меня с долгих походов ждамши. Я на свет пришел – скажу тебе одной – платить злым за зло. Пусть правду вижу в лихе, с которым иду, – горит душа!.. Твоя, сказываешь, только согрелась любовью, моя же горит лихом… Прощай! Дай я поклонюсь тебе за добро, любовь и волю.
Разин встал, поклонился боярыне, она подняла голову, потянулась к нему:
– Пошто сохранил мне жизнь?.. Поцелуй еще!
– Эх, боярыня, не надо… Ну, как брат сестру!
– Не хочу быть сестрой! Кляну такое! Жажду быть любимой… Ах, казак, казак…
– Пора, прощай! Боярин ждет…
– Скажи, ты опять на бунт идешь?
– Здесь горит… Отец, брат… прощай, боярыня!
– Вот это на дорогу.
– Некуда!
– Крест на вороту носишь? Привяжи…
– У малого был, заронил…
– Возьми вот! Не гляди, опусти глаза, уходи! Мамка, выведи гостя!.. Где ты? Скоро уведи…
– Того жду, королевна заморская! Пойдем-ко, аспид.
Когда затворилась дверь, боярыня кинулась на лавку вниз лицом, вздрагивая от плача, жемчуг кики, попавшей ей вместо подушки, трещал на зубах. Заслышав знакомые шаги, она встала, обтерла слезы, прошлась по светлице, поправила лампадку, сильно пылавшую. Боярин вошел, заговорил от двери:
– Весела ли теперь, моя Ильинишна?
Она беспечно ответила ему:
– Муж мой, господин! Теперь моя душа спокойна, отныне, боярин, кончила тебе обиду чинить, и подарки твои мне желанны.
– Веришь, что ты дороже для меня чести?
– Верю, боярин!
Подошла, крепко обняла седую голову.
– Ну, вот… вот… я боялся напрасно… Погоди-ка, надо выйти, наладить с дорогой: будут, того гляди, опять ловить парня, да и ночь… Оставить же его с ночлегом у нас не можно – охул дому…
Боярин спешно повернулся, погладил по голове жену, ушел.
18В людской Морозова кто чинил хомуты, кто подшивал обувь, а из молодежи которые – те играли в карты на столе у небольшого светца. Тут же сидел мальчик, заправлял и зажигал лучину. Многие из холопов лежали по лавкам, курили трубки.
Людская изба обширная. Дымовое окно открыто в дым ник.
Разин стоял у шестка, заслонял широкой спиной заслон и печное устье. На плечах у него дубленый полушубок. Седой дворецкий подал Разину кнут палача:
– Вот, паренек, окрутись этим два раза.
Кто-то пошутил:
– Хорош паренек! Заправский палач! Хучь на Иванову выводи…
– Не скальтесь! Рукоятку, паренек, палачи подтыкают вот ту… спереди, чуть к правому боку… А ну, шапка эта ладна ли? Гожа! Топора не подберу, топоры все дровельники…
– Давай какой… и ладно!
Вошел боярин.
Все, кроме Разина, засуетились: те, что играли в карты, попрятали игру, курильщики зажали в кулак трубки, иные пихнули трубки куда попало.
– Холопи, кой табак курит, кури, трубок не прячь, пожог учините. Я не поп на духу и не акцизной дьяк.
Боярин перевел глаза на Разина, прибавил:
– В путь налажен, казак? Еще ему топор, дворецкий, подай.
– Да палачова топора, боярин, зде нету, и подходяща не найду…
– Бери фонарь, сходи, не дально место, в кладову Земского приказу, чай, не полегли спать? На мое имя – дадут. Холопи, за табак и вино не взыщу с вас, но, ежели кто зачнет судить, как парня седни палачом рядили, берегитесь, того, язычника, сдам в Земской в батоги!
– Слышим, боярин.
– Да пошто нам кому сказывать?!
– Дворецкий, по пути заверни к дьяку Офоньке, забери у него дорожные листы: один к решеточным сторожам, чтоб пропущали, другой для яма по Коломенской дороге – на лошадей. Да тот фонарь, что с тобой, дай казаку в дорогу.
– Сполню, боярин.
– Ну, каЗак, иди на Коломенскую дорогу. В первом яме покажешь лист – дадут лошадей… Там твоя шуба, пистоль, сабля… И знай иной раз, как Москва ладно в гости зовет! Пасись быть с разбойным делом!
– Спасибо, боярин! Приду ужо на Москву, в гости зазову и отпотчеваю, – ответил Разин, показывая зубы.
– Умеет Киврин страху дать, да, видимо, и краем тебя тот страх не задел! Вишь, еще шутки шутит! Моли бога, станишник, за боярыню – узрела тебя. Гнить бы твоей голове на московских болотах!
– Иду на богомолье, боярин! Ужо хорошо помолюсь!
Боярин ушел.
19Дворецкий в синем кафтане, расшитом по подолу шелком, стоял у горок с серебром. Стол был давно накрыт, и так как вечерело, то в серебряных шандалах горели многие свечи. Дорогие блюда с кушаньем и яндовы с вином – все было расставлено в порядке к выходу князя из дальних горниц. Воевода в малиновом бархатном кафтане сел к столу, сказал:
– Егор, наполни две чаши фряжским.
Дворецкий бойко исполнил приказание.
– Приказано ли пропустить ко мне едина лишь боярина Киврина?
– То исполнено, князь!
Дворецкий, ответив, имел вид, как будто бы еще что-то хотел сказать. Князь опорожнил одну из налитых вином чаш – дворецкий снова наполнил ее.
– Сдается мне, еще что-то есть у тебя сказать?
– А думно мне, князь Юрий Олексиевич, что боярин Киврин не явится к столу…
– Так почему думаешь?
– Сидит в людской его дьяк с грамотой к тебе, князь!
– Пошто медлишь? Кликни его!
– Слушаю, князь!
Вошел русоволосый дьяк в красном скорлатном кафтане, поклонился, подал воеводе запечатанную грамотку:
– От боярина Киврина! – Еще раз поклонился и отошел к дверям, спросил: – Ждать или выдти, Юрий Алексеевич?
– Жди ту! Пошто не докучал, время увел?
– Не приказано было докучать много.
Долгорукий распечатал бумагу, читал про себя.
«Друг и доброжелатель мой, князь Юрий Олексиевич! Нахожусь в недуговании великом, а потому к тебе не иму силы явиться. Довожу тебе, князь Юрий Олексиевич, что бунтовщика Ивашку Разю по слову твоему вершил и по слову же твоему ходил известить Морозова о другом брате, бунтовщике Стеньке. Морозов же, во многом стакнувшись с Квашниным Ивашкой, за разбойника, отамана солейного бунта, крепкую заслугу поимел, а молвя: “Безнаказанно-де его имали», после же отговору своего, как я отъехал, незамедлительно прислал ко мне в Разбойной приказ дьяка с листом, на коем ведаетца печать великого государя, «чтоб сдать оного бунтовщика Стеньку Разю боярину Квашнину в Земской”. И ведомо мне учинилось, князь Юрий, что в ту пору, как взятии с Разбойного шарпальника, Морозов укрыл его у себя в дому до позднего часомерия. Извещаю тебя, доброжелатель мой, что недугование мое исходит от сердечного трепытания, – оное мне сказал немчин-лекарь. Пошло же оно от горькой обиды на то, что вредный сей сарынец изыдет из Москвы со смехом и похвальбой, не пытанный за шарпанье держальных людей! Ведь такового, князь Юрий, не водилось из веков у нас! В сыске проведал, что будет спущен тот вор Стенька на Серпуховскую дорогу, и там бы тебе, воеводе, князю Юрию, вскорости получения моей отписки учинить на заставе дозор и опрос всех пеших и конных неслужилых людей, докудова не зачнет рассвет, ибо изыдет разбойник в ночь… Тако еще: хоша на листе от Морозова печать великого государя, да взять его, Стеньку Разю, в том листе указано в Земской приказ, а его, шарпальника, нарядили утеклепом, того великому государю неведомо, то самовольство бояр Морозова да Квашнина. Еще: оберегая Русию от лихих людей, мы имали оного бунтовщика беззаконно, ино утечи ему дати в сто крат беззаконнее. А тако: ныне изымавши в утеклецах разбойника, нам бы свой суд над ним вершить, яко над старшим братом, незамедлительно, минуя поперечников наших Морозова с Квашниным. И еще бью дольно челом князю Юрию Олексиевичу и скорого слова в обрат от моего доброжелателя жду».
Долгорукий поднял глаза:
– Иди, дьяк, молви боярину: что в силах моих – сделаю. Эй, Егор!
Вошел дворецкий, пропустив в дверях встречного дьяка.
– Прикажи конюшему седлать двенадцать коней, мой будет не в чет. Еще пошли того, кого знаешь расторопного, в Стрелецкий Яковлева приказ от моего имени, вели прислать стрельцов добрых на езду – двенадцать к ночному ездовому дозору. Собери для огня в пути холопов!
– Так, князь Юрий Олексиевич!
– Стой, пришли мою шубу и клинок!
– Сполню, князь!
20По сонной Москве, по серым домам с узкими окнами прыгают черные лошадиные морды, то вздыбленные, то опущенные книзу, иногда такая же черная тень человека в лохматой шапке с бердышом на плече. У башен стены, у решеток на перекрестках улиц топчутся люди в лаптях и сапогах, в кафтанах сермяжных, по серому снегу мечутся клинья и пятна желтого света фонарей, краснеют кафтаны конных стрельцов, иногда вспыхнет и потухнет блеск драгоценного вениса на обшлаге княжеской шубы, особенным звоном звенит о стремя дорогой хорасанский клинок в металлических ножнах, и далеко слышен княжеский голос:
– Сторож! Кого пропущал за решетку?
– Чую, батюшка, князь Юрий! Иду, иду…
Сторож в лаптях на босу ногу, в рваном нагольном тулупе, без шапки, ветер треплет косматые волосы и бороду, серебрится в волосах не то пыль снежная, с крыши завеваемая, не то седина.
– Ты слышишь меня? – Из-под соболиного каптура глядят сурово острые глаза.
– Слышу, батюшка! Упоминаю – кого это я пропущал? Много, вишь, я пущал: кто огнянной, а без огня и листа дорожного не пущал, князь Юрий…
– Человека в казацкой одежде пропущал?
– А не, батюшка князь! Станишники – те приметны, не было их… Купец шел, свойственник гостя Василия Шорина, да боярин Квашнин в возке волокся к Земскому, еще палач из Разбойного, так тот с огнем и листом, должно, боярина Киврина служилой…
– Палача не ищем! Ищем казака, да у Шорина много захребетников живет, и воровские быть могут. Давно купец прошел?
– С получасье так будет, батюшка!
– Стрельцы, отделись трое. Настичь надо купца, опросить. А куда он сшел, сторож?
– Да, батюшка, сказывал тот купец: «Иду-де на Серпуховскую дорогу…»
– Стрельцы! Неотложно настичь купца и продержать до меня в карауле. Ну, отворяй!
Сторож гремит ключами, трещит мерзлое дерево решетчатых ворот; отъезжая, князь говорит сторожу:
– Пойдет казак, зорко гляди – не пропусти… Увидишь, зови караул, веди казака во Фролову, сдай караульным стрельцам!
– Чую, батюшка! – Мохнатая голова низко сгибается для поклона.
Снова мечутся по стенам домов, по серому снегу пятна света и черные тени людей, лошадей и оружия… Вслед за боем часов на Спасских воротах, за стуком колотушек сторожей у жилецких домов звенит властный голос:
– Эй, решеточный! Кого пропущал?
И застуженный голос покорно отвечает:
– Дьяка, князь Юрий, пропущал до попа к тому, кто при конце живота лежит… Палача еще, и не единого палача-то, много их шло… все с огнем и листами… Лихих людей не видал…
– Ну, отворяй! Увидишь человека в казацкой одежде – тащи во Фролову. Теперь, стрельцы, на Серпуховскую заставу!..
21Киврин за столом в своей светлице, перед ним ларец. Старик тяжело дышит, обтирает шелковым цветным платком пот с лысой головы, иногда сидит, будто дремлет, закрыв глаза. Одет боярин поверх зеленого полукафтанья в мухтояровую шубу на волчьем меху, – бухарский верх – бумага с шелком, рыжий. Старику нездоровилось, и немчин-доктор не велел вставать, но он все же встал, приказал Ефиму одеть себя, вышел из спальной один, без помощи. Вслед за собой велел принести ларец с памятками; теперь сидя перебирал образки, крестики дареные, повязки камкосиные, шелковые пояса, диадемы с алмазами. Алмазы Киврин всегда называл по-иностранному – диамантами.
– Вот пояс камкосиный, подбит бархатом. Шит, вишь, золотом в клопец…6464
Особая вышивка.
[Закрыть] диаманты на нем мало побусели… Бери-ко себе – жениться будешь, опояшешься… Возьми и помни: даю, что честен ты, Ефимко!
– Эх, боярин, самому тебе такой годится – вещь, красота!
– Бери, говорю! Мне все это не в гроб волокчи. Человек – он жаден: иной у гроба стоит да огребает, что на глаза пало… зрак тусклый, руки-ноги не чуют, куда бредут… во рту горечь… Ничего бы, кажись, не надо, да гоношит иной. Я же понимаю… Только одно: не женись, парень, на той, коей я груди спалил… как ее?
– Ириньицей кличут, боярин, ино та?
– Та, становщица воровская. Ты был у ней?
– Ладил быть, боярин, да не удосужился…
– Прознал я во что: по извету татя Фомки, пойманы воры за Никитскими вороты, на пустом немецком дворе, с теми ворами стрельцы двое беглые. И сказывали те стрельцы, что вор Стенька Разя тую жонку Ириньицу из земли взял – мужа убила. Вишь, кака рыбина?.. Вот пошто она к тому вору прилепилась: от смерти урвал, а смерть ей законом дадена. Поздоровит мне – я ей лажу заняться, ежели тебе не тошно будет! Как ладнее-то, сказывай?
– А ничего не надумал я, боярин!
– Что вор? Дал ты мою грамоту князю Юрию? Себя не помнил я – лежал…
– То сполнил, боярин! Князь тут же, не мешкая, конно со стрельцами Яковлева приказу всю ночь до свету пеших по Москве и на заставах опрашивал… Много лихих сыскал да тот Разя не поймался…
– Ушел же?! – Боярин привстал на мягкой скамье и упал на прежнее место.
– Утек он, боярин…
– Тако все! Поперечники наши много посмеялись над нами и ныне, поди, чинят обнос перед государем на меня и князя Юрия… Во што! Я сказал вору: «Полетай! Большая у тебя судьбам – и мыслил: «Лети из клетки в клетку». А вышло, что истцы правду сказали: спущен вор Квашниным да Морозовым… И вышел мой смех не смех – правда… Ефим!
– Слышу, боярин!
– Скоро неси мою зимнюю мурмолку. Да прикажи наладить возок, поеду к государю грызтись с врагами.
Дьяк ушел за шапкой, боярин гневно стучал костлявым кулаком по столу и бормотал:
– Кой мил? Морозов, Квашнин или же я? Гляну, кто из нас надобен царю, а кого послать черту блины пекчи? Ушел вор… ушел!
Дьяк принес высокую зимнюю соболью шапку, подбитую изнутри бархатом; по соболиной шерсти низаны узоры из жемчуга с драгоценными камнями.
Шатаясь на ногах, Киврин встал, запахнул шубу, дьяк надел ему на голову шапку, боярин взял посох и, упираясь в пол, пошел медленно. На сером лице зажглись злобой волчьи глаза.
Дьяк забежал к двери. Когда боярин стал подходить к выходу, упал старику в ноги; боярин остановился, заговорил угрюмо и строго:
– Ты, холоп, пошто мне бьешь доль но челом?
– Ой, Пафнутий Васильич, боярин, родной мой! Недужится тебе, и весь ты на себя не схож… Ой, не иди! Скажут бояре горькое слово, а что скажут, то всякому ведомо. Да слово то тебе непереносно станет, черной немчин не приказывал тебя сердить, и, паси бог, падешь ты?.. Ой не езди, боярин-отец!
– Здынься! Дело – прежде, о себе потом, ныне я и без немчина чую, что жить мало. Сведи до возка, держи под локоть… Вернешь наверх в палаты, иди в мою ложницу, шарь за именным образом Пафнутия Боровского, за тем, что Сеньки Ушакова дело, – вынешь лист… писан с дьяками Судного приказу… там роспись: чем владеть тебе из моих денег и рухляди, а что попам дать за помин души и божедомам-кусочникам… Потерпит Бог грехам, вернусь от царя, отдашь и положишь туда же, а коль в отъезде, держи при себе. Утри слезы – не баба, чай! Плакать тут не над чем, когда ничего поделать нельзя… Веди себя, как вел при мне, – не бражник ты и бражником не будь… не табашник, честен и будь таковым, то краше слез… Грамоту познал многу – не кичись, познавай вперед борзописание, не тщись быть книгочеем духовных книг, того патриарх не любит, ибо от церковного книгочейства многое сумление в вере бывает, у иных и еретичество. Все то помни и меня не забывай… Дай поцелуемся. Вот… тако…
– Куда я без тебя сирота, боярин?
– Знай, надобно вскорости сказать царю, кого спустили враги, оно от того их нераденья чего ждать Русии. Хоть помру, а доведу государю неотложно!.. Веди! Держи… Ступени крыльца нынче как в тумане.
22На царском дворе, очищенном от снега, посыпанном песком, на лошадях и пешие доезжачие псари с собаками ждали царя на охоту. На обширном крыльце с золочеными раскрашенными перилами толпились бояре в шубах – все поджидали царя и, споря, прислушивались. Больше всех спорил Долгорукий:
– Кичиться умеете, бояре, да иные из вас разумом шатки! Афонька Нащока меня не застит у государя – есть ближе и крепче.
– Ой, князь Юрий! Иван Хованский не худой, да от тебя ему чести мало…
– Князь Иван Хованский бык, и рога у него тупые!
– Нащока, князь Юрий, умен, уж там что хочешь…
– Афонька письму зело свычен, да проку тому грош!
– Эй, бояре, уймитесь!
– Государь иде!
Царь вышел из сеней на крыльцо; шел он медленно; разговаривал то с Морозовым по правую руку, то с Квашниным, идущим слева. Одет был царь в бархатный серый кафтан с короткими рукавами, на руках иршаные рукавицы, запястье шито золотом, немецкого дела на голове соболиный каптур, воротник и наушники на отворотах низаны жемчугом, полы кафтана вышиты золотом, кушак рудо-желтый, камкосиный, на кушаке кривой нож в серебряных ножнах, ножны и рукоятка украшены красными лалами и голубыми сапфирами, в руке царя черный посох, на рукоятке золотой шарик с крестиком. Царь сказал Морозову:
– Кликни-ка, Иваныч, сокольника какого.
– Да нет их, государь, не вижу.
– Гей, сокольники!
– Здесь, государь!
Бойкий малый в синем узком кафтане с короткими рукавами, в желтых рукавицах подбежал к крыльцу.
– Что мало вас? Пошто нет соколов? Погода теплая, не ветрит и не вьюжит.
– Опасно, государь: иззябнут – не полетят. А два кречета есть, да имать нынче некого…
– Как, а куропаток?
– На куроптей, государь, и кречетов буде: густо пернаты, не боятся стужи.
– Все ли доспели к ловле?
– Все слажено, великий государь!
Царь подошел к ступеням, бояре толпились, старались попасть царю на глаза – кланялись, царь не глядел на бояр, но спросил:
– Кто-то идет ко мне?
– Великий государь, то боярин Киврин!
– А!.. Старика дожду!
Тихо, с одышкой Киврин, стуча посохом, словно стараясь его воткнуть в гладкие ступени, стал подыматься на высокое крыльцо. Чем выше подымался старик, тем медленнее становился его шаг, волчьи глаза метнулись по лицам Морозова и Квашнина, жидкая бородка Киврина затряслась, посох стал колотить по ступеням, он задрожал и начал кричать сдавленным голосом:
– Государь! Измена… спустили разбойника…
Царь не разобрал торопливой речи боярина, ответил:
– Не спеши, подожду, боярин!
– Утеклецом… вороги мои Иван Петров… сын… Квашнин!
Киврин, напрягаясь из последних сил, не дошел одной ступени, поднял ногу, споткнулся и упал вниз лицом, мурмолка боярина скользнула под ноги царю.
Царь шагнул, нагнулся, хотел поднять старика, но к нему кинулись бояре, подняли; Киврин бился в судорогах, лицо все более чернело, а губы шептали:
– Великая будет гроза… Русии… Разя, государь… спущен!.. Крамола, государь… Квашнин…
Киврин закрыл глаза и медленно склонил голову.
– Холодеет!.. – сказал кто-то.
Старика опустили на крыльцо; сняли шапки:
– Так-то вот, жизнь!
– Преставился боярин в дороге…
Царь снял каптур, перекрестился, скинув рукавицу.
Бояре продолжали креститься.
– Иваныч, отмени ловлю. Примета худая – мертвый дорогу переехал.
Морозов крикнул псарям:
– Государь не будет на травле, уведите псов!
– Снесите, бояре, новопреставленного в сени под образа.
Бояре подняли мертвого Киврина. В обширных сенях с пестрыми постелями по лавкам, со скамьями для бояр, обитыми красным сукном, опять все столпились над покойником. Царь, разглядывая почерневшее лицо Киврина, сказал Квашнину:
– На тебя, Иван Петрович, что-то роптился покойный?
– Так уж он в бреду, государь…
– Пошто было выходить? Недужил старик много, – прибавил Морозов.
– Вот был слуга примерный до конца дней своих.
Выступил Долгорукий:
– Государь! Ведомо было покойному боярину Пафнутию, что, взяв от него с Разбойного – вот он тут Иван Петрович Квашнин, – отпустил бунтовщика на волю, бунтовщик же оный много трудов стоил боярину Киврину, и считал боярин долгом боронить Русию от подобных злодеев. Сие и пришел поведать тебе, великий государь, перед смертью старец и мне о том доводил. Печалуясь, сказывал покойный, что недугование его пошло от той заботы великой. И я, государь, с конным дозором стрельцов по тому делу ночь изъездил, а разбойник, атаман соляного бунта, великий государь, утек, не пытан, не опрошен, все по воле боярина Ивана Петровича…
– Так ли, боярин?
– Оно так и не так, государь! А чтоб было все ведомо тебе и не во гнев, государь, то молвлю – беру на себя вину. Разю, есаула зимовой донской станицы, отпустили без суда, государь, ибо иман он был в Разбойной боярином Кивриным беззаконно…
Квашнин переглянулся с Морозовым.
Морозов сказал:
– Есаула Разю, великий государь, спустил не Иван Петрович, а я!
– Ты, Иваныч?
– Я, государь! А потому спустил его, что на Дону по нем могло статься смятенье. Что Разя был в солейном бунте атаманом, то оное не доказано и ложно… Не судили в ту пору, не имали, нынче пойман без суда, и отписку решил покойный дать тебе, великий государь, по сему делу после пытошных речей и опроса. Где то и когда видано? Что он был в поимке оного бунтовщика на Дону и многое отписал по скорости ложно – всех казаков не можно честь бунтовщиками. Теперь и прежь того, при твоем родителе, государь, донцы и черкасы служили верно, верных выборных посылали в Москву, а что молодняк бунтует у них, так матерые казаки умеют ему укорота дать… Вот пошто спустил я Разю, вот пошто стою за него: беззаконно и не доказано, что он вор.
– Что ты скажешь, Юрий Алексеевич, князь? – спросил царь.
Долгорукий заговорил резко и громко:
– Скажу я, великий государь, что покойный Пафнутий Васильич сыск ведал хорошо! И не спуста он имал Стеньку Разю. Русь мятется, государь. Давно ли был соляной бунт? За ним полыхнул псковский бунт. Сколь родовитых людей нужу, кровь и обиды терпело? Топор, государь, надо Русии… кровь лить, не жалея, – губить всякого, кто на держальных людей ропотит и кривые речи сказывает. Хватать надо, пытать и сечь всякого заводчика! Уши и око государево должно по Руси ходить денно и нощно… Того вора, Разю Стеньку, что спустил боярин Борис Иванович, – того вора, государь, спутать было не надобно! И вот перед нами лежит упокойник, тот, что до конца дней своих пекся о благоденствии государя и государева рода, – тот, что, чуя смертный конец свой, не убоялся смерти, лишь бы сказать, что Русию чадо спасать от крамолы.
– То правда, князь Юрий! А так как новопреставленный назвал боярина Квашнина, в нем видел беду и вину, то Квашнина боярина Ивана я перевожу из Земского в Разрядный приказ, пущай над дьяками воеводит, учитывает, сколь у кого людишек, коней и достатка на случай ратного сбору… Тебя же, князь Юрий Алексеевич Долгорукий, ставлю от сей день воеводой Земского приказу замест Ивана Квашнина.
Квашнин поклонился, сказал царю:
– Дозволь, государь, удалиться?
– Поди, боярин!..
Квашнин, не надевая шапки, ушел.
Царь перевел глаза на Морозова:
– Надо бы Иванычу поговорить с укором, да много вин боярину допрежь отдавал. Обычно ему своеволить… придется отдать и эту.
Морозов низко поклонился царю.
– Да, вот еще: прикажи, Иваныч, перенести с честью новопреставленного боярина к дому его.
– Будет сделано по слову твоему, государь!
Царь спешно ушел, ушел и Морозов, кинув пытливый взгляд на Долгорукого.
Бояре, делая радостные лица, чтобы позлить князя, поздравляли Долгорукого с царской милостью.
Князь, сердитый, сходя с крыльца, сказал гневно:
– Закиньте, бояре, лицемеровать, самим вам будет горше моего. Когда придется в Разрядном приказе перед Квашниным хребет гнуть, тогда посмеетесь! Нынче, вишь, ведаете, что дружить с боярином Борисом Ивановичем и Квашниным не лишнее есть!
Долгорукий уехал.
Челядинцы царские принесли в сени гроб, бояре стали разъезжаться.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































