Текст книги "Разин Степан"
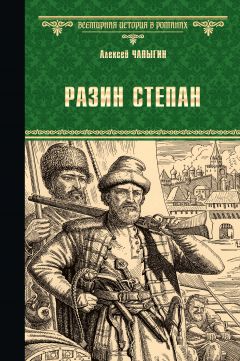
Автор книги: Алексей Чапыгин
Жанр: Русская классика, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 29 (всего у книги 42 страниц)
Широкий простор Волги отсвечивает звездной россыпью на много верст… Под ногами земля мутно-серая… Маячат ближние сакли татар на длинных хребтах повозок, чернеют лошади, отпущенные кормиться. В темноте лошади сторожко задирают черные головы, жмутся к жилью. Палатки казаков серы и тусклы. Где-то проходит дозор, слышен негромкий окрик:
– Гей, кто-о?
– Нечай!
В большом шатре атамана сквозь полотно расплывчатые пятна огней.
– Шемаханская царевна ждет?
Атаман тихо шагает, чтоб поглядеть на персиянку: как, оставшись одинокой, она живет в шатре. Прошел дозорный казак, узнал атамана. Разин, прислушиваясь к звукам своего жилья, подумал:
«Пост ли, говорит что?» – подошел к шатру. Чуть приподняв полотнище, заглянул: на сундуках горели свечи, на атаманском месте на ковре и подушках полусидел длинный черноусый, с калмыцкими, немного раскосыми глазами, с черными прямо на лоб и шею, без завитков, падающими волосами. На его плечо прилегла голыми руками, положив на руки голову, княжна в шелковой тонкой рубахе. Персиянка жадно слушала казака; казак говорил по-персидски. Разин поднял ногу шагнуть и медленно опустил.
«Жди, Стенько!»
Казак говорил, покуривая трубку; докурив, вынул изо рта трубку, сунул в карман синего кафтана, повернул к княжне лицо, что-то спросил, она не ответила, тогда казак обхватил ее голову с распущенными косами левой рукой, на которой лежала девушка, поцеловал ее в глаза – она не отворачивалась; а, когда казак ее отпустил, персиянка заломила смуглые руки, глядя вверх, заплакала, редко мигая, начала что-то полушептать, видимо жалуясь. Казак погладил рукой по голове княжну, но она не изменила положения. Он ударил себя кулаком по колену, сказал, как говорят клятву, какое-то незнакомое слово.
– «Сторговались – в сани уклались!» – почему-то отозвалось в голове у Разина много лет назад у Ириньицы в Москве сказанное юродивым, и он ответил тому далекому голосу: «Да, сторговались!»
Откинув завесу, шагнул в шатер. Казак быстро встал на ноги, княжна не шевельнулась, не взглянула на атамана, она так же сидела, заломив руки.
– Зейнеб, уходи!
Понимая много раз слышанное приказание господина, персиянка быстро, как и не была, исчезла. Казак, здороваясь, протянул руку. Разин не пожал руки, сел на свое место; сидя, открыл ближний сундук и, вытащив кувшин с вином, две чары серебряных налил.
– Сядь, Лавреев, – пей!
Васька Ус сел, сказал, берясь за чару:
– Много скорбит, батько, девка по родине… Спустить ее надо, увезти – не приручить к клетке вольную птицу.
– Не я имал, Василий. Имал княжну Петра Мокеев, любимой-памятной: спустить – память Мокеева забвенна станет… Пей! Едино есть, с Мокеевым мы сошлись на Волге. Разве что Волгу поспрошать, быть как?
Ус, опорожнив чару, заговорил просто, нехвастливо:
– Я для тебя Царицын занял, батько… Шел с казаками, стал под городом. Царицынцы затворились, мекали – ты идешь с боевым табором, потом пытали, где ты. Я сказал: «Пошел-де Разин калмыков зорить»; сказ за сказом, глядят, мы – мирные, зачали ходить на Волгу за водой и, к колодцам выходя, караул ставили, чтоб казаки врасплох город не взяли… У меня же казакам наказано: «Не шевелить вороха малого!» Стал я с посадскими беседы вести, с торговыми торговать без обману… обыкли… Водкой поить стал их, медами украинскими, чую – жалобят на воеводу: «Так вы чего, говорю: кончайте лиходея!»
– Пей, Василий!
– «Заведите нас в город, коли самим не управиться с воеводскими захребетниками, а мы город не тронем…» Тайком привели попа – крест поцеловал, что не трону город. Они ночью караул разогнали, замок с ворот сбили и нас завели. Воеводу мы повесили – Тургенева Тимоху. Головы стрелецкие стрельцов повели на Царицын, а мы тех стрельцов со стены в пушки взяли; голов, кто не сдался, утопили, иных повесили.
– То ладно, Василий! Еще Астрахань возьмем, и будет нам с чем зиму зимовать… Худо вот – девку ты метишь в Кизылбаши повезти. Не одну спустить – кумыки, а пуще лезгины полонят… устьманцы.
– Одну не можно спустить, батько!
– Ежели ты уйдешь с ней, где ж я такого найду, как ты? Удалых мало – Сергей в Ряше сгиб, Серебрякова Ивана да Петру шах кончил, ты же посторонь идти норовишь… Думай, сам гляди! Народ бежит к нам – народ простой, без боевой выучки, с топором, луком да стрелой… С боярами дело будет крепкое, не все время нам посадских подговаривать. У царя с боярами иноземцы, орудийные мастеры, капитаны да огнеприметчики. Выучка у иноземцев заморская, новая, а надобно нам ихнее изломить, свой зарок сполнить: на Москве у царя наверху подрать грамоты кляузные, с народа же поместную крепость снять!
– Знаю, батько! Тяжелое наше дело…
– Нелегко, да взялись – пятить некуда… Идет, ждет, дела просит народ! Ты же с бабой в Кизылбаши и там перекрасишься в перса.
– Не таю, батько Степан: с жалости слово ей дал – увезти…
– Дать-то дал, да меня забыл? Все же хозяин ясыря я… Как же ты, ведаешь ведь, атаманский дуван дается особой, любой – никто руки к ему не тянет, из веков так: любое атаману! Как и Сергей – названой брат ты… Сергей за меня голову сложил, надо было. За него, не думая, и я сложил бы, в том сила наша… Ты же не тот, – что значит чужая кровь: не впусте твоя мать была турчанка…
– Не турчанка, батько Степан, – персиянка… Учила меня суру читать, да кабы не отец – я был бы мухам-медан…
– Вот-то оно – чужой ты!
– Как брату, батько, думал я, ты дашь девку: она и я смыслим друг друга… Мне с ней путь один! Тебя она – прости – не любит…
– Княжну не жаль! Любви к ней нет… Удалого же человека потерять горько. Горько еще то, что ты, как Сергей, ничего не боишься, какой хошь бой примешь и удал: когда я шатнусь, атаманить можешь, не уронишь дела…
– Отдай мне персидку, батько! Люблю я ее… Полюбил, вот хошь убей.
– Приискал в шатрах место?
– Да, есть!
– Поди! Проходить будешь ближний к солончакам шатер Степана Наумова, прикажи ему ко мне.
– Прощай, Тимофеич!
9Разин сидел, глубоко задумавшись. Локти уперлись в колени, большие руки зарылись в кудри. С виду второй Разин, только сутулее и уже в плечах, тронул атамана за локоть, садясь.
– На зов твой, батько!
– Да, Степан, да, да, да… – Разин надел шапку, тряхнул головой, налил два ковша крепкого меду, один выпил, другой поднес есаулу.
– Пей, атаман Степан Тимофеевич!
– Пошто?! Я Наумыч, батько?
Разин сказал упрямо:
– Ты – Степан Тимофеевич, знай!
– Что с тобой, батько? Пришел в становище удалой – Васька Ус… Казаков с тыщу привел, по пути Царицын, сказывают, заняли. Сила твоя что ни день растет, слава ширится, а ты как не в себе – вид твой скорбен.
– Понял так, будто я с глузда сполз? Нет, есаул. А вот: наряжу я тебя в свою сбрую, дам чекан, который много казаки знают, шапку с челмой с золотыми кистями вот эту нахлобучишь и замест меня на Дон поедешь с честью… За тобой – хо! – потянут царевы лазутчики, доносить будут царю с боярами: «То-де да это угодует Стенька Разин – Степан». Я, тут сидючи, влезу в есаульскую рухледь, зачну носить кафтан с перехватом, сбоку прицеплю плеть, булаву тебе дам… Бороду, коли занадобится, сбрею, не голова, отрастет борода. Буду ведом атаманом втай своим, ближним; для черни слыть есаулом атаманским… Сказки, вишь, идут про царевича: от царя, бояр сбег к атаману, оттого-де заказное слово у Разина «нечай»: не чаете, как царевича узрите. И то нам ладно. А тут еще я: подбавил сказки – наказал обволокчи черным сукном речной струг, посадил в черной однорядке с крестом на груди попа сбеглого, схожего с расстригой Никоном, коего на Москве зрел в патриархах, схож бородой и зраком – на черта нам Никон, да сказки прибавит… Тебе же, когда досуг падет на долю, глянуть истинного Никона придется, шатнуть в Ферапонтов, спытать его – не загорится ли злобой на бояр? Ох, то ладно было бы! Всю бы Русь с им от женска рода до старческа подняла. Да нет, чую, сердцем и слухом чую – потух старик. Бояра, царь и многая приспешная царю сволочь путает, лжет, сказки пущает в народ, и мы зачнем лгать.
– Не осмыслил я, батько, тебя сразу… Ты затеял ладно…
– Нынче так! Пушки кои в струги на дно кинем, паздерой да соломой засыплем, а тех, что не скрыть, ответишь воеводе: «Надобны-де нам теи пушки от немирных сыроядцев – пойдем степью с Царицына на Дон». Уволокешь за собой речные струги, паузки плоскодонны и челны. В греби народу тебе хватит, мужиков-топорников сошлось много… Худо то есаул: бойцы наши сплошь сермяжны, лапотны, к бою пищали несвычны, им не давалась пищаль – запрет от бояр, помещиков, оттого, как цель держать, огнем дуют – оба ока заперты. Обучать их – гляди, бояра времени не дадут… Ну, черт с ним! Ваших голов не жаль – своя на то идет… По Волге наплывёшь, Степан, стрельцов ли, солдат в колодках – сбивай путы, мани с собой. Всяк дорог, кто к пищали свычен. Они и сами, колодники, шибутся на твой струг, пойдут… На Дон приедешь – в Чсркасск не бувай, матерым казакам не кажись: много с детства знают меня. Стань ты при входе Донца в Дон на остров меж Кагальницкой да Ведерниковой. Остров большой. Кинь шатры, немедля строй на острове бурдюжной город, окопай рвом, роскаты наруби, тут тебе топорники гожи – народу с тобой будет довольно. Да вскорости, как пойдут купчины в паузках к Черкасскому, имай их, давай торговать и хлеб скупай. Чтоб голоду не было, сострой для хлеба анбары, сыпь зерно и в запас купи. В Черкасск пошли надежного человека, мани к себе мою жену с детьми. Фролка – брат – с Лавреевым вышел, да где сидит, не дошел еще сюда… Олене уясни правду, а робята меня не знают – за отца сочтут, и ты для глаз чужих их ласти. Олена – та о всем смолчит… Матерым казакам, кои пришлют по деньги – за свинец, порох, – деньги дай. Не сам прими их, пущай Олена с ними. Бурдюг матерым не кажи и пристрою зреть не давай… Ко времени я доспею в твой Кагальник, ты же тайным путем исчезнешь. Замест меня здесь сядет в тое время Лавреев, Васька Ус. Еще отпиши скоро, как на Дону будешь, в Яйк, чтоб яицкие из тюрьмы спустили Федора Сукнина; имали его, когда с Кизылбаши шел. Яицкие из веков послушны Дону… Я Сукнина отселе мыслю достать, но все же пиши в Яйк… Чего не пьешь?
– Сказывай еще – слушаю тебя, батько! Думаю, когда велишь сбираться?
– Времени мало – повещу! Пождать надо от воеводы грамоту, чтоб путь твой, Степан Тимофеевич, без поперечки был, с честью, с проводами голов стрелецких. Ты к сапогам каблуки набей выше, я же тебе кафтан сготовлю с подплечьями шире плеч для… брови сурьми. Голоса не давай вовсю – маши чеканом да рычи… Иногда, когда потребно, лицо подзавешай… сказка так сказка! Царевы грамоты стренешь – имай и дери…
– Эх, батько, почести мне сколь! Ну и сказка…
– Сыска за тобой больше почести будет, сказываю… Аргамаков, что царю курчины-тезики везли, возьмешь и лишнюю рухледь, узорочье тож… В Царицыне сыщи прежнего воеводу… Не убей, погоняй ладом черта!
– Унковский, батько, доглядчик, – знаю, и он знать будет меня!
– Поди, Степан! Проверь дозор и спи!
Разин проводил есаула за шатер. Вернулся. Приподнял сбоку фараганский ковер. На низком резном табурете, как всегда, горели три свечи. На подушках, раскиданных на ковре, под тонким шелковым покрывалом спала княжна. Маленькая, голая до колен нога с крашенными киноварью ногтями высовывалась на ковер, нежные пальцы ноги шевелились во сне… Смуглые руки в браслетах закинуты за голову, бледное лицо повернуто в тень. На щеке тлеет ярко очерченный румянец. Тяжелое, с хрипом, дыхание шевелит в розовом ухе дорогую серьгу с изумрудами, в ноздре изогнутого носа видна зажившая ранка от кольца – украшения. Под тонким шелком, голубовато-бледным, фигура вздрагивавшей во сне девушки, явно больной, все же была невыразимо красива. Атаман, опираясь, дернул ковер, вздрогул весь большой шатер от могучего движения. Складки на лбу атамана разгладились, глаза ласково светили, минуту он глядел, пока не опустилась на грудь седеющими кудрями голова, тогда он мотнул головой, вскинулись концы чалмы, отвернул лицо, вздохнул:
«Не верю крестам… Верил, то перекрестил бы безгласную по-нашему, будто птицу, в гае уловленную сетьми… Жалобит иной раз… Поет тоже, а что поет? Как у птицы, неосмысленно моим умом… Эх, к черту, да!.. Ваську жаль, жаль и ее, чужую… Вот коли вырвешь, что жалобит, то много легше…»
Не гася огней, не раздеваясь, атаман пал на ковры, звякнув саблей и цепью сверкнув. Шапка с чалмой скатилась с головы. Разин захрапел; иногда, переставая храпеть, словно прислушиваясь, скрипел во сне зубами. За шатром в слободе лаяли собаки, в городе им отвечали более отдаленным лаем. Лай смолк. Высоко в звездном небе слышен неровный грустный звон – то на раскате перед астраханским собором церковный сторож, он же часовой-досмотрщик, выбивал согласно стрелкам часы.
Раз! Два! И так до восьми, что значило полночь, двенадцать часов214214
Старинный счет часов был вперед почти на четыре часа.
[Закрыть].
Вблизи шатра атамана в сумраке беззвучной тенью проплывал человек дозора с пищалью на плече. Он слышал, как из татарской сакли, мутной, на мутных колесах-подпорках, кто-то злым голосом ругал женщину, ушедшую в тьму:
– Иблис! Шайтан, шайтан, иблис!215215
Дьявол! Черт, черт, дьявол! (татарск.)
[Закрыть]
Лающая голова, словно башлыком, прикрыта войлочными полами входа.
10В Приказной палате три подьячих: два молодых и пожилой – любимец воеводы Петр Алексеев, с желтым узким лицом. По его русо-рыжеватым волосикам, жидким, гладко примазанным к темени, натянут черный ремень. Думного дьяка за столом нет, нет и подручных дьяков. Перед подьячими бумаги. Кроме Алексеева с дьяками, подьячие, что помоложе, обязаны читать вслух бумаги, но без старших сегодня не блюдут правил. Лишь один, самый молодой, румяный, с яркой царапиной на лбу, с рыжей щетинкой усов, бубнил, старательно выговаривая каждое слово, как бы учась читать грамоты перед самим воеводой. Читал бумагу подьячий с пропусками. Алексеев сказал:
– Заставлю тебя, Митька, чести заново!
Парень, не слушая, продолжал:
– «…и та лошедь записана, и ему, Павлу Матюшину, та лошедь с роспискою отдана, а как спросят тое лошедь, и ему, Павлу, поставить ее за порукою астраханского стрельца-годовальщика, Андрюшки Лебедева, да другово стрельца, Сеньки Каретникова. Они в той лошеди ручались, что ему, Павлу Матюшину, тое лошедь поставить на Астрахани перед воеводу князя Ивана Семеновича Прозоровского, а буде та лошедь утеряется, и ему, Павлу, цену плотить. Во 177 году августа в 3 день астраханской стрелец Гришка Чикмаз оценил тое лошедь, что привел Павел Матюшин – кобылу коуру, грива направе, осьми лет, на левом боку надорец216216
Надорец – надорвано, оцарапано глубоко.
[Закрыть], а по оценке ценовщика дать с полугривною тридцать алтын».
Прочитав, подьячий потянулся, зевнул.
– Покрести рот, не влез бы черт!
Парень не ответил Алексееву. Обмакнув остро очиненное перо в чернильницу на ремне, звонко прихлопнув железную крышку ее толстым пальцем, на полях лошадиной записи приписал: «Ой и свербят же мои!»
Алексеев схватил подьячего за рукав:
– Закинь, Митька, грамоты марать! Ась, бит будешь…
Подьячий, освободив руку, отряхнул с гусиного пера мусор, написал:
«Ой и свербят! Дела просят…»
– Пишу я, Лексеич, а думаю: кому сю бумагу нести? Жилец астраханской, большой дворянин, угнал у татарина лошедь и не явит перед воеводу – деньги даст; суди сам, чего не дать за матерую кобылу тридцать алтын? Татарину жалобить некуда: сам он без языка, письма не разумеет, а мурзы татарские взяты все аманатами на Астрахань.
– Велико то дело, не приведет! Ты вот к юртам татарским ходишь, путем-дорогой к шарпальникам Разина. Мотри, парень! Имал я кои прелестные письма воровские, и, вишь, в письмах тех рукописание схоже с твоим, а-ась? Ты – Васе! Закинь тоже грамоты живописать… Бит был, чуть не сместили вот…
Другой подьячий, водя по щеке концом языка, рисуя на полях, ответил:
– Нам с Митюшкой, Петр Лекссев, ладных грамот не дают чести, худую же украсить надо, може, на ее тож очи вскинут.
– Ну, ась, робята! Беда с вами; придут дьяки, узрят – пошто челобитные марают словами матерны? Пошто живописуют чувствилища мерзкие? Я же за вами доглядчик.
– Дьяки ништо, Петр Лексеев! Вот худо: воеводе в ухо дуешь всякую малость… Должон, как и мы, чести челобитные да судные грамоты, ты же – гибельщик наш, едино что.
– Доводить буду! Пришел делать, не озоруй, всяка бумага, она тебе – государево дело.
– Слушь, Мить: седни сошлось, что с Петрой одни мы, а дай-кось надерем бок гибельщику.
– Давай! Може, лишне доводить кинет?
Лица парней оскалились, оба, вскочив, скрипнули скамьями, сдвинули синие рукава нанковых кафтанов к локтям. Тот, что рисовал, искрясь глазами, крикнул:
– Ладим тебе, Петрушка, по-иному волосье зачесать!
– Парни, ась, в палате бой, не на улице, за государевым делом! Закиньте, парни…
– А где прилунилось! Вишь – у тя за обносы дареной кафтан не мят!
– То само! Мы те из кафтана лишнюю паздеру выбьем, бока колоть не будет… хи…
Любимец воеводы нырнул под стол:
– Ведайте, разбойники! Не на площади бой – сыщут…
– Мы тя сыщем, княжая чадь!
– Пинай! Он тута.
– Глобозкой217217
Скользкий.
[Закрыть], дьявол!
– Попал вот… Мы те живописуем архандела сапогами на…
– Чу?!
В дверь Приказной палаты знакомо стукнул набалдашник посоха.
– Мить, воевода! Сними щеколду!
Подьячий поднял сваленную на пол скамью, сел за стол, мазнул широкой ладонью по лицу, стирая пот. Другой пошел к двери; воевода повторил стук строго и раздельно. Алексеев вылез на место, взялся за бумаги.
– Годи, черт! Ужо за язык…
Алексеев, читая грамоту, тихо ответил:
– Ась, седни что было, не умолчу…
– Доводи – черт тя ешь!
Воевода, глядя тусклыми глазами вдаль, прошел по палате, не замечая, не слыша подьячих, и неспешно затворился в воеводской горнице. Деревянная постройка гулка, Прозоровский из-за двери позвал:
– Алексеев!
– Чую, ась!
Старший подьячий, неслышно пройдя к воеводе, плотно припер двери.
– Быть нам битыми!..
– Убить его, Митька, да бежать!
– Чем здесь, краше атаману писать прелестные письма.
– Уй, тише ты-ы!..
Из горницы донесся голос:
– Сядь, слушай, что буду сказывать!
– Чую, ась, князинька!
Все до слова слышно было в Приказной. Воевода говорил гнусавя, но громко и раздельно:
– Пиши! «Грамота атаману Степану Разину от воеводы астраханского, князя Ивана Семеновича Прозоровского»… Что-то перо твое втыкает?
– Кончил, ась, я, князинька!
– «Не ладно, атаман, чинишь ты, призывая мног народ беглой к Астрахани, и надобно тебе распустить, а не манить людей, чтоб тем не чинить нелюбья от великого государя, и ехати тебе вскорости в войско донское, чего для службы в войске за многая вины своя перед землей русской и великим государем. А послушен станешь старшине войсковой, великий государь вменит нелюбье в милость тебе. За тое дело, что нынче на Астрахани князь Михайло Семенович на тебя во хмелю бранные слова говорил, то ты, атаман Степан Разин, в обиду себе не зачти… Мног люд, стекшийся к Астрахани, опасен ему, хмельному, стался, и тебе он хотел говорить, чтоб ты, распустив мужиков, калмыков и иной народ, снявшись со становища, ехал бы в войско донское… Я же непрошеному попущению много сердился и перед князем Семеном Львовым за братнее неучтивство бил челом. Нынче сдай ты, атаман, струги, пушки да снимись в путь поздорову, мы же тебе с князь Семеном перед великим государем верные заступники и молители будем!»
– Исписал? Добро! Дай-ка грамоту, я подпишусь!
В палате подьячий шепнул:
– Мить! Скинь сапоги, слушай… чай, доводить, сука, зачнет?
Младший, быстро сняв сапоги, подобрался к дверям. За дверями Алексеев тихо наговаривал:
– Беда, ась, князинька! От служилых лай, да седни подьячие Васька с Митькой норовили меня бить, и ты вшел, закинули… Едино лишь за то, что дал запрет: Митька на полях челобитных с отписками марает похабны слова. Хуже еще Васька: на черной грамоте игумну Троецкого исписал голое гузно; оное после, как я углядел, из вапницы218218
Вапы – краски. Вапница – род чернильницы, с краской.
[Закрыть] киноварью покрыл, борзописал на том месте буки слово, тем воровство свое закрасил и завилью золотной завирал. Митька же ходит за город в татарские юрты и, ведаю я, походя вору Стеньке Разину прелестные письма орудует… Про атаманов, мурз судит, что взяты на Астрахани…
– Ты, Петр, до поры подьячих тех не пугай… Сойдет время, Митьку того для велю взять в пытошную и допросить с пристрастием… Ваське – батогов!
Подьячий, спешно обуваясь, дрожал.
– Ты што, Мить?
– Довел: тебе батоги, меня пытать.
– Не бойсь, седни же в ночь бежим к казакам.
Дверь отворилась, мелькнул воевода за столом с рукой в перстнях, упертой в бороду… Подьячий Алексеев, тая злую улыбку на желтом лице, деловито шел к столу Приказной, стараясь не глядеть на младших.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































