Текст книги "Пароход в Аргентину"
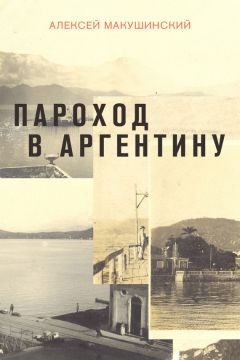
Автор книги: Алексей Макушинский
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 15 страниц)
Глава 12
…my steps repeat
Someone’s who now has left such strands for good
Carrying his boots and paddling like a child,
A square black figure whom the horizon understood…
Мост в Рио-Давиа нужен был потому, что найдена была нефть (просто нефть, никакая не сланцевая). Поэтому же нужен был новый порт, в который могли бы заходить танкеры, порт рядом со скважинами и тоже новым, в ту пору, кажется, еще не достроенным заводом, где нефть предполагалось, прямо на месте, превращать в бензин, керосин, смазочные масла и другие прекрасные вещи, а наличие гавани, скважин, заводов, смазочных масел, термического крекинга и других прекрасных вещей обеспечило город деньгами, позволившими (Александру Николаевичу Воскобойникову) построить вокзал, университет, музей, стадион и, в сущности, сам этот город, до той поры являвший собою бессмысленное скопление домов, домиков и домишек, разбить в нем парки, проложить по нему проспекты. Нефтяные скважины (пишет А.Н.В.) расположены прямо против города, на полуострове, узкой, песчано-скалистой, почти без растительности, косою – никакая растительность не выживет на этом ветру – далеко выдающейся в океан; город же, тогда еще: городок, укрыт от ветра тоже скалистой, с редкими соснами, горкой. Коса начинается примерно за пятьдесят километров к северу; залив слишком мелок, чтобы танкеры могли заходить в него. Было два варианта развития региона (пишет А.Н.В. чужим оловянным языком): углубить залив и перенести порт, а с ним и город, на север, или связать все это, порт, город, скважины и заводы – мостом. Первый вариант был слишком дорог и неудобен; на наше счастье (переходим на свой язык), правительство (как раз национализировавшее нефть и прочие прелести бытия) предпочло все-таки – мост. К тому времени уже существовали мосты более длинные (George Washington Bridge, Golden Gate Bridge…); нигде еще не строили, кажется, на таком сумасшедшем ветру. Это был, насколько я знаю, единственный проект, который А.Н.В. и Владимир Граве разработали вместе; все остальное А.Н.В. уже строил один в Рио-Давиа, сотрудничая с другими инженерами, чаще всего, похоже, с уже упомянутым выше Пабло Гассманом, с которым строил вместе и в поздние годы, в Европе, в Японии; Владимир же Граве занимался в Буэнос-Айресе другими проектами, другими постройками. С чем это связано, я не знаю; возможно с тем, что Граве оставался сотрудником, в скором времени – ведущим сотрудником, Skanska Latin Amerika, а подряды в Рио-Давиа получали какие-то другие фирмы (но я не знаю, опять-таки, почему). Зато их единственный совместный проект был если и не самым значительным проектом, осуществленным А.Н.В. в Аргентине, таковым был, конечно, вообще Рио-Давиа, все вместе, и проспекты, и парки, и стадион, и музей, то, во всяком случае, самым заметным, точно – самым дорогим из всего этого, началом его славы, основой его успеха. Мост только начали строить, а уже писали о нем во всех аргентинских, вообще, кажется, во всех латиноамериканских газетах; чем дольше строили (лет шесть в общей сложности), тем больше писали. Не берусь, конечно, сказать что-то внятное о технических проблемах, которые им пришлось решать, удалось решить; мост, во всяком случае, выглядит на фотографиях не вполне правдоподобным, если угодно – вполне фантастическим сооружением, куда-то в небо улетающим на пилонах, одновременно наклонным и вогнутым, так что не совсем понятно, почему машины не падают в море, и поезда, идущие по верхней эстакаде, не сходят с рельсов и не валятся туда же вместе с машинами. Машины, однако, не падают, поезда с рельсов не сходят, но чудесным образом все это держится, настолько, видно, чудесным, что А.Н.В. еще до окончания работ пришлось построить смотровую стеклянную вышку для осаждавших стройку туристов, – вышку, которая сама, в своей прозрачной простоте и какой-то иронической строгости, давным-давно попала в учебники, на необходимость построить которую он все-таки, если верить рассказам его сына, иногда жаловался, слишком-де решительно вторгается она в им продуманный, мостом, пилонами, вантами организованный и преображенный пейзаж.
Ничего этого, понятное дело, еще не было, когда Александр Воскобойников оказался в первый раз в Рио-Давиа. Он поехал туда один, без Владимира, на поезде, сразу же, как только он сел в него, напомнившем ему те поезда, на которых в детстве ездил он с отцом по России. Еще ходили тогда паровозы на юг. И паровоз этот был черный, пыхтевший, весь в масляных каплях, классический паровоз с тендером, каких он давненько уже не видал (так он пишет; по-русски). Конечно, с отцом, статским генералом, ездил он первым классом, в спальных вагонах, а бывало, что и в особенном инспекторском вагоне; здесь никаких классов вообще, мне почему-то кажется, не было; и был только общий, с удалением от Буэнос-Айреса, продвижением на юг все пустевший и пустевший вагон – до Рио-Давиа доехало человека четыре, – но все же это был такой же поезд, тот же поезд, перенесенный в Аргентину пятидесятого (или уже пятьдесят первого) года из России одиннадцатого, России двенадцатого, так же, совершенно по-русски, раскачивавшийся на рельсах, стучавший на стыках, пыхтевший, никуда не спешивший. Стоял затхлый запах табака, пота и пыли, въевшейся в когда-то бархатную, до дыр протертую обивку повернутых друг к другу сидений, как если бы этот вагон и не проветривали года с одиннадцатого, хотя окна были распахнуты, или так я это представляю себе, и паровозный грохот, и запах гари, угля и дыма врывались внутрь, смешиваясь с гортанными голосами и криками редевших попутчиков, запахом пыли, пота и табака. Чем дальше уезжал он от Буэнос-Айреса, тем пустыннее и шире становился ландшафт, впускавший его в себя, раскрывавшийся перед ним. Появились – в самом деле, появились – первые гаучо, в окне и в вагоне. В окне они были на лошадях, махали поезду, удалялись от него и приближались к нему. Гаучоподобные персонажи в вагоне (кинжал за поясом, шейный платок…) смотрели на А.Н.В. с недоверчивым любопытством, оборачивались к нему, прежде чем сойти на каком-нибудь пыльном полустанке, посреди ничего, посреди, вот уж поистине, пампы (mitten in der Pampa, пишет он, пользуясь расхожим немецким выраженьицем для всякой пустынной местности…), оборачивались так, как будто ожидали, не сойдет ли и он на этом полустанке, посреди этой пампы, чтобы потребовать у него ответа, кто он такой и какого черта здесь оказался. А он этого уже и сам не знал, может быть… Поезд вдруг остановился, тоже посреди ничего, и старенький, почтенно скромный, с седенькими бачками, тоже и в свою очередь каких-то персонажей детства напомнивший проводник принялся развозить обед на катящемся столике, застенчиво трясущеюся рукою накладывая в алюминиевые тарелки одно-единственное имевшееся у него острофасолевое блюдо, за пару песо выдаваемое пассажирам вместе с бутылкой пива или стаканом мате, той же и так же трясущеюся рукою наливаемого из чайника; когда процедура закончилась, поезд сразу же дернулся, тронулся. Опять пошла пампа, редкий кустарник, редкие группы деревьев, как будто случайно сюда забредших, облака и тени облаков, бегущие по холмам, покой большого (очень большого), пустого (почти пустого) пространства, столь памятный ему по тем русским поездкам с отцом, памятный и по курляндскому его детству; глядя на гаучо, иногда, по-прежнему и в самом деле, или так я это представляю себе, скакавших куда-то по косогору, отстававших от поезда, подумал он, думаю я, как давно он не думал о дедушке Фитингофе, учившем его когда-то ездить верхом, во дворе своего имения под Газенпотом, куда он приезжал в детстве, с матерью и без нее, с сестрой и один, и где тоже было, конечно, это плоское, пустое пространство, нет, не очень похожее на аргентинскую пампу, глядя в окно, думал он, думаю я, но все же плоское и пустое, с редкими одинокими хуторами, перелесками и небом над ними, и дедушка Фитингоф, считавший все это, все, что было видно вокруг, своей богоданною вотчиной (окончательно потерявший три четверти, пять шестых, кто теперь подсчитает, семь восьмых всего этого во время земельной реформы 1921 года, за два года до смерти), дедушка Фитингоф, в том, опять же, одиннадцатом или двенадцатом году, когда внук гостил у него в имении, семидесятилетний, еще очень стройный и бодрый старик, в свое, уже легендарное время воевавший в Туркестане и на Балканах, карьеры, впрочем, не сделавший, к ней даже и не стремившийся, скорее стремившийся никогда не выезжать из родного имения, как никогда не выезжала из этого курляндского имения его мать, тоже и уже окончательно легендарная прабабушка А.Н.В., знаменитая наездница и охотница, любительница шнапса и табака, этот семидесятилетний барон Фитингоф, сидевший в седле как юноша и до самой старости сохранявший что-то детски-капризное в складке губ, что-то мальчишески-бесшабашное во всем своем облике и повадке, в комическое, бывало, отчаяние впадал от неловкости внука, в те свои одиннадцать, скажем, лет еще худого и не широкого, просто длинного и нескладного, вытянувшегося вверх, как иногда вытягиваются подростки, вдруг, ненадолго, длинноногие, длиннорукие, не знающие, что делать с этими руками, ногами. Все-таки они выезжали со двора, выезжали из парка. Где-то далеко синел лес, земля летела из-под копыт, горели щеки, гудел ветер в ушах, и только проехав тот дальний лес, проехав еще один, проехав пасеку, проехав пасторский домик и церковь, и за церковью еще какие-то домики, проскакав полями, выехав, уже на полпути к Гольдингену, к большому, тихому, за ивняком и осинами черноводному озеру, с полусгнившими мостками и полузатопленной лодкой у этих мостков, смиряли бег, переходили на шаг, и обратно уже ехали медленно, каждый думая о чем-то своем, и когда подъезжали, уже вечером, к замку с его псевдоготическими зубцами и двумя башенками по краям, этот замок, за деревьями парка, под уже разрисованным, в закатных полосах, небом, светился таким мягким светом из окон, каким потом не светился уже ни один дом, никогда, и очень хотелось есть, но еще больше хотелось сидеть где-нибудь в уголку, в библиотеке или в гостиной, рисуя или срисовывая что-нибудь, как он это делал в свои одиннадцать и двенадцать лет постоянно, на всех клочках и бумажках, об архитектуре еще, пожалуй, не помышляя, одержимый графической страстью. А все же, глядя в окно на проплывавшую мимо пампу, думал он, думаю я, без этих гиппических упражнений не сдобровать бы ему в ландесвере, да и не убежал бы он из Берлина в Либаву, если бы дедушкина кровь не говорила в нем, не звала и не пела.
Не очень даже и удивительно, после всех этих отзвуков прошлого, что бургомистр (intendente) Рио-Давиа, с которым встретился он на другой день по приезде в насквозь пропахшем мате и сигарами кабинете последнего с неизбежными, или так я это представляю себе, портретами луноликого Перона и великолепной Эвиты, что этот сухой и очень немолодой intendente оказался похож – причем одновременно – на них обоих, на отца и на дедушку (притом что отец и дедушка друг на друга нисколько не походили; или он не видел при их жизни этого сходства?), то есть напомнил ему выправкой и складкой губ – дедушку, а всем остальным, всем обликом, выражением глаз, изгибом носа и разлетом бровей – отца; так сладко и больно напомнил ему, в самом деле, к тому времени уже лет пятнадцать покойного отца, Николая Тимофеевича Воскобойникова, и он так был занят и поражен этим сходством во все продолжение своей первой встречи с intendente (бургомистром), что почти не мог сосредоточиться на пресловутом мосте и потому почти был уверен, возвращаясь вечером в единственную тогда в Рио-Давиа, с гигиенической точки зрения весьма и весьма сомнительную гостиницу, что и этот заказ от него ускользнет, ему не достанется. Было так или не было, я, во всяком случае, когда смотрю теперь на фотографии этого бургомистра, которого А.Н.В. в своих записях, на каком бы языке ни писал он, всякий раз называет просто intendente, так что я лишь совсем недавно, связавшись по электронной почте с архивом городской рио-давской управы, сумел, наконец, узнать его имя – Dr. Alberto Belongo – и которому А.Н.В., как сам он пишет, обязан всей своей славой, поскольку, начиная с моста и продолжая музеем, в течение последующих семи лет, до самой своей смерти, этот, судя по фотографиям, задумчиво-решительный господин с седой эспаньолкой и меланхолически-отстраненными глазами, спрятанными под не без лихости заломленной линией густых, не седых бровей, принимал, ни с кем особенно не советуясь, и с непреклонной, мягкой, насмешливою настойчивостью проводил сквозь все, городские ли, государственные комиссии отчасти, с точки зрения этих комиссий, безумные предложения А.Н.В., так что тот мог строить, что ему вздумается, построить, в конце концов, город, о котором мечтал и который в современных историях архитектуры почти всегда рассматривается (не могу не упомянуть об этой, теперь уже, в общем, банальности…) как некая, в несопоставимо более скромных масштабах, конечно, но все же как некая альтернатива к возникавшей как раз в эти годы нимейеровской Бразилии, столице Бразилии…, когда я смотрю на эти фотографии, вернемся к началу, меня тоже поражает и восхищает – фраппирует, как выразился бы, надо полагать, Pierre Vosco – несомненное, и не только внешнее, наверное, сходство этого человека, столь поздно появившегося в жизни А.Н.В. и столь значительную роль сыгравшего в ней, с по видимости никакой особенной роли в жизни своего сына не сыгравшим Н.Т. Воскобойниковым, уроженцем города Нижний Ломов, до революции инспектором остзейских железных дорог, если так, в самом деле, называлась его должность, и фактическим начальником железнодорожного сообщения в Латвийской республике двадцатых, начала тридцатых. Есть замечательная фотография середины двадцатых, в свое время по электронной почте присланная мне Пьером Воско, на которой его дедушка, Н.Т. Воскобойников, запечатлен на замечательном тоже передвижном устройстве, которое я не знаю как называется – помесь дрезины с велосипедом, железнодорожный велосипед или, скажем, велодрезина, рассчитанная на четырех пассажиров и путешественников, двое из которых, сидящие по бокам, крутят педали, а сидящие друг за другом посередине ничего не крутят, просто сидят и едут, причем передний – Николай, в данном случае, Тимофеевич Воскобойников – тоже, как и по бокам сидящие, держится за некое подобие руля, хотя рулить, разумеется, нечем, фантастическое устройство катит и катит себе по рельсам. Н.Т. Воскобойников и держится за этот руль совсем не так, как держатся за руль его попутчики. Те как будто и вправду рулят, с сосредоточенными и серьезными лицами, один в городском костюме, в шляпе и галстуке, другой в плаще и рабочей фуражке. Н.Т. Воскобойников, начальник над ними всеми и над всей железной дорогой, тоже в шляпе, в тяжелом двубортном пальто, с отчетливо проступающим кашне, большой и широкий, как его сын и внук, едва ли не грузный, с большим, широким, отстраненным и веселым лицом, отрешенно-смеющимися глазами, так держится одной рукой за этот руль, почти не касаясь его, другой за еще какую-то вертикальную, с загогулиной наверху, на снимке не разберешь, железяку, как если бы эта железяка была вовсе не железякой и деталью велодрезины, а щегольской, легкой, львиноголовою тросточкой, и сам он не инспектировал состояние латвийских железных дорог, а прогуливался где-нибудь в Баден-Бадене по курпарку, поглядывая на дам и предвкушая вечернюю игру в казино. С таким же видом фланера, не имеющего и не желающего иметь никакого отношения к происходящему вокруг него, стоит intendente Belongo на разысканных или в Лангедоке переснятых мной фотографиях, перед только что построенным А.Н.В. стеклянным зданием риодавской университетской библиотеки, перед новой и тоже построенной А.Н.В. городскою управою в окружении таращащих глаза подчиненных, но стоит при этом так прямо, со столь очевидно военною выправкою, и ботинки его начищены до такого, даже старой фотографией сохраненного блеска, и штатский пиджак застегнут так высоко, как в наше время никакие пиджаки не застегиваются – едва виден галстук, – что пиджак этот кажется кителем, и весь облик говорит о полковых каких-то преданиях, семейных каких-то легендах, о тяжелорамных, где-то еще висящих, темных портретах темных, но славных предков, вместе с Сан-Мартином переходивших, наверное, через Анды и вместе с де Уркисой свергавших, может быть, тирана де Росаса… На другой фотографии, переснятой мною в Лангедоке и, хочется верить, сделанной уже (она скоро появится в его жизни) Марией, я вижу их обоих, А.Н.В. и intendente, верхами, в чем-то очень торжественном и черном, с галунами, чуть ли не газырями, в круглых, черных и торжественных шляпах, с серебряными блямбами на широких поясах, причем старик intendente явно прямей и увереннее держится в седле, чем его придворный архитектор (как в шутку и не совсем в шутку, по свидетельству самого А.Н.В, называл он своего спутника). Вряд ли, конечно, их первый совместный выезд (gemeinsamer Ritt, как, в свою очередь, в шутку и не совсем в шутку выражается А.Н.В.) состоялся уже на следующий день; я знаю, однако, что на этот следующий день, второй день по приезде, А.Н.В. именно верхом на лошади и, по-видимому, один, объехал окрестности, проехал вдоль всего залива по берегу, и долго-долго, прячась от ветра за дюнами, ехал по каменисто-песчаной косе с ее, на дальней оконечности, нефтяными вышками, горевшими факелами, бандитского вида охранниками, всякий раз спрашивавшими, потрагивая рукоятку кольта на поясе, зачем он сюда пожаловал, узнав же, что он архитектор, приехавший строить мост, тут же добревшими, предлагавшими ему стакан виски, чашку мате, кусок говядины, зажаренной только что. Он уже объяснялся в ту пору, или так я это представляю себе, на более или менее примитивном испанском; равнодушный и вечный ветер уносил слова его в сторону… Галька осыпалась под копытами; с гребня дюн открылся ему океан, в неистовых, в свою очередь, гребнях; вода в заливе бежала, наоборот, мелкими, бойкими волнами; казалась кремнистой; казалась порождением и продолжением лежавших вокруг камней. Он не садился в седло лет, наверное, тридцать, с Гражданской войны, с отступления от Петрограда; он уже не думал о том, как сам пишет, хорошо ли, не хорошо ли, правильно или неправильно прошли эти долгие годы; просто радовался, что еще не совсем разучился ездить верхом; радовался этой езде, даже этому ветру, со всех сторон его окружавшему (так остро и чудно напоминавшему вечный ветер в Либаве); возвратившись на твердую землю и несмотря на уже почти оглушительную усталость – как если бы верховая езда воскресила в нем того мальчишку, за свой смутный идеал и против очень понятной неправды сражавшегося в отряде князя Ливена, в армии генерала Юденича; мальчишку, который не мог себе позволить подумать о том, устал он, например, или нет, – поднялся на один из окружавших Рио-Давиа, каменистых, как и все здесь, холмов, с отдельными валунами и редкими, от ветра пригнувшимися соснами, один из этих невысоких холмов (отделенных друг от друга глубокими, иногда даже очень глубоких балками), откуда видна была целиком вся округа, и городок, и залив, и море, и откуда он и Мария не раз фотографировали потом этот залив, этот город, мост, уже построенный, стеклянный университет в лесах, музей, окруженный подъемными кранами, будущие пруды центрального парка, зияющие посреди пустырей. Ничего этого, повторяю, еще не было в тот осенний вечер, в апреле 1951 года. Он спрыгнул на землю и, привязав смирную лошадку, выданную ему в городской управе, к розовой, как будто обнаженной ветке согнутой ветром сосны, лег навзничь, на сухую траву. Громадные, густо-синие, бирюзовые, уже вечерним золотом облитые облака проносились над ним, как льдины несутся, бывает, к устью большой реки, налетая друг на друга, подгоняя друг друга. Ему казалось, он уже давным-давно – никогда – не видел такого неба, морского и сумасшедшего. Ему было пятьдесят лет, он чувствовал себя молодым, он не хотел умирать.
Глава 13
И больше я ничего не знаю об этом первом приезде А.Н.В. в Рио-Давиа; знаю только, что в мае пятьдесят первого, то есть уже через месяц, когда подряд был получен, он появляется там вместе с Владимиром Граве, вскоре, впрочем, уехавшим обратно в Буэнос-Айрес, иногда наезжавшим; что когда всерьез начались расчеты, работы, А.Н.В., то ли уставший от разъездов, то ли уже подружившийся с intendente, уже понявший, что его строительная деятельность мостом не закончится, что она только, может быть, начинается, поселился в одном из тех плоских, с беленными мелом стенами домиков, из которых, собственно, и состоял тогда городок, сняв в нем две, кажется, комнаты, с окнами, выходившими в тихое патио (фотографий не сохранилось). Что же до Марии, то она, как выясняется из ее писем чопорной и чадородной английской подруге, переснятых мной в Лангедоке, приехала в Рио-Давиа почти в одно время со своим будущим вторым мужем, то есть через целых пять лет после глупой гибели первого (на тихой улице, под случайной машиной), за эти пять лет так и не справившись со своим горем (или не справившись, может быть, с каким-то позднейшим большим разочарованием, big disappointment, намек на которое пару раз проскальзывает в ее переписке). Ей было все равно, куда ехать, так, во всяком случае, утверждает она в письмах к чадолюбивой подруге, звавшей ее в Европу, ей важно было уехать из Буэнос-Айреса, прочь от воспоминаний, от назойливых родственников, от братних друзей и четвероюродных кузенов, мечтающих утешить молодую вдову. В Европу все-таки она не поехала, предпочла край света, начало тьмы, запредельную глушь. Как именно попала она в Рио-Давиа? почему в Рио-Давиа? Существовала ли какая-то связь между ее семьей и, к примеру, семьей intendente Belongo? Ни из каких бумаг этого не видно; видно лишь некое сходство между этими семьями, те же имена в фамильных преданиях, Уркиса, Доминго Сармьенто. Ее дедушка по материнской линии, du coté maternel, в молодые годы успел еще поучаствовать в завоевании и освоении аргентинского юга, так называемом покорении пустыни (Conquista del Desierto), вполне гибельном, конечно, для каких-то последних несчастных индейских племен, так что сюда, от своей беды убегая, она шла в каком-то смысле по следам и стопам этого обожаемого ею когда-то, в самом начале жизни, давно уже покойного дедушки, и это одна из тех немногих вещей, которые я вообще знаю об ее детстве, ее предыстории, причем знаю не со слов Вивианы, никакого, мне кажется, интереса не питающей к своему мифическому аргентинскому пращуру, но со слов Пьера Воско, рассказавшего мне о нем еще в нашу мюнхенскую встречу, прибавив, я помню, что отец его, бывало, говаривал, что это их предки привели их обоих в Рио-Да-виа, и его, и Марию. Как бы то ни было, упоминаний об intendente в ее письмах я не нашел; возможно, они и знакомы не были, покуда Александр Воско их не познакомил друг с другом; intendente, покуда Александр Воско не познакомил их, лишь краем уха, может быть, слышал об этой загадочной преподавательнице английского и французского, вдруг и ни с того ни с сего появившейся в его городе, в незадолго до этого появления как раз основанном университете, еще ютившемся в каких-то случайных сельских домишках, в ожидании архитектурного шедевра, через два года созданного А.Н.В. Она тоже сняла, надо полагать, комнату или две в таком же плоском, бело– и мелостенном, с патио, доме, в каком снял свои комнаты Александр Воско, в получасе небыстрой ходьбы по каменистым и пыльным улицам от этого рио-давского университета, в ту начальную свою пору не слишком, похоже, отличавшегося от школы для переростков; отрабатывала свои часы; ни с кем не сближалась. Я вижу коллег и студентов, пишет она подруге в большом письме от десятого мая все того же 1951 года, это только коллеги, только студенты, я для них никто и они для меня никто. Я вряд ли долго смогу выдержать эту жизнь; а впрочем… неважно, it does not really matter. Если бы я могла спать… Жалобами на бессонницу полны ее письма; эта бессонница (моя знаменитая бессонница, my famous insomnia, как сама она выражается) будет преследовать ее еще долго. Моя знаменитая бессонница проявилась сегодня ночью во всей своей силе и красоте (in all its beauty and strength); я шучу с горя, а что мне еще остается… Я прихожу домой, пишет она все в том же письме, падаю на кровать и сразу же, на пятнадцать минут, засыпаю. А потом начинает темнеть, и выходить на улицу уже страшновато. У меня есть, конечно, револьвер, замечает она с той непосредственностью, с какой, наверное, только в Новом Свете говорят об оружии, но идти мне все равно некуда, да никуда и не хочется мне идти. Я перечитала всего Шатобриана, the whole of him, от Atala до La vie de Rancé, перечитала Стендаля, перечитала Томаса Гарди. Иногда я просто лежу и прислушиваюсь. Шумит ветер, здешний вечный ветер, лает собака. Голоса слышны с улицы, грубые голоса, пьяные голоса. Потом все смолкает, потом опять где-то лает собака. Время идет, было шесть часов вечера, вот, глядишь, уже девять. Мне тридцать лет; куда сгинула моя юность? Она исчезла, и я ни на что не надеюсь. Я, наверное, никогда уже не уеду отсюда, так и умру здесь. В следующем письме сообщается, что она начала ездить верхом, не сообщается, с кем, и что это подняло настроение. Как ты прекрасно помнишь, пишет она подруге, я больше всего люблю куда-нибудь, или не куда-нибудь, а вообще и просто так ехать, быстро ехать, на лошади ли, на машине (to ride a horse, to drive a car…). Машин здесь совсем мало; у моих соседей все-таки есть старый (чудесный, зеленый, с большой подножкой и шестью цилиндрами) пикап Dodge (образца, наверное, тридцать шестого года); я, кажется, совсем сбила их всех с панталыку (perplexed them all), когда почистила у него свечи (после чего он перестал чихать) и проехала по двору. Мне теперь позволяют на нем кататься. Когда я выезжаю на улицу, чумазые местные мальчишки прыгают прямо на подножку, и пытаются залезть в кузов, и чуть ли не на капот, так что всякий раз приходится мне останавливаться, сажать их в кабину. Только тени облаков бегут по траве вслед за нами, облако пыли, поднятое колесами, пытается за ними и за нами угнаться, людей уже нет, попадаются задумчивые коровы, одинокая хищная птица кружит над холмами, или просто висит в воздухе, с распростертыми крыльями, и вот так, думаешь, ехать бы и ехать куда-нибудь, с одного края света на другой его край, нигде не задерживаясь, обо всем забывая, без прошлого и без будущего, в непрерывном движении, в непреходящем покое. Потом думаешь, что все это вздор, начинаешь болтать с мальчишками, поворачиваешь обратно, возвращаешься в город.
Что же до обстоятельств ее знакомства с А.Н.В., то о них мне ничего не известно; Вивиана, в неохотный ответ на мои письма, сообщает, что, нет, ей никогда об этом не рассказывали, и она не спрашивала, или забыла, и вообще, какое это теперь имеет значение? Познакомились и познакомились, на краю света, тысячу лет назад… В письмах же самой Марии он появляется внезапно, в начале 1952 года, без всяких объяснений, под неожиданно испанизированным именем Алехандро (Alejandro), как если бы она не знала, что делать с его русско-балтийским происхождением. Возможно, важнейшее письмо с рассказом об их знакомстве утрачено, или не возвращено Марии вместе со всеми другими, или положено Марией где-то отдельно, так что я проглядел его… Я думаю теперь, что они просто не могли не познакомиться в том месте и в то время, в которое и в котором судьба свела их. Они были два экзотических существа в далеком, диком, глухом городке – загадочная молодая вдова из богатой и знатной креольской семьи, почему-то зарывшаяся в глуши, и знаменитый архитектор, прямо, черт возьми, из Парижа. Он знаменитым еще не был в ту пору, и приехал из Парижа не прямо, но местным жителям, от intendente до рабочих на стройке, очень хотелось, наверное, чтобы так это было, а значит, так оно и было для них. Местные сплетницы сразу, наверное, и свели их друг с другом, подражая судьбе; наша дружба (our friendship), пишет она чуть позже, – главная городская сплетня (the main gossip of the town); не разочаровывать же человечество. Я провела выходные с Алехандро, сообщается 20 марта 1952 года, без всяких, еще раз, объяснений и комментариев, как если бы для чадолюбивой английской подруги это уже само собой разумелось. I spent the week-end with Alejandro… Отныне – и наряду со знаменитой бессонницей – это лейтмотив ее писем. По-видимому, им все-таки трудно было встречаться в самом городишке, слишком католическом, слишком провинциальном. Они удирали оттуда, еще дальше и еще дальше на юг, прочь от чужих косых взглядов и мерзко сочувствующих усмешек, в окончательное никуда и безоглядное морское безлюдье. В письмах (поначалу, похоже, в шутку) появляется слово эстансия. Мы убежали на нашу эстансию… Каковая эстансия отлично видна на нескольких, в Лангедоке переснятых мной фотографиях. Это просто дом с террасой, с навесом на двух круглых столбиках, дом плоский и темный, совсем небольшой, укрытый от океанского ветра грядою все таких же, как, видимо, повсюду в той местности, темно-кремнистых холмов и низкими, как и повсюду там, пригнувшимися к земле соснами; до ближайшего жилья километров десять; до Рио-Давиа километров, наверное, пятьдесят. Им казалось, что южнее нету уже ничего, южнее уже Антарктида. Это было, конечно, не так, но почему-то их веселила, почему-то даже утешала их эта мысль. Вот и всё; дальше некуда уже ехать… А.Н.В., судя по всему, просто купил этот дом, тоже, как впоследствии в Лангедоке, за совершеннейшие, смехотворнейшие гроши; замечательно, однако, что, в отличие от лангедокского, ни перестраивать, ни даже, кажется, сколь бы то ни было основательно его обустраивать он не стал, глядя на него, следовательно, как на временное, хотя и пленительное, пристанище. Они здесь не жили, они здесь любили друг друга. Мария пишет об этой любви с откровенностью поразительной, как если бы она была не она, а восемнадцатилетняя девица, сгорающая в огне сексуальной революции, и на дворе был не пятьдесят второй год, а шестьдесят, к примеру, восьмой; неудивительно, что ее письма к ней возвратились. So we just did it in the car and then in the cabin, and I came three times consequently (twice with the clitoris and at the end with the uterus… it’s a sort of a poem, isn’t it?), screaming and biting him like a whore. Все же есть в этом некая институтская наивность, позволю себе заметить; никакая whore не кричит и не кусается в самом деле; разве что ей нужно сыграть бурную страсть, за дополнительную плату, понятное дело. Наивность не мешает иронии… Ее письма ироничны, часто печальны, даже после появления Alejandro. Все же видно, как она успокаивается; упоминаний о бессоннице становится все меньше; они сами все более ироничны (my famous, my beloved and cherished insomnia). Она была, похоже, от природы насмешница; смеялась, впрочем, скорее над самой собой, чем над другими людьми. И вот так твоя сумасшедшая однокашница (Your crazy school-mate) оказалась черт знает где, в обществе человека, которого она любит, которого совсем, по правде сказать, не знает. Его жизнь для меня как сказка, пишет она в другом месте, a sort of а fairy talе, я пытаюсь представить себе эту какую-то гражданскую войну в России, какой-то этот поход на Петроград с генералом, которого имени я не могу ни запомнить, ни выговорить, и, конечно, не в состоянии вообразить себе все это, эту страну, эту войну, хотя война-то, наверное, не так уж и сильно отличалась от наших здешних гражданских войн… Она все же явно старается вообразить себе его прошлое, расспросить и еще раз расспросить его об этих сказочных войнах, сказочных странах. А как, наверное, отступало… и как вдруг приближалось к нему это прошлое, когда он рассказывал ей о нем, под завывание вечного ветра и потрескиванье сучьев в той печке, которую, или в том камине, который он топил по вечерам на эстансии. Эта эстансия была, в сущности, как русская дача, просто Россия была уже где-то так далеко, как будто ее вообще не было, не было даже в том прошлом, о котором рассказывал он. В Буэнос-Айресе, с его православной церковью, монархическим клубом и газетой «Наша страна», Россия, по крайней мере – та погибшая, тоже была далеко, но все же она где-то была. Здесь ее не было, здесь она и вправду превращалась в fairy tale, здесь только ветер гудел вокруг дома. Что ж ты, ветер, стекла гнешь, ставни с петель дико рвешь, повторял он, может быть, любимые когда-то стихи. Как мне милую чужому, проклятому не отдать… Милая была рядом, она сидела и смотрела в огонь, ей можно было все рассказать – по-французски – рассказать и о генерале Юдениче, и о балтийском ландесвере, и о Париже, занятом немцами, или рассказать ей о своем бегстве с родителями в январе девятнадцатого года из захваченной большевиками Риги в Митаву, на санях, в страшный холод и в тягучей толпе других беженцев, других саней и повозок, наползавших и наезжавших друг на друга, и о бегстве через несколько дней от большевиков еще дальше, в Либаву, вместе с какими-то, ему не запомнившимися, сослуживцами отца, какими-то офицерами, в товарном вагоне бесконечного поезда, незабываемом товарном вагоне, куда вдруг втиснулась вся веселая труппа разбитного немецкого варьете, еще так недавно развлекавшего в Риге утомленных войною солдат, и чем дальше они ехали, тем темнее, и веселее, и таинственнее становилось в вагоне, манящими огоньками вспыхивали зажигаемые в трепетной темноте папиросы, появилось вино, появилось даже шампанское, офицеры басили, актрисы возбужденно шушукались, притворно отбивались от ухаживаний, вдруг взвизгивали, и воркующим шепотом говорили неразличимое что-то, от чего офицеры басили все гуще, и хохотали все громче, и даже сослуживцы отца удовлетворенно покрякивали, и мать, в конце концов, завесила простынею угол вагона, чтобы он и, главное, его девятилетняя в ту пору сестра не видели происходящего, но он все, разумеется, видел, он был уже взрослый, и когда сестра уснула, его с виду строгая мама, на самом деле, как он уже тогда догадался, готовая всех понять, всех простить, кроме себя самой, выйдя из-за своей занавески, тоже, к немалому их изумлению, вступила в разговор с юными дамами (junge Damen), после чего объявила, что они вообще-то хорошие, хотя, конечно, и непутевые девушки, и что надо бы попробовать их всех выдать замуж в Либаве. А на промежуточных станциях немецкие солдаты, соблазненные революцией, продавали оружие каким-то темным личностям, и в самой Либаве делали то же самое, и если темных личностей поблизости не было, просто ломали его и бросали, о фонарные столбы разбивали свои карабины, и остановить их было невозможно, было некому остановить их, и он уже тогда хотел записаться в формировавшийся ландесвер, но родители увезли его, почти насильно, на пароходе в Мемель и дальше в Берлин, откуда через месяц все-таки убежал он обратно в Либаву. Все это можно было рассказать ей, и она смеялась, конечно, когда он рассказывал ей об актрисах в вагоне, и вдруг заплакала, когда рассказывал он, как в марте все того же девятнадцатого года они отвоевали Митаву обратно, но заложников освободить не успели и на другой день на рижском шоссе обнаружили схваченные морозом, с раскинутыми руками, трупы женщин и стариков, и еще стариков, и снова женщин, угнанных и по дороге пристреленных отступавшими красными, такое множество трупов, с такими зияющими глазами, провалами ртов, что он даже не пытался сосчитать их, валявшихся по обочинам, и кто их убирал и хоронил потом, он не знает, потому что вместе со всем ливенским отрядом отправлен был держать линию фронта по реке Курляндской Аа, той самой Курляндской Аа, которую, ниже по течению, еще почти в детстве, на лодке переплывал он, бывало, что строго-настрого запрещали им делать родители, со своим вновь обретенным другом, теперь живущим в Буэнос-Айресе, обещавшим скоро приехать сюда в Рио-Давиа, и они стояли там еще целых два месяца, на этой реке, поначалу еще замерзшей, так что и красные переходили на их берег, и они переходили, конечно, на тот, под началом подпоручика Тимофеева, человека безоглядной отваги, у которого и он, Алехандро, чему-то самому важному, может быть, научился, незабвенного, всегда курившего короткую трубку подпоручика Тимофеева, в конце года, после крушенья всех армий и всех надежд умершего в Нарве от тифа и ран, и прекрасную панику наводили в большевицких тылах, и вообще жили весело, на большом и богатом хуторе, привечаемые толстой хозяйкой, немало натерпевшейся за последние месяцы, и он никогда, наверное, ни до того, ни после того не испытывал такой братской и беззаветной близости сведенных судьбою в один отряд очень разных, но тогда и там, в том месте, в то время, и в самом деле, он полагает, готовых пожертвовать собой друг для друга людей. Можно было, еще раз, и даже нужно было, конечно, то есть ему нужно было рассказать ей все это, но можно было и ничего не рассказывать, можно было просто смотреть на нее, понимая, что ближе и дороже у тебя никого теперь нет и не будет, и что все же это другой, уже не чужой, или только вдруг чужой, ненадолго и вдруг отчужденный, но в конечном счете, как и все люди, все же навсегда загадочный для тебя человек. Ее надо было еще отвоевать у чужого, не у кого-то чужого и третьего, и даже не у воспоминаний об этом третьем, вернее – первом, об ее погибшей первой любви, но у чужого как такового, у злосчастной, извечной, проклятой чуждости мира. Она замыкалась в себе, леденела, словно схваченная своим собственным морозом, внутренним холодом, затем снова оттаивала. Что-то становилось вдруг между ними. Ему это было почти все равно, он знал, что это пройдет. Он вспоминал, наверное (с горькой нежностью, теперь, когда сам был счастлив…), бедную свою Нину, Нину, которая так хотела казаться еще более загадочной, чем была, а была, по сути, проста и понятна ему, c ее изломанными стихами и жаждой всесветного подвига… Еще и потому была, впрочем, понятна (так думал он, может быть, глядя, как горят, ломаются ветки в огне), что была все-таки русская, читала те же книги и росла на тех же преданьях. Нине не нужно было ничего рассказывать, она и так все знала о ливенцах. Здесь общих преданий не было, и отсчет времени приходилось начинать сначала, с вот сейчас, с вот этого вечера.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































