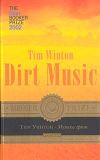Текст книги "Пароход в Аргентину"
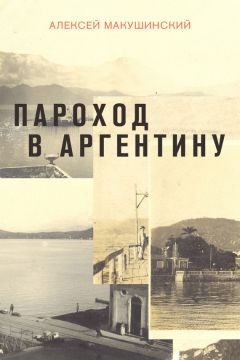
Автор книги: Алексей Макушинский
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 15 страниц)
Я написал о своих библиографических разысканиях Пьеру Воско, попутно, не удержавшись, сообщив ему и свои смутные мысли – скорее даже ощущения, чем мысли – о связи строительства с поисками многозначных случайностей… его ответ был кратким, вежливым, равнодушным; переписка вскоре заглохла; все-таки он сдержал свое обещание, прислав мне отсканированные (смешное слово, но пускай остается…) фотографии, о которых говорил в Нимфенбурге, в парке Английском и Олимпийском, прислал и другие, о которых не говорил, целую папку фотографий, запакованную в формате, кажется, ZIP, с которым мой компьютер не сразу сумел совладать, в конце концов все-таки справился. Из этих фотографий некоторые были, конечно, и в книгах, которые читал я теперь. Ни в одной книге не было и не могло быть карточки, запечатлевшей самого Пьера Воско с дочкой убитого его матерью офицера вермахта, за типично парижским, с чугунной ногою, столиком уличного кафе, в 1967 веселом году. Пьер Воско всю жизнь, наверное, выглядел старше своего возраста. Все-таки он здесь еще молодой, еще не усатый, какой-то светски-спортивный, даже на черно-белой фотографии видно, что должным образом загорелый, как будто недавно ходивший в горы или три раза в неделю играющий в теннис, как оно, конечно, и было, с еще не совсем замкнувшимся, но все же строгим и напряженным лицом, костистым носом и костистой, сильной рукою, лежащей на столике рядом с чашкой и черными, в ту пору очень, наверное, модными, прямоугольными, сверху и только сверху схваченными увесистою оправой очками. На нем все вообще модное, костюм сидит, как на Джеймсе Бонде в исполнении Шона Коннери, рубашка и галстук такие, как будто он в них родился. Беттина Шликевиц в джинсовой курточке, темно– или рыжеволосая, с перекинутым через плечо и спускающимся на грудь толстым конским хвостом; на столике рядом с ней видна пачка табака Drum и маленькая пачечка с бумажками для изготовления самокруток, видна книга, вынутая, похоже, из висящей на спинке стула холщовой сумки (Маркузе? Вальтер Беньямин? план Парижа по округам?..). Смотрит она растерянно. Смешно все же, как буржуазно выглядит сын анархистки и какой анархисткой смотрится дочь национально мыслящего арийца с пристрастием к прусской дисциплине и классической древности. Она, конечно, сочувствует его матери и мечтала бы избавиться от отцовского мучительного наследия, а все-таки это ее отец, и о том, как рыдала ее собственная мама, со свадебной фотографией в дрожащих руках, после краткого визита полкового командира, принесшего роковое известие, щелкнувшего каблуками, ушедшего навсегда, в сверкающий страшный день, обо всем об этом она тоже не может не думать. У нее молодое, наивное и в веснушках лицо; ей правда не нравится война во Вьетнаме. Александру Воско она тоже не нравилась. Бывший солдат Юденича и доброволец в балтийском ландесвере, он сам, рядом со своим консервативным сыном, выглядит так, словно только что пришел с демонстрации за мир, на той единственной фотографии – тоже шестидесятых годов, – которую можно при желании назвать семейной, где все они запечатлены на какой-то большой, солнечной, явно южной террасе – Пьер Воско в другом, светлом, но таком же строгом костюме, при галстуке, строго сидящий в плетеном кресле; его маленькая и уже тогда совершенно невыразительная жена, m-me Chantal Vosco, с поджатыми губками и скошенными набок ногами – костлявые коленки глядят в объектив – сидящая в кресле, таком же плетеном; семи– или сколько-то-летняя Вивиана, втиснувшаяся между ними и вся перекрутившаяся, явно паясничая; прекрасная, внимательно глядящая в объектив Мария за спинкой того кресла, в котором сидит ее пасынок; и рядом с Марией, положив на плечо ей руку, но все же сам по себе и отдельно от всех стоящий Александр Воско, большой и широкий, расставивший ноги в холщовых белых мятых штанах и отчетливо различимых, на босу ногу, холщовых же тапочках (эспадрильях), в майке поло с распахнутым воротом и в темном пиджаке как будто от другого костюма; тени на полыхающем полу готовы раскрыть все их тайны; тень А.Н.В. – большая, длинная, летящая к балюстраде, тень Вивианы – изломанная, тень Марии теряется в тени ее мужа, тени Chantal и Пьера – круглые, глыбистые, густые. Этот распахнутый ворот рубашки виден на многих снимках, и ранних, и поздних; пятнадцати– или, скорее, уже шестнадцатилетний, еще не знавший войны и крови (хотя война, разумеется, рядом, кровь льется неподалеку) Александр (для русских родственников, конечно же, Саша) Воскобойников стоит на одном из них на фоне каменной, серой, зримо-шершавой стены, где-то в Риге или где-то у моря, уже никто никогда не узнает, уже очень широкоплечий, темноволосый, в двубортном, в полоску, пиджаке с продетой в петлицу тонкой ленточкой, спускающейся и падающей в нагрудный карман, в котором скрывается, значит, что-то, и уже никогда никто не узнает, что именно, и с раскрытым, действительно, остроконечным воротом белой рубашки, двумя небрежными крыльями падающим на лацканы пиджака. Для 1916 или 1917 года, в котором мы, очевидно, находимся, это смело и странно. Что-то словно переполняет его, какое-то очень сильное, счастливое чувство, какое-то внутреннее веселье, не без вызова – миру, людям, фотографу, мне, через почти сто лет разглядывающему фото в компьютере. Он как будто не в силах сдержать этот вызов, это веселье. Они прорываются, сдерживает он их или нет, – в улыбке, тенями и складочками дрожащей в уголках рта и на щеках возле них, в смеющихся и сощуренных, у висков чуть-чуть книзу загибающихся глазах… Глаза и губы образуют как бы две иронические линии в этом лице, повторенные ровной, по краям тоже чуть-чуть загибающейся книзу линией бровей, легкой линией теней под глазами, легчайшей тенью под нижней губой. Он выглядит здесь как мальчик, накануне вечером потерявший невинность, отсидевший в гимназии, вот только что, скучнейший латинский урок, Gallia est omnis divisa, и думающий, понятное дело, – ни о чем, ни о ком другом думать не в состоянии, – о той замужней даме в шелках и кольцах, случайной знакомой родителей, которая соблазнила его накануне и к которой он непременно опять поедет сейчас, вот сейчас, на дачу в Майоренгоф, где она уже ждет его, может быть, напевая и про себя усмехаясь, к удивленью строгой служанки. Эта веселая сила всегда была в нем, конечно; я почувствовал ее даже в нашу единственную встречу, в его старости, в моей еще-почти-юности. Как-то даже не предполагается в этом шестнадцатилетнем, обращенном в будущее лице, что оно может когда-нибудь погаснуть, а сила в нем – затаиться. Все же на фотографиях тридцатых годов он выглядит каким-то потерянным, задумчивым, едва ли не мрачным, даже на том смутном, смытом и блеклом снимке, являющем его и беспощадно перекошенную, потому что с краю сидящую, Нину в обществе монпарнасских ли, не монпарнасских ли собутыльников, в каком-то как будто подвале, в табачном, даже на черно-белом снимке осязаемо-сизом дыму. Они сидят не рядом друг с другом, но голорукая большеглазая Нина рядом с каким-то набриолиненным, едва ли и не напудренным, молодчиком с отвислой нижней губой, а строгий, в галстуке, с плывущими пьяными глазами А.Н.В. – прямо в центре, в обществе вполоборота к нему повернутой полноликой и полноплечей дамы, что-то, похоже, воркующе-веселое ему говорящей. Куда как невесело смотрятся они оба, Нина и А.Н.В., на том неожиданно туристическом снимке, с видом на Эйфелеву башню и далекие серые крыши, который сделан, мне кажется, году в тридцать третьем или тридцать четвертом на балюстраде снесенного в тридцать пятом старого дворца Трокадеро, замененного нынешним (дворцом Шайо) ко всемирной выставке 1937 года, той самой знаменитой выставке, на которой советский павильон с пресловутым рабочим и не менее пресловутой колхозницей, как в зеркало, гляделся в нацистский с имперским орлом на крыше, уже готовым схватить Лютецию стальными своими когтями. Этих павильонов на снимке еще нет, их вообще еще нет, не видно и самого (чудовищного) дворца, оставшегося за спиной у (наверное, уличного, за плату предлагавшего свои услуги) фотографа. Они только что вышли, может быть, из тогдашнего музея архитектуры, располагавшегося в старом дворце, как теперешний располагается в новом; понятно, что это А.Н.В. затащил туда свою не вдохновленную визитом жену; а вот идея сняться у фотографа в роли счастливой пары была, наверно, ее. Счастливой пары не получается. Они держатся за руки, а стоят все же порознь, каждый сам по себе и в обществе своих собственных мыслей. Он в шляпе, как ни смешно, с перекинутым через руку плащом. Она, наоборот, в плаще, слегка тронутом весенним, или осенним, теперь мы не узнаем уже, ветерком, просто-, гладко– и русоволосая, с большим пучком на затылке, отчего голова кажется маленькой, а глаза такими огромными, как если бы они могли сами по себе существовать где-то в другом, лучшем месте, в Стране Загадочных Взглядов, или, наоборот, Отчаянных Взоров, и вот только случайно, ненадолго оказались здесь, на этом лице, в этом Париже, на этом ветру. Ей здесь плохо, ей, наверное, везде было плохо. Она высокая, стройная, легкая; ей двадцать два, двадцать три, может быть, года. Еще есть что-то не определившееся, совсем юное, не детское, но девическое в этом лице. Он и полюбил в ней, наверное, это девическое, это хрупкое, трепетно-ломкое, столь иногда привлекательное для уже не совсем молодых мужчин… Их общих снимков мне больше видеть не довелось, а вот упомянутые ее сыном стихи Нины Саламовой разыскать оказалось несложно; два или три ее стихотворения, нельзя сказать, что лучшие, лучших у нее, увы, нет, но все-таки два или три, всегда те же стихотворения и в наше время, случается, попадают в антологии «парижской ноты» и «первой волны». Они выглядят непроизвольной пародией на эту «парижскую ноту»; всякое литературное направление (или «течение», или «группа») с помощью своих экзальтированных эпигонов пародирует себя самое. «Мы проходим легко и бесслезно в этом сумраке улиц и лиц, умираем светло и беззвездно в суете нам ненужных столиц». В каком – «этом» сумраке? и как можно проходить – «бесслезно»? «беззвездно» умирать? почему не наоборот? и что вообще это значит? Такие мелочи вряд ли ее волновали… «Стихи молодой поэтессы, не согретые, но скорее отягощенные столь модной на русском Монпарнасе «телогрейкой новейшего уныния», все порываются куда-то, все пробуют если не полететь, то хоть побежать, но, увы, всякий раз спотыкаются об одни и те же обессмысленные словосочетания, аляповатые аллитерации, испробованные еще сорок лет тому назад в московских «декадентских» салонах, беспомощные или банальные рифмы, в конце концов, просто о нежелание или неумение всерьез задуматься о своем ремесле, овладеть простейшей поэтической грамотой. На красных лапках далеко не уплывешь, и на бесслезной беззвездности в поэзии тоже не выплывешь». Все-таки Ходасевич удостоил ее этим ядовитым отзывом («Возрождение», 5 апреля 1937 г.), так что свое скромнейшее место в примечаниях к истории русской литературы у нее, как ни странно, есть.
В отдельной папке (то есть папке, конечно, компьютерной; почти уверен, впрочем, что и настоящие карточки, негнущиеся и блеклые, лежали, и до сих пор лежат, у Пьера Воско в какой-то отдельной папке, с тесемками или без) были собраны фотографии поколения предшествующего, фотографии его бабушек, и дедушек, и даже, похоже, прабабушек, исчезающих в серой стихии времени, заметаемых растущей пустыней… тут ждали меня неожиданности. Полковник Саламов, отец Нины, первый тесть А.Н.В., оказался, впрочем, на той единственной фотографии, которую прислал мне его внук (в его честь, конечно, и названный) более или менее таким, каким я и представлял его себе по рассказам; явлен был на этой фотографии не с кем-нибудь, но с самим генералом Юденичем и еще одним, безымянным для меня, офицером в смутносводчатом помещении, перед огромной картой, разложенной на столе; пятидесятисемилетний в девятнадцатом году Юденич, тяжелый, плотный, почти какой-то обрюзгший, с круглой лысой тугой головою, совсем маленьким кажется – еще и потому, впрочем, что склонился над картой – рядом с высоким стройным сорокалетним Саламовым во френче с отчетливыми нагрудными карманами, смотрящим серо и хмуро, словно сомневаясь, что по этой карте выйдут они куда-нибудь, например – к Петрограду, не забредут в болото, в гибель и топь, на красные пулеметы. У него широкие татарские скулы и, конечно же, как почти у всех тогдашних офицеров, усы, причем усы, как-то трогательно повторяющие, все-таки не решаясь вполне и вправду повторить их, начальственные усы самого Юденича, то есть не улетающие, как у Юденича, за овал лица, к плечам и погонам, но замирающие на полпути, не посягая на генеральство… Совсем нетрудно представить себе этого человека постаревшим, таким же стройным, с той же военной выправкой, в двубортном штатском костюме, его единственном, с поседевшими усами, висками, по очень пыльной, очень печальной, почти русской, с дешевыми русскими трактирами, русскими лавочками и русскими тополями, биянкурской горбатой улице возвращающимся с работы – все-таки, слава Богу, не таксистом и не на заводах «Рено», тут же рядом и расположенных, каждый вечер выпускающих из ворот черные толпы бывших борцов за честь и свободу отечества, но, как рассказал мне его внук при нашей позднейшей с ним встрече, с относительно приличной, чистой, хотя и бесконечно скучной ему работы в агентстве недвижимости, agence immobilière, куда помог ему устроиться его зять, благодаря своим архитектурным связям, когда сам перебрался в Париж. До этого он и в самом деле работал, кажется, у «Рено»… По грязной и гнутой, с чугунными перилами, лестнице поднимается он на пятый этаж, в ту квартиру, от которой выросший и молодой П.А.В. отказался в начале шестидесятых, женившись на своей буржуазной богачке и уехав в Америку, квартиру, думаю я теперь, где в шкафу, все эти годы, и двадцатые, и тридцатые, и так далее, висела, сберегаемая нафталином, парадная форма полковника, и в сундуке, по которому маленький Петя дубасил толстыми ножками, среди других каких-нибудь, случайно спасенных вещей и воспоминаний, хранились, с тех пор, наверно, пропали, его погоны, его Георгиевский крест. Пропало все, пропадут и наши надежды. На фотографии Елены Васильевны Саламовой виден тот круглый стол, за которым она шила гладью, одна или с дочерью, виден, на заднем плане, комод или секретер, разглядеть все же трудно, и что-то белесое в рамочках, как хочется верить, что тоже фотографии, те же фотографии, вот эта с Юденичем, только что мною описанная, вот эта, в Интернете найденная мною, фотография светлейшего князя Ливена с глубокими голубыми глазами, двумя пулями после меткого выстрела… сама же Елена Васильевна на карточке, присланной мне ее внуком, запечатлена уже в старости, после войны и, значит, после Нининой гибели, высокая, тоже и по-прежнему стройная пожилая женщина с пучком полуседых волос на затылке, горькой, нежной складкой у широкого рта и большой, сухой, очень красивой рукою в серебряных кольцах, не опирающейся на стол, но как-то почти застенчиво, кончиками пальцев, касающейся белой, на этот раз безромбовой, скатерти.
Поразили меня фотографии другой бабушки Пьера Воско – Эльзы (если по-русски, то – Генриховны) Воскобойниковой, урожденной баронессы Фитингоф, поразили меня так сильно, что, помнится, я даже написал П.А.В., не перепутал ли он подписи к отсканированным снимкам, названия файлов и неужели правда вот эта прелестная молодая женщина, или девушка, быть может – еще до замужества и, значит, в девяностые какие-нибудь годы снятая либавским фотографом (дата отсутствует, но слова Photographie A. Küssner, Libau читаются легко), со сложной старинной прической, незримыми миру шпильками удержанной на затылке, горделивыми буклями, набегающими на высокий выпуклый лоб, – эта девушка из девятнадцатого века, еще не знающая, какой двадцатый стоит на пороге, в свободном летнем платье с рюшами, как белые гребешки волн окружающими неглубокое декольте, – неужели эта девушка, глядящая так внимательно, такими огромными, в таких горестных тенях, если к кому-нибудь, то лишь к ней самой, к ней одной строгими, ее одну, ее саму испытующими глазами, с такой еще почти детской припухлостью возле рта, вокруг полных, чуть вывернутых наружу губ, – неужели это правда та суровая немка, о которой мне рассказывал ее внук, которой он боялся, как, якобы, все боялись ее, которая французские булки обжаривала на огне, не снисходила до круассанов, презирала демократию, отвергала рокфор? Она же в зрелые годы, в двадцатые, наверное, годы наступившего двадцатого века и уже с лицом, на которое не просто время, прошедшее после первого снимка, но именно новый век, новое время наложили свой отпечаток, рижская дама с короткой, или так кажется, стрижкой, без всяких, разумеется, буклей, в лихо, наискось, надетой шелковой шляпке, такой же, видимо, черной, как пальто и платье с камеей, и с той, ее сыном унаследованной, я думал, что от отца, но получается, что унаследованной и от матери, шальной искринкой в глубоких глазах, как бы медлящих на едва уловимой грани между грустью и смехом, готовых то ли сообщить миру, что им все нипочем, все пройдет, все пустяки, то ли взять, вобрать, впустить в свою глубь все горе этого мира, все стенание всей твари, всех пожалеть, разрыдаться над всеми. И вот эта читательница Шиллера – и не только же Шиллера, эта женщина, напоминающая, скорее, гетевскую «прекрасную душу» из когда-то столь любимого мною романа, искательницу внутреннего пиетистского совершенства и потаенной душевной гармонии, эта женщина с такими ясными глазами, с таким тихим лицом превратилась под конец во вздорную старуху, нарочно громко кричащую по-немецки на французской улице, чтобы позлить лавочников и прохожих? Ее вообще невозможно представить себе кричащей, вы что-то путаете, Петр Александрович, вы перепутали файлы и папки. Петр Александрович ответил мне очень кратко – последний всплеск затихающей переписки, – что никакие файлы он не перепутал, это точно она, фрау Эльза, что же до внешнего сходства его бабушки с его мамой, о котором я тоже спросил его, то он этого сходства не видит, ни на фотографиях, ни… вообще. Если сходство было, то только внешнее, большие глаза. А я и не думал о внутреннем. Скорее уж было какое-то, написал мне Пьер Воско, но именно внутреннее, нисколько не внешнее сходство между его бабушкой и второй женой А.Н.В., хотя он даже и представить себе не пытается, как отнеслась бы фрау Эльза к этой экзотической женщине, привезенной из Аргентины.
Аргентинские фотографии были тоже. Среди этих аргентинских фотографий А.Н.В., в отдельной, опять-таки, электронной папке присланных мне его сыном, было две замечательных; на одной, сделанной, похоже, вскорости после его – и Владимира Граве – прибытия в эту – для меня – мифологическую страну, видны они оба, друзья детства, так чудесно встретившиеся на пароходе, за год или за полгода до снимка, сидящие, разделенные квадратным крошечным столиком, в уютнейшем, или таким оно кажется, буэнос-айресском кафе, с темно-деревянной стойкою бара, разноростными и многообразноэтикеточными бутылками, фотографиями Хэмфри, кажется, Богарта или Гарри, может быть, Купера и афишею какого-то Cabaret Folie на стенке за стойкой, с шахматными квадратами пола. Такое ощущение, что они и сами играют в шахматы – хотя никаких шахмат нет между ними, есть только кофейная чашечка перед Александром Воско и тонкий стакан с чем-то прозрачным перед Владимиром Граве – по крайней мере, играли в них, покуда не подошел к ним усатый бармен в белой курточке, чтобы подлить прозрачное это что-то в рюмку В.Г., сидящего вполоборота к неведомому фотографу, в объектив не глядя, но глядя на А.Н.В., сквозь свои неизменные круглые металлические очки. Он здесь не кажется ни болезненным, ни одутловатым, просто чуть-чуть, но совсем чуть-чуть, полно– и круглолицым, а значит, и совсем, но совсем чуть-чуть беззащитным, со своим высоким лбом, далеко убегающими залысинами, чудесными, ироническими, совершенно петербургскими тенями в уголках губ, уверенным размахом вылетающих из-под очков пушистых бровей. Александр Воско, в этом редком ракурсе, сбоку и сзади, являет зрителю неожиданно, тоже, полную щеку, буйную, на затылке особенно буйную шевелюру, еще не тронутую, по крайней мере не видно ее, сединою, уже отчетливые, благородно-простецкие, какие-то, в самом деле, собачьи складки вокруг рта, вблизи подбородка, широкую руку рядом с чашечкой на обшарпанной деревянной столешнице. Все же кажется, что они играют во что-то, в какую-то свою собственную, совсем особенную, без ферзей и пешек, игру; сидят прямо, молча, в ожидании следующего хода, новой комбинации, рокировки или гамбита. Еще кажется, что никого в кафе нет, кроме них, хотя не так уж и трудно вообразить себе другие столики вокруг них, и других посетителей. Все-таки кажется, что никого больше нет, что они здесь вдвоем, втроем – с барменом, погруженные в эту свою безмолвную, нескончаемую игру (друг с другом, с собою, с судьбою…). Второе, не менее, по-моему, замечательное, аргентинское фото сделано, как я впоследствии понял и узнал, в Рио-Давиа, впрочем, сведенном на снимке к смутному абрису каких-то темных кремнистых холмов; все интересное происходит (создается и строится) за спиной у фотографа, незримое нам; на него-то и указывает, неожиданным, опять-таки, жестом, горстью вытянутой широкой руки – как если бы он что-то драгоценное держал в пальцах, боялся сломать, предлагал оценить – А.Н.В. в строительной каске и явно знакомом с известкой и щебнем костюме – стоящему рядом с ним, в почтительном окружении – позади на полшага – каких-то второстепенных персонажей, высокому, едва ли не выше, чем он сам, старому, с седой бородкой и совсем не седыми бровями, во что-то довольно экзотическое, черное с золотой тесьмой одетому господину. Тот смотрит, сказал бы я, как человек, которого удивить вообще-то нельзя – видал виды! – которого вот, наконец, на старости лет, удивили, и это, может быть, самое для него главное, самое радостное. Это бургомистр (intendente) Рио-Давиа, как я впоследствии выяснил, в жизни А.Н.В. сыгравший одну из главных ролей, обеспечивший его теми заказами, без которых ни один архитектор не может состояться, тем менее может прославиться… Затем идут снимки времен этой славы, поздние и очень поздние снимки, шестидесятых и семидесятых годов, снимки, сами по себе знаменитые, воспроизведенные во всех альбомах, в книгах, теперь в Интернете. А.Н.В. и Пьер-Луиджи Нерви, «гений бетона», под сенью автострадной эстакады, поделенной надвое, с полосою южного неба между уходящими вдаль, нам зримыми с ребристой изнанки, прямыми бетонными лентами на остротреугольных, атлетически-легких ногах. Нерви элегантен и строг, в итальянском старинном стиле, в черной шляпе, черном костюме; А.Н.В., в костюме тоже, смотрит на него с восхищением. Они же под тревожно-таинственными, в знаменитых нервиевских ромбах, бетонными сводами непонятно чего (стадиона в Риме?), стоящие точно так же, в тех же костюмах и позах, с двумя, на заднем плане, одинокими фигурами у белоснежных, или так кажется на снимке, колонн, фигурами – их лиц не видно, только черные костюмы, черные шляпы, – как будто поставленными там, в глубине картины, в синеватом сумраке, остроумным художником, де Кирико или, скорее, Магриттом; фотография, которую впоследствии обнаружил я на стене лангедокского дома А.Н.В., вовсе, конечно, не стремившегося демонстрировать себя случайным посетителям в обществе других знаменитостей, но, очевидно, оценившего сюрреалистическую красоту композиции. Александр Воско и Ле Корбюзье на пляже в, надо полагать, Roquebrune Cap-Martin, пресловутом прибежище так, по счастью, и не сумевшего перестроить весь мир швейцарца. Ле Корбюзье, конечно, голый, в очках и трусиках, как и на всех своих морских фотографиях; Воско в своих тоже уже классических закатанных холщовых штанах и выпущенной наружу, все же не до конца расстегнутой длинной белой рубахе, глядящий на песок под ногами (наклонив голову, собрав собачьи складки у подбородка); видно, в общем, что они друг другу не нравятся. Снова они же, у не менее пресловутой хижины (le cabanon), роковым образом напоминающей обыкновенный русский сарай, элементарной, по замыслу, ячейке земного существования, построенной Ле Корбюзье для собственного уединения и удовольствия, в соответствии с принципами функциональной архитектуры и с видом на море из крошечного окошка – не просто на море, но прямо на то место, где через пару лет после фотосессии утонул он; из этого окошка он и выглядывает, по-прежнему в очках и по-прежнему голый, с чем-то белым на голове, похожем на платок с завязанными по углам узелками, как это делают в жару дорожные рабочие, где-нибудь опять же в России; А.Н.В., стоящий снаружи, весьма и весьма скептически смотрит на этот прообраз по законам золотого сечения рассчитанных клеток, в которые отважный швейцарец собирался запереть человечество. Эти снимки сделаны Люсьеном Эрве (Lucien Hervé), замечательным, в самом деле, фотографом, прославившимся своими архитектурными фотографиями, оставившим и несколько портретов А.Н.В., слишком, пожалуй, известных, чтобы долго говорить о них здесь. Александр Воско и сам был ведь страстный, хотя и не вполне профессиональный фотограф; техническая сторона этого дела мне, скорее, скучна, говорит он в одном из своих интервью, собранных его сыном в сотрудничестве с таинственным Мишелем де Боттисом, лучше сказать, у меня не хватает терпения, чтобы по-настоящему разобраться во всем этом; фотография для меня что-то другое; подспорье для памяти и помощь в работе; попытка удержать вечно текущую субстанцию жизни; форма созерцания мира. В том же, в Женеве изданном сборнике статьей, интервью и воспоминаний о нем есть любопытный фрагмент, всего две странички, по просьбе составителей написанные Жаном Лавалем, сыном и наследником Фредерика Лаваля, того самого Фредерика Лаваля, в бюро у которого А.Н.В. работал в тридцатые годы. После войны этот Жан Лаваль, скорее, работал у Александра Воско, то есть проекты считались совместными, но А.Н.В. был звездой и на первых, а сын его бывшего патрона на скромных вторых ролях, что, впрочем и судя по всему, не мешало их отношениям; в тоне воспоминаний чувствуется симпатия не наигранная. Я иногда встречал его в Париже в самых неожиданных местах, пишет Лаваль, в рабочих пригородах возле Bassin de la Villette, или где-нибудь за Аустерлицким вокзалом, с фотоаппаратом в руках. Он однажды признался мне, что так отдыхает, так думает. Ходит по городу с фотоаппаратом, снимает старые мосты, шлюзы, лодки, просто камушки под ногами. Мне кажется, он мог часами ходить так. Было видно, что он счастлив, что ему хорошо с самим собой, хорошо в одиночестве. Он был вообще человек очень созерцательный (très contemplatif), очень погруженный в себя. Хотя он мог, конечно, быть и общительным, и веселым. Мы допоздна засиживались, бывало, в бюро – его бюро было в чудном месте, в пятнадцатом округе, недалеко от бульвара Гренель; он ходил туда из дому и оттуда домой, в Пасси, почти всегда пешком, через реку, по мосту Bir-Hakeim, с его эстакадой и проносящимися над головой поездами метро; однажды признался мне, что любит этот двухъярусный, индустриальный, такой, скорее, нью-йоркский мост едва ли не больше всех других мостов через Сену, – и когда совсем уж допоздна засиживались, и работы было много, и расходиться вообще не хотелось – даже в ближайшее бистро на бульваре пойти было как-то лень – Мария привозила, помнится, из дому сыр, вино и багеты, и мы просто сидели все вместе, впятером, вшестером – сотрудников у него никогда много не было – вокруг огромного, во всю длину главного ателье вытянутого стола, и бывало очень весело, в самом деле, еще и потому, мне кажется, что в Марию все были втайне чуть-чуть влюблены, называли ее за глаза la señora, и Alexandre, за глаза и для полноты картины прозванный в бюро il señor, рассказывал что-нибудь, всегда неожиданное, об их жизни в Аргентине, в глухих и диких местах, о своей балтийской юности, о первых, к тому времени уже легендарных, съездах CIAM, о не менее легендарной штутгартской выставке 1927 года, на которую он приезжал из Риги, о других подобных вещах, заставляющих сильнее, скорее биться сердце строителя. Рассказчик он был превосходный, с чудесным чувством юмора, с вниманием к деталям, к внезапным поворотам сюжета; бесконечно жаль, что он так и не написал своих воспоминаний, для которых, я знаю, в разные годы делал подготовительные заметки… В тридцатые годы я его не помню таким, пишет дальше Лаваль, помню, скорее, нервным и несчастливым. Конечно, я сам тогда еще был молод и невнимателен, да и Alexandre, в конце концов, считался просто одним из сотрудников моего батюшки, так что я не очень полагаюсь теперь на мою память. Помню все же, как в бюро все звонил ему кто-то и как он, препираясь по-русски с тем, кто ему звонил, все прикрывал трубку широкой рукою, хотя для нас для всех его препирательства звучали как чистейшая, славянски певучая тарабарщина. Моему отцу это очень не нравилось, но он терпел, ценил Александра, по-своему даже любил его, кажется мне, уже тогда понимал, наверное, то, чего другие не понимали. Alexandre был, конечно, джентльмен до кончиков ногтей (jusqu‘au bout des ongles), пишет Жан Лаваль в заключение, но он был при этом живой человек с открытой и беззащитной душою, он мог все бросить, вдруг услышав по радио какую-нибудь любимую им мелодию, Шуберта или Брамса, замереть с рейсфедером в руке, со слезами в глазах, ничего не замечая вокруг, выпадая из времени. И это как-то связано, кажется мне, с авантюрной жилкой, которую я всегда в нем отчетливо чувствовал, как если бы возможность вообще все бросить, всю свою жизнь, на все махнуть рукой и все послать к черту, отколоть какое-нибудь безумство, удрать на войну или убежать в Аргентину, как если бы такая возможность, мечта и соблазн, постоянно присутствовали в его мыслях, почти независимо от того, была ему эта жизнь по душе или нет, независимо от успеха и неудачи, счастья или несчастья, одиночества или не-одиночества (solitude ou non-solitude).
Вот, наконец, интервью, не попавшее ни в один из этих сборников, но найденное мною – и тоже в один из первых дней после отъезда Пьера Воско – не совсем, впрочем, случайно, поскольку я теперь останавливался у полок с книгами по архитектуре и в букинистических, и в просто книжных лавках – все же я думаю, что и эта случайность позабавила бы Александра Воско – найденное мною, начнем еще раз, в одной из бесчисленных букинистических лавок за мюнхенским университетом, на Шеллингштрассе, куда обычно захожу я, если оказываюсь в Швабинге, куда на этот раз зашел если не прямо из Баварской библиотеки, то, может быть, посидев полчаса в любимом кафе News Bar на углу Шеллинги Амалиенштрассе, одном из тех мюнхенских кафе, в которых, переходя из одного в другое, я начал – уже теперешней, не тогдашней – осенью писать этот текст, вот этот, эту повесть, или роман, или что это будет; в букинистической, или, как говорят в Германии, антикварной книжной лавке, где было, как во всех антикварных книжных лавках, темно и грустно, стоял затхлый, тяжелый, ванильный запах старой бумаги, и у букиниста был тот испуганный, слегка безумный взгляд, какой бывает почти у всех букинистов, как если бы их слегка оскорбляла необходимость иметь дело не только с буквами, страницами и корешками, но еще и с надоедливыми, хотя и редкими посетителями, отвлекающими их от созерцания корешков и обложек; все-таки он без колебаний, легким отстраняющим жестом – возьмите, мол, и отстаньте – отдал мне пожелтевшую, вчетверо сложенную страницу с интервью Александра Воско, аккуратно вырезанную кем-то из воскресного приложения к газете Die Welt от 6 июля 1975 года (как это вообще принято среди образованных немцев; такие вырезки из газет нахожу я теперь в каждой третьей книге, купленной у букинистов) и засунутую в большой, тоже в середине семидесятых вышедший, с тех пор пожелтевший и поистрепавшийся альбом «Современное строительство на Рейне и Мозеле», Moderne Bauten am Rhein und an der Mosel, в котором обнаружились и фотографии как раз в то время спланированного, в дальнейшем, действительно, построенного А.Н.В. нового района в городишке Лейвен на Мозеле, совсем недалеко от Куса, родины, ни много ни мало, Николая Кузанского, о котором и спрашивает его первым делом тоже и в свою очередь скрывающийся даже не под инициалами, но под названием газеты интервьюер (так что я уже не в силах вообразить себе никакого Майкла, никакой Мэри). Что для вас Николай Кузанский? Was bedeutet Nikolaus von Kues für Sie? Строить поблизости от родины великого богослова, говорит А.Н.В., большая честь и огромное испытание; ландшафт этот вообще слишком прекрасен, чтобы портить его современными монстрами… Все же, поскольку город Лейвенна-Мозеле решил застроить один из к реке спускающихся холмов, где почему-то перестали разводить виноград, как разводят его на холмах соседних и противоположных, по одному и другому берегу этой петлистой и вьющейся, удивительной уже тем рисунком, который она образует на карте, реки – застроить, следовательно, этот холм, точнее, эту группу холмов, включая расщелины, не теми совершенно одинаковыми двухэтажными беленькими домишками, которыми, увы, застроено теперь пол-Европы, пол-Германии в частности, и на которые лично он старается вообще не смотреть, чтобы уж совсем не расстраиваться, но чем-то более неожиданным, вообще чем-то имеющим отношение к архитектуре, то вот и он, Александр Воско, решился принять участие в конкурсе. Он, может быть, и не стал бы этого делать, если бы городок назывался иначе. Слишком все-таки привлекательным показалось ему созвучие слова Лейвен (Leiwen) с одним драгоценным для него именем. Корреспондент не спрашивает с каким. Корреспондент (или корреспондентка) пытается продолжить тему Николая Кузанского (показывая, может быть, собственную свою образованность). А.Н.В. свою образованность показать отнюдь не стремится, потому отвечает, довольно кратко и сухо, что основные понятия Кузанца – ученое неведение, например, и совпадение противоположностей в особенности – кажутся ему восхитительными метафорами чего-то, чего иначе не выразишь; мысль, полагает он, которая самому кардиналу, математику и мистику пришлась бы по вкусу. Так и в наших рассуждениях об архитектуре, говорит он дальше, мы пользуемся, в сущности, метафорами, с трезво-рациональной точки зрения, быть может, сомнительными, но все же как-то передающими наши устремления, задачи и замыслы. Когда Гуго Геринг (Hugo Häring), с которым он был, кстати и к счастью, знаком, у которого многому научился, пишет, что строить надо изнутри – наружу (von innen nach außen), то это, конечно, метафора, ничего более, но он прекрасно понимает ее, он сам старается строить именно так, изнутри – наружу, из внутреннего – вовне. Скорее, говорит он, возвращаясь к Николаю, он почувствовал живое присутствие великого философа, когда бродил по берегам Мозеля, глядя на осенние виноградники, и не только потому, что в Кусе до сих пор существует дом для престарелых, основанный кардиналом, то есть существует уже более пятисот лет, несмотря на все войны и революции, вопреки всем революциям и всем войнам… Он вышел однажды утром из гостиницы в Бернкастеле, городке на противоположном от Куса берегу Мозеля; его жена еще спала и, кажется, все еще спали, кроме крестьянина, переезжавшего через мост на своем тарахтевшем тракторе, кроме уток в реке и его самого, всегда встающего очень рано, по военной привычке. Трактор проехал, и стало так тихо, как в Европе теперь уже почти никогда, нигде не бывает, как бывает тихо в Аргентине, как бывало в балтийском его детстве и юности, в курляндской глуши; солнце ван-гоговскими пятнами лежало на порыжевших, поредевших виноградниках, ровными бороздами уходивших наверх по холмам; у корабельной пристани стояли, покачиваясь, просыпаясь, прогулочные катера. Если бы Николай Кузанский вдруг появился откуда-нибудь из-за домов, еще спрятанных в синей тени, он бы, наверное, не удивился. Поскольку Николай не появился, говорит А.Н.В., он принялся рассматривать большую карту Мозеля на щите, установленном возле причала, и очень долго, минут двадцать, может быть, покуда Мария, его жена, не разыскала его и не позвала завтракать, смотрел на эти таинственные изгибы, извивы… Тогда-то вы и решили, наверное, перебивает его корреспондент, придать своим мозельским домам форму самого Мозеля? Это невозможно, конечно, отвечает он, у Мозеля все-таки слишком много извивов, изгибов. Но я долго смотрел на карту, и тогда, и потом, смотрел на нее вновь и вновь, и да, правда, мне хотелось придать моим зданиям некое сходство с этой рекой – и с этими виноградниками, фотографии которых, как и карту, как, впрочем, и репродукцию известного портрета Николая Кузанского (с молитвенными руками, длинными пальцами и кардинальской красной шапкою, на длинных веревках закинутой за спину…) я, признаться, повесил у себя в мастерской, на юге Франции, когда работал над этим проектом. Река и виноградники – вот две составляющие ландшафта. Поэтому дома спускаются вниз уступами и поэтому их рисунок, если смотреть на них сверху, напоминает загибы и петли реки. Поэтому же я выбрал такой бетон… там не много бетона, перебивает он сам себя, я использовал разные материалы, и кирпич, и дерево, и стекло… но все же там есть бетонные внешние балки, как бы бетонные полосы в этих домах, и я выбрал такой бетон, такой грубый, с таким крупным наполнителем, таким большим содержанием щебня (grobe und große Gesteinkörnung), что он выглядит как природный материал, как часть ландшафта, скалистая часть. Этот грубый, ничем не замазанный бетон мне просто нравится, говорит А.Н.В., нравится трогать его руками, проводить по нему ладонью… Эти камушки в нем сами как виноградины… Между прочим, сделать такой бетон очень непросто, и он хотел бы, пользуясь случаем, высказать свою благодарность и свое восхищение рабочим из Трира, добившимся такого качества и такой красоты, разделившим с ним его заботу о материале, любовь к материалу. Любовь к бетону? переспрашивает (небось с ухмылкой) корреспондент. Разумеется, отвечает он. Если вы не любите материал, из которого строите, лучше вам строить из какого-нибудь другого, или не строить вообще. И это еще не все. Еще не все? вновь переспрашивает корреспондент (сдаваясь). Еще этот бетон напоминает ему опоры мостов, тех мостов через Мозель и через Рейн, к примеру, которые строил после войны замечательный немецкий инженер Фриц Леонгард (Fritz Leonhardt). Я не знаком с ним, замечает А.Н.В. (как-то вдруг), но кое-что меня с ним связывает, точней кое-кто, общий один знакомый, оставшийся в Аргентине, уже и увы покойный, о котором не знаю, помнит он или нет. В мире вообще все со всем как-то связано, кажется мне. Собственно, это ощущение всеобщей связи вещей (вполне кузановское, если угодно) я и пытаюсь передать своими работами, своими проектами… Вы, однако, не станете отрицать, замечает к всеобщей связи вещей равнодушный, похоже, корреспондент, что этот ваш мозельский проект, каким бы прекрасным он сам по себе ни был, все же проект очень своеобразный, очень индивидуальный, и что для массового строительства он не годится? О, конечно, отвечает Александр Воско. Конечно, виноградно-курортный городок на Мозеле – это не рабочий район в Рурской области, в Чикаго или в Мехико-сити. Он это прекрасно понимает, еще бы. Он только не понимает, почему все в мире должно быть таким одинаковым… В природе ведь нет единообразия, а природа, простите за банальность, наш великий учитель. Все зависит от точки зрения. Вам важно то, что отличает сосну от березы, а мне важно то, что отличает одну сосну от другой. Я, между прочим, знаю толк в соснах, я вырос в Прибалтике. И я много писал об этом в разных статьях, к ним вас и отсылаю, если позволите. Это единообразие связано с войною, замечает корреспондент, никаких статей Воско, наверное, не читавший; после войны нужно было строить быстро… Архитектура вообще связана с войной, отвечает Александр Воско. Есть глубокая, глубинная связь между войной и архитектурой, которую вряд ли вы в полной мере осознаете. Наступает, похоже, пауза. Разумеется, говорит, наконец, озадаченный журналист, война разрушает, архитектура создает. Разрушать легко, строить трудно. Война уравнивает, отвечает А.Н.В. на эти, тоже, банальности, ничто не уравнивает так основательно, так беспощадно и так бесповоротно, как война, говорит он. Развалины выглядят везде одинаково. Война уравнивает здания, уравнивает и судьбы. Война, и тюрьма, и голод, и бегство, и бомбежка, продолжите список сами – все это, в конце концов, пытается отнять у нас нашу отдельную судьбу, нашу индивидуальную жизнь. Архитектура, говорит А.Н.В., должна была бы… вот именно так, должна была бы противостоять всему этому, этим безличным силам безличности, анонимным силам анонимности, называйте их как хотите. Однако она не делает этого… слишком часто не делает этого. Архитектура отвечает за многообразие мира; вот мое кредо. Есть роковое стремление к одинаковости, свойственное вообще человеку. Один домик не отличается от другого; посмотрите вокруг. Но страшно, когда эти силы анонимности овладевают самими художниками (Künstler); когда художники (Künstler) начинают хотеть единообразия; вот это, может быть, самое страшное. Всех загнать в картезианские казармы, в рационально обустроенные бараки… Журналист не спрашивает, к сожалению, каких Künstler он имеет в виду; возвращается к теме войны. Вы ведь тоже воевали, не так ли? Ах, Боже мой, отвечает Александр Воско, я участвовал, это правда, в одной далекой, давней, темной войне, о которой, кроме нас, старых балтийцев, здесь в Германии никто, кажется, и не помнит, и было мне всего восемнадцать, и все последующие войны я пережил относительно благополучно. Мой личный опыт ничтожен… по крайней мере, несравним с тем, что выпало на долю другим и многим. А все же это важнейший для меня опыт, в большой степени, наверное, сформировавший меня (eine Erfahrung, die mich weitgehend geprägt hat). Что же до массового строительства, о котором вы говорили, то задача заключается, конечно, в том, чтобы это строительство было одновременно и массовым, и индивидуальным… вот вам, если желаете, совпадение противоположностей, добавляет он в скобках (и я снова вижу, как он улыбается, сощуривает шальные глаза, качает ногою). Нам нужно индивидуальное массовое строительство. Что, как нетрудно догадаться, есть квадратура круга. Между тем искусство, полагает он, всегда означает поиски этой самой квадратуры, то есть поиски чего-то, чего, как кажется, не может быть и что, осуществляясь, становится вдруг возможным. Вот это и значило бы строить для демократии (für die Demokratie bauen), как любит говорить мой глубокоуважаемый коллега Гюнтер Бениш и как говорил еще великий Фрэнк Ллойд Райт… Учеником которого вы ведь были, в последний раз перебивает его анонимный интервьюер. Учеником которого я никогда не был, отвечает он, которого я даже не видел ни разу. Который за полгода до смерти, натолкнувшись, наверное, на фотографии моих аргентинских построек в каком-нибудь архитектурном журнале, прислал мне длинное, не буду скрывать – очень лестное для меня письмо, заканчивавшееся сообщением, что, если я хочу, я могу называть себя его, Ллойда Райта, учеником, он возражать не будет. Архитекторы, скажу вам по секрету, вообще редко отличаются скромностью.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.