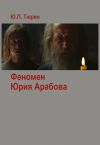Текст книги "Общедоступный песенник (сборник)"
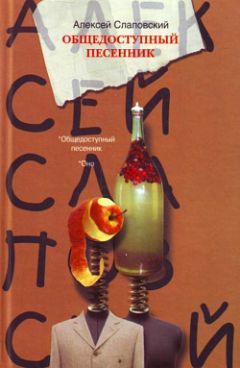
Автор книги: Алексей Слаповский
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Таня стала играть.
– Выпить бы еще, – сказала Нюра.
– Только водка, – извинился Матвей.
– Годится.
Матвей принес и поставил на дощатый самодельный стол водку, стаканы и блюдо с яблоками. Нюра налила себе полстакана, выпила. Потом еще полстакана, но сразу пить не стала, взяла яблоко, села в уголок, слушала игру Тани, отпивала водку, хрустела яблоком.
Сергей смотрел на играющую Таню и слушающую Нюру и размышлял: странно, две женщины, совершенно разные, а так похожи чем-то внутренним, неуловимым… Им идет быть подругами, старшей и младшей, при этом ясно, что они никогда, ни при каких обстоятельствах не станут подругами, а если б они были сестры, то меж ними была бы вечная вражда-любовь…
Музыки было как раз в меру, чтобы не утомить даже тех, кто классику не любит, впрочем, и классика была облегченная, народу доступная, но Сергей почти ничего не узнал.
– Вы с гитарой, – сказала Таня Сергею. – Играете?
Сергей впервые за сегодняшний день вспомнил, что он с гитарой и что он сочиняет песни.
Ему очень захотелось спеть этим людям. Они умны и интеллигентны. Они поймут его. Но он стеснялся Нюры. И Стас Антуфьев сегодня умер. Но, наверное, Стас Антуфьев на его месте спел бы, если б хотелось, не думая о том, что кто-то умер. Каждый день кто-то умирает. Сергей не глядел на Нюру, но та поняла его сомнения и сказала с неподдельной просьбой:
– Правда, в самом деле. Сбацай.
Сергей пошел за гитарой, которую оставил у порога. Расчехлил, настроил, металлические струны после холода всегда надо подстраивать. Возможно, синтетические тоже, но Сергей на синтетических не играет. Ему нужен достаточно жесткий звук, жесткий, но негромкий. Ритм. И четко – слова.
– Как там было? – спросила меж тем Таня Матвея по-семейному, как про общее дело.
– В газете прочитаешь, – сказал Матвей, не желая личное обсуждать при посторонних. Но тут же спохватился, что может их обидеть.
– На похоронах Антуфьева был сегодня, – объяснил он.
– Мы тоже, – сказал Сергей.
– Жалко человека, – сказал Матвей, обрадовавшись, что у них есть общая тема.
От настройки гитары Сергей перешел к наигрыванию, а потом запел, он спел первый куплет вполголоса, чтобы начали вслушиваться, а потом запел песню заново, уже по-настоящему. Он закрыл глаза и пел песни одну за другой. Он чувствовал, что его слушают. Если бы почувствовал, что не слушают, тут же прекратил бы. Он пел песни одну за другой, без пауз, чтобы после песен не было никаких слов…
– Заткнись! – закричала Нюра.
Он оборвал себя на полуслове и открыл глаза.
Нюра-Лена была пьяной. Она выхлебнула из стакана остатки и стала говорить.
– Стас умер, а он тут поет. Частушки свои тут распевает. Козел. Все вы козлы. Приютили, какие добрые! Не верю! Кому что спокойней! Вам приютить спокойней, чем прогнать! Козлы. Только и думаете, как вам спокойней! А Стас не думал. Жил, как человек, и не думал о том, чтобы жить, как человек! И умер! А вы живете, козлы! На пианинах играете, козлы! А этот статьи пишет, козел! Журналист, блин! Ненавижу журналистов!
– Извольте не ругаться при детях, – мягко сказал Матвей.
– Их уже несколько? Когда вы успели? На кой хрен вам дети? Вам же не нужны дети, вы же козлы, от них покоя нет, а вам покой нужен! Настя! Поедем со мной, я тебя научу жить!
– Меня зовут Катя, – сказала девочка. – А жить я умею. А пьяных людей не переношу. Это омерзительно.
Она вышла из комнаты.
– Бросьте, Лена, – сказала Таня. – Давайте я вам постелю. Хорошо? Вы просто устали.
– Пошла… – выругалась Нюра-Лена. – Пианистка …ая!
– Послушайте… – начал Матвей, но Таня встала и сказала сама.
– Ты, …, – ответила она Нюре ее словами, и они, странное дело, не показались неуместными в ее исполнении. – Кумир у тебя умер, досадно. Горе. Понимаю. Но не размазывай сопли по … – хорошо? Это не общага, нечего закатывать истерики. Мы это сами, конечно, умеем, но все-таки! Это никому не нужно, понимаешь? В том числе тому, кого нет с нами.
– Ага, – после паузы сказала Лена. – Благородные, блин. Ты сказала – кумир? С нами? Это с кем? Убить тебя мало за такие слова.
И она бросила в Таню стаканом – всерьез, стараясь попасть. Стакан разбился над головой Тани.
– Ну, знаете! – встал Матвей.
– Кумир! Нашла слово! Не подходи, … отгрызу! Прощайте, козлы! Пусть земля вам пухом!.. Козлы! Кумир!
Она сорвалась, выбежала, на ходу схватив куртку, всунув ноги в кроссовки.
Сергей – за нею.
Она не по дороге побежала, а зачем-то в лес.
Я старался не выпустить ее из виду.
Догнал, ухватил за руку.
Она ударила меня по лицу ладонью, я повалил ее на землю.
Некоторое время мы тяжело дышали, лежа рядом.
Потом она села и, уткнув лицо в колени, заговорила:
– Пойми. Я его люблю. Давно уже. Хотела поехать, но как-то все… Кто он и кто я? И вообще. А потом решила поехать. Мне ведь не надо ничего, мне надо было сказать. Ему наплевать, но это не про него. Я бы сказала: привет, я тебя люблю, будь здоров, пока. И уехала бы обратно. Честное слово, больше ничего не хотела. А он умер, козел. И все. Мне теперь незачем жить! Я домой не вернусь теперь. Пусть мать думает, что меня в Москве убили и изнасиловали. А то если будет знать, что дочка под поезд, неприятно ей будет. Или из окна с десятого этажа. Ей будет неприятно. Мама дочку любит. Ну, ненавидит по-своему, это само собой. Но по-своему зато любит. Все по-своему. Пусть думает, что кто-то дочку пришиб. Это будет ей утешительно. А то если будет знать, что сама… Будет неутешительно. Я маму расстраивать не хочу.
– Что ли, самоубийством жизнь кончить решила? – спросил я.
– Ты молчи, козел! Тебя это не касается. И песни твои козлиные. У меня умер любимый человек. Мне незачем жить. Нет, песни нормальные, ты не расстраивайся. Только ты их придумываешь. А Стас не придумывает ничего. Они у него сами.
– Ангел нашептывает?
– Убью дурака. И он если бы пел, он не стеснялся бы. А ты сам поешь и сам стесняешься. Значит, понимаешь, что фуфло. Все фуфло. Хотя песни хорошие. У меня хуже. Ты бы король у нас был. Я серьезно, я понимаю. Может, они даже лучше, чем у Стаса. Но ты их придумываешь. Придумать и дурак сумеет.
– В умные не набиваюсь. Ладно. Пошли. Извинишься, спать ляжешь.
– Я туда не вернусь.
– Они интеллигентные люди, они все понимают. И им спокойней будет. Ты правильно сказала – спокойней. Но все ведь такие. Все нормальные люди такие. Или ты думаешь, что нормальные – которые молотком по башке?
– Именно! Они-то как раз и нормальные!
Нюра сплюнула.
– Черт. Только что пьяная была и… Холодно. И нервы. Пошли, в самом деле. Я в поезде не спала. Сейчас упаду тут, зароюсь в листья, засну и замерзну насмерть. У меня приятель замерз пьяный на автобусной остановке. Майским утром. Ну, идем или нет?
5
и ничего что мои вены оскоминой свело
зато ночью у нас темень а днем у нас светло
и поля все в траве и все в деревьях леса
приезжайте подивитесь на такие чудеса
а в городах дома стоят в разбивку и в ряд
а в домах живые люди о чем-то говорят
они о чем-то говорят и молча и вслух
что бы стали они делать если б свет вдруг потух
Таня и Матвей, конечно же, имели такой вид, будто ничего не произошло.
– Я постелила вам, – сказала Таня. – Комнатка тесноватая, конечно, но ничего.
– В тесноте да не в обиде! – Нюра извинилась этими словами за свое поведение. Все это поняли, всем стало опять уютно.
– Сейчас я вам колыбельную спою, – обрадовала нас Нюра.
Она взяла гитару и запела.
Гитара звучала резко, голос звучал резко, слова были резкие. Наверняка друзья ее там, в Волгограде, любят ее пение и ее любят. Но я откуда-то знал, что она будет петь что-то как раз в этом духе. Я где-то уже слышал подобное, хотя нигде ничего подобного не слышал. Как бы объяснить… Чутьем слышал. Есть вещи, о которых ты знаешь – они есть. Я огорчился, конечно.
– Ну вот, – скромно вздохнула Нюра, уверенная, что покорила всех. – Теперь можно спать.
– Слушайте, очень оригинально. Вам этим серьезно надо заниматься, – сказал Матвей.
– Может, аккомпанемент… Да нет, он тут такой и нужен, – сказала Таня.
– Вот именно, – сказала Нюра.
Мы даже душ на ночь приняли – оказывается, дом со всеми удобствами. Правда, вода нагревалась газовой колонкой, Матвей довольно долго добивался, чтобы душ был достаточно горячим, а добившись, предупредил, что краны крутить не нужно, иначе колонка может и взорваться ненароком.
Нам отвели под ночлег маленькую комнатушку с высокой металлической допотопной кроватью. Лет сорок назад была она роскошной – двуспальной, супружеской…
Одеял было два. Очень умные люди Таня и Матвей.
– Забыла им сказать, что мы не муж и жена и не друг с подругой, – проворчала Нюра.
– У них тут кроватей не сто штук, не гостиница, – урезонил я ее. – А одеяла два дали, молодцы. Не привередничай.
– Отвернись, дай раздеться. Я голая сплю.
– Я тоже.
– Только не вздумай подлезть, козел. … оторву.
– Слушай, ты можешь без этих слов? Тебе не идет.
– Могу, …! Запросто, …! Хорошо у них. И люди все-таки нормальные.
Я лег рядом, согрелся, ждал – сейчас дрема сладкая начнется. И понял, что долго не усну.
– Мне твоя песня не понравилась, – сказал я.
– А тебя спрашивают?
– Я говорю то, что хочу. Я правдивый вообще.
– Ненавижу правдивых. Сама такая.
– Можно очень пошлую штуку скажу?
– Нельзя, но говори.
– Я тоже ехал к Антуфьеву…
– В любви признаться? Спасибо, успокоил.
– Нет. Просто нужен человек… Ну, ты можешь с ним не общаться. Но он есть. И – можно жить. Легче. Был Антуфьев.
– Кумир, значит.
– Вроде того. Я десять лет собирался к нему приехать.
– Ты такой старый?
– И вот собрался. Дело не в этом. Просто все очень логично. Ты понимаешь, каждому человеку что-то идет. Ну, не только одежда, а вообще. У меня вся жизнь такая. И у меня именно так должно быть: собрался к человеку, с которым давно хотел встретиться, а он исчезает. Это мне идет. Понимаешь? Ну, как говорится, в моем стиле. Если очередь за чем-нибудь, то кончается передо мной. Есть люди, у них наоборот, им всегда достается последнее. За ними уже никому, а им всегда. Они на поезд всегда опаздывают – и точно в последнюю минуту успевают. А если не успевают, поезд на пять минут почему-то задерживается. Такие есть, у меня друг такой.
– Значит, если б ты не поехал к Стасу, он бы не умер?
– Смешно. Но, может, и так. Нет, умер бы, конечно, у него ведь свое все. Ему идет умереть сейчас. Он повторяться начал.
– Козел. Он никогда не повторялся.
– Ну, может быть. Но, главное, я не впал в страшное горе. Мне сейчас даже как-то все равно. Мне его не жаль… Не думал…
– И не думай. Тебе вредно. Я знаю, к чему ты клонишь. Ты сейчас скажешь: ай-ай-ай, какая удача, из-за смерти Антуфьева я встретил тебя. Меня, то есть. И полезешь щупать. Хочется ведь? На вот, руку пощупай.
Я взял ее руку, подержал.
– А ногу хочешь? На ногу. Не выше колена.
Она высунула ногу и положила на меня.
Я не стал трогать ее ногу.
У нее был кумир – и остался. Все остальное для нее не существует. У меня нет никаких шансов. Она всегда будет для меня чужой.
Я думал об этом и думал о Тане. Я слышал, как она что-то тихо делает на кухне. С Матвеем или одна? Голосов не слышно…
Нюра уснула, я встал, оделся, вышел.
Таня сидела в тесной кухоньке, в кресле с ногами, закутавшись в одеяло, читала книгу.
– Не спится, – сказал я. – В новом месте вообще плохо засыпаю. Хотя и дома под утро ложусь. Сова.
– А девушка спит?
– Спит.
– А я не сова, у меня просто бессонница. До трех не усну. Таблетки глотать не хочется. Причем странно: месяц, полтора бессонница, неизвестно почему. Потом само проходит… Скверная штука. А встаю рано. Если потом днем час не посплю, не человек. Хочешь чаю?
– Да.
Я выпил четыре чашки чаю и вкратце рассказал ей всю свою жизнь. Я говорил как младший, хотя дело тут не в возрасте. Таня старше всех мужчин. Дело не в возрасте. В таких влюбляются насмерть. Влюбляются странно, ревнуя к ее уму и к детской какой-то взрослости и желая присвоить себе это любовью. Вряд ли кто-нибудь – взаимной. Она тоже влюбляется смертельно. И безответно, как правило.
Подумав, я изложил ей эти свои мысли. Она сказала:
– Ты умный мальчик.
– Наверняка все твои мужчины были старше тебя.
– Ты так говоришь, будто у меня их миллион был.
– Не миллион. Но были. Это же видно. По мне же видно, что у меня мало было?
– Видно. Но дело не в количестве. Какие мы мудрые, очень приятно. Ты нравишься этой девочке. У вас уже было что-то?
– Мы только сегодня познакомились.
– Очень гармонично смотритесь.
– Я знаю.
– А мы бы вот с тобой совсем не смотрелись.
– Я знаю. Но в этом своя… Что ли, прелесть.
Мы поговорили еще о разном. Я рассказал всякие случаи, касающиеся моей феноменальной невезучести.
– Мне нельзя жениться, – сказал я, понимая, о чем говорю, и что это довольно пошловато, – потому что если захочу изменить жене, тут же попадусь. Сто процентов. Вот, например, если я захочу тебя поцеловать, тут же войдет твой муж.
– А ты хочешь меня поцеловать?
– Да. Спорим, войдет?
– Мы без спора. Мне как, встать?
– Лучше встать. Люблю стоя целоваться или уж лежа. А на креслах или стульях корежиться, извини…
– Нет, ты прав.
Она встала, мы начали целоваться.
Когда целуешься в тишине, то глохнешь, это я не раз замечал. Не думаю, что Матвей крался на цыпочках. Он просто проснулся, встал, вошел, увидел.
– Обжимаемся, – сказал он. – Танюша, не морочь пацану голову. И себе тоже.
– Не теряй времени, – сказала Таня. Почему-то очень серьезно. – Тебе разве не нравится эта девочка? Иди к ней. Уговори, улести, заплати, наконец. Я знаю таких девочек. Они настолько честные, что или по любви, или как воды попить, или за деньги.
– А что, есть другие варианты?
– Есть. Когда они не захотят, ничто не поможет. Никакие златые горы.
– Ладно, – сказал Матвей. – Доцеловывайтесь тут, а я спать.
И пошел – в туалет сперва (вода зашумела), потом мирно, по-крестьянски зевнув, показавшись в дверном проеме, высокий, широкоплечий, пахарь, комбайнер! – спать.
– Когда разрешено, интереса нет, – сказала Таня. – Спокойной ночи.
– Жаль, – сказал я.
– Ничего.
– Поехали ко мне. Со мной. Я же все вижу. Он не нужен тебе. Доброта его фальшивая. Он ревнивый. Я вижу.
– Ты злой, оказывается. Представь, если б ты угадал? Ты бы сделал мне больно. Но ты не угадал. Он нужен мне. Мне хорошо с ним.
– Конечно. Если б не бессонница, – сказал я и вышел.
Но тут же вернулся:
– Извини. Я дерьмо.
– Бывает. Спи спокойно.
– Я хотел бы с тобой… Ну, побыть, пожить, не знаю…
– Со всеми не поживешь.
Я пошел спать и довольно скоро заснул.
Проснулся оттого, что Нюра во сне прижималась ко мне, обнимала и что-то бормотала.
– Эй, – сказал я тихо, – эй, очнись.
Она открыла глаза.
Я дотронулся пальцами до ее щеки. Она чуть повернула голову, поцеловала мои пальцы. Проснулась совсем. Вздохнула.
– Зачем ты меня разбудил?
– Кумир снился?
– Трижды дурак. Тронешь меня – убью.
Дурак, сказал я себе. Вот уж воистину.
Но мне, дураку, было хорошо. Я давно уже не любил никого, а сегодня за несколько часов полюбил сразу двух женщин.
6
мы обсуждаем всерьез мы позабыли опять
как лучше круглое катать и плоское таскать
а может круглое тащить а плоское катить
а может нам рассолу выпить и водкою запить
Утром Матвей ушел раньше всех – на службу. Сказал, что, если хотим, можем гостить. Мы поблагодарили, но гостить не собирались и распрощались с ним.
Я слонялся, никак не мог остаться с Таней наедине. Я хотел попросить разрешения писать ей письма. Я никому до этого не писал писем.
Улучил момент. Она разрешила.
– Может, вам темные очки дать? – деликатно спросила она Нюру, которая рассматривала в зеркале синяк под глазом – след вчерашней стычки с рыдающими девицами. Синяк был большим и лиловым.
– Никогда не ношу темных очков, – сказала Нюра.
И мы ушли.
Дошли до платформы, сели в электричку, поехали в Москву.
Потом в метро.
Она вела, была впереди, хотя мы шли рядом.
Я придумал игру не спрашивать ее ни о чем. Она куда-то ведет меня. Пусть ведет.
Доехали до «Пражской». Вышли. Район совсем для меня незнакомый. Магазин «Обои». У этого магазина Нюра меня оставила, сказав, что скоро вернется.
Вернулась она через два часа.
Я почему-то ничуть не беспокоился, я знал, что она вернется.
Она вернулась.
На глазу пиратская черная повязка. Причем не тряпица какая-нибудь, а словно нарочно сшитая – плотный черный кругляш и две аккуратные тесемочки.
Она дала мне деньги.
– На билет хватит?
– Даже лишние.
– Лишних не бывает.
– А ты остаешься?
– Нет.
– Едешь домой тоже? Поехали вместе. Или слушай, поехали ко мне в гости. Саратов замечательный город, хоть я его не люблю.
Она молчала.
– Или хочешь, я к тебе в гости поеду, – сказал я.
– Ты скромный и ненавязчивый. Ладно. Монетку бросим. Орел – едем к тебе. Решка – едем ко мне.
– Можно не бросать, – сказал я. – Будет решка. Едем к тебе. Хоть сто раз брось – и сто раз выйдет решка. Такой уж я везучий.
– Не трепись.
Она достала монетку, подбросила высоко и не поймала, монетка упала на тротуар.
Я даже отвернулся.
– Эй, давай смотреть, а то скажешь, что жульничаю.
– Нечего смотреть. Решка.
– А вот и орел. – Она подняла монету и поднесла к самым моим глазам на растопыренной ладони. – Ну? Орел или нет?
– Бывает. Значит, у тебя рука легкая.
И в тот же день мы взяли билеты, поехали в Саратов.
В поезде она долго смотрела в окно, а потом легла и сказала:
– Такое чувство, что месяц не спала. Как сейчас засну до самого утра.
– Разве не выспалась? – спросил я.
– Ты не дал. Ворочаешься, храпишь.
– Я никогда не храплю.
– Вскакивал то и дело. Недержание мочи у тебя? Или к Таньке бегал? Ты успел с ней?
– Что?
– Ничего, я сплю, не приставай. Болтливый попался.
Мне казалось, что она заснула: лежала ровно, дышала ровно, лицо спокойное. Но она вдруг спросила так, будто разговор не прерывался:
– Знаешь, сколько я стою? Я стою пятьдесят долларов. По курсу рубля на текущий ноябрь одна тысяча девятьсот девяносто пятого года – двести тридцать с чем-то тысяч рублей. Что можно купить на двести тридцать с чем-то тысяч рублей?
– Два билета до Саратова.
– Вот так. Моя цена – прокатиться до Саратова. Ну, или как флакончик духов. Не знаю, сколько стоят духи.
– Десять комплектов металлических струн, – сказал я.
– Один зимний сапог из искусственной кожи, – сказала она.
– Двадцать бутылок водки. Целый ящик.
– Рукав от норковой шубы. Нет, вряд ли рукав, карман один.
– Собрание сочинений Диккенса, тридцать томов, видел в «Букинисте».
– Одна спица от колеса мотоцикла «Харлей-Дэвидсон».
– Полторы тысячи коробок спичек. Приблизительно, – сказал я, смутно помня, что коробка спичек стоит, кажется, сто пятьдесят рублей.
– Ты дашь мне спать, козел?
– Нет.
– Почему это?
– Ты называешь меня козлом. Мне это не нравится.
– Ладно, больше не буду, козел. Нет, правда. Последний раз. Все.
Попутчики, старик со старухой, смотрели на нас, как на сумасшедших. Мне стало смешно, мне захотелось спеть им песню. У меня есть пустяковинка – песня про старика со старухой.
Жили-были старик со старухой у синего моря.
И старик был все время под мухой, не ведая горя.
И он продал и невод, и снасти за восемь пол-литров.
И старуха рехнулась от гнева, ему бороду выдрав.
А у берега рыбка златая глаза проглядела.
Ей, хвостом разноцветным болтая, надоело без дела.
Как-то старец домой под луною шел похмельно и зыбко.
И ему подкатилась с волною прямо под ноги рыбка.
С нами бог и нечистая сила! Прямо в руки, зараза!
Рыбка некое время юлила, чтоб не даром, не сразу.
Но далась, наконец, привалило счастье пенсионеру.
И немедленно заговорила: что ты хочешь, к примеру?
И палаты резные, и злато, и жену молодую,
всем, что хошь, старичок, я богата, все, что хошь, наколдую.
А старик наш, пускай он и выпил, ума не лишился.
Он мундштук свой прокуренный выбил, закурил – и решился,
и сказал он опешившей рыбке: извиняюсь, гражданка,
вы, наверно, ко мне по ошибке, не сглотнулась приманка,
нету рыб говорящих в природе, мир и так перегружен,
я старухе снесу тебя – вроде как заботу про ужин…
И простила все мужу старуха в кулинарном угаре,
потроша ту рыбешку и жаря на тройном скипидаре…
В Саратов мы приехали рано утром.
7
ходят гуси к водопою обязательно гуськом
я к красавице Марусе страстью странною влеком
обойдуся без Маруси мало ль по миру Марусь
дайте мне покой и волю с остальным я разберусь
Сын мой странен, хотя, может быть, не странней многих других молодых людей его возраста. Впрочем, они разные. Иногда я не выдерживаю и занимаюсь тем, что называется – учить жить. Понимая, что нотации эти мне не облегчат душу, а ему не принесут пользы, я не могу остановиться, я упрекаю его, я привожу ему в пример тех его сверстников, которые работают у меня. Мне досадно, что с ними я нахожу общий язык, с ними я сам чувствую себя молодым и энергичным, некоторым я даже разрешаю называть себя по имени, а одному – на ты, это коммерческий гений в свои двадцать два года и далеко пойдет. Я читаю сыну нотации, а супруга в сторонке, плохо ли ей, когда глава семейства вкалывает, обеспечивая это самое семейство всем необходимым и даже более того, позволяя ей и сыну не работать. Я читаю ему нотации, чувствуя, что меня тоже устраивает, что сын не вырос и остается для меня почти мальчиком. Меня устраивает это. Если бы не беспокойство за будущее, когда иссякнет моя бодрость и что-нибудь приключится со здоровьем… Тогда – крах. Но пока все в порядке и, хотя я читаю ему нотации, меня вполне удовлетворяет положение вещей. Он делает вид, что отделился от меня и от матери, не просит денег, зарабатывая делами преимущественно несерьезными. Но, однако, от еды не отказывается и скромно позволяет себе не задумываться, сколько стоит хлеб насущный по нынешним временам. От одежды не отказывается тоже, хотя требования его тут минимальны. Он, удивительное дело, аккуратен, носит все бережливо, стирает сам. Впрочем, целыми днями и неделями сидит дома, упражняясь на гитаре, отчего ж не сохраниться одежде?
И так было довольно долго.
Но вот он поехал в Москву, вернулся с девицей определенного сорта и объявил ее своей невестой.
– Вообще-то жена уже. Фактически, – сказал он.
– А свадьба и все такое? – жалобно и испуганно спросила бедная мать.
– Еще чего, – сказала одноглазая невеста-жена с очаровательным имечком Нюра. (Я пытался Аней называть – не откликается, поправляет: Нюра, говорит, Нюра. А глаз ей в какой-то драке подшибли, она так и сказала, а почему повязка, будто у полководца Кутузова или пирата из детского фильма? – потому что ненавижу темные очки, ответила. Они умеют придумать себе вещи, которые любят и ненавидят, они живут этим – от скуки, надо полагать.) – Вам же лишние расходы, – сказала она. – Никаких свадеб. А вот свадебное путешествие – это хорошо. Дайте денег, мы к моей маме съездим. Ну, и вообще, прокатимся. Вернемся и начнем правильную семейную жизнь. Внучат нарожаем вам.
Тут бы самое время потолковать о практическом обустройстве этой самой семейной жизни. Допустим, с квартирой проблем не будет. Ту, что я пока снимаю для Лизы, я куплю, хозяин-алкоголик отдаст задешево, а Лизе объясню популярно, что, как выяснилось, я не так уж моложав, несмотря на ее постоянные уверения в обратном, что имею очень взрослого сына, который женился, и я обязан куда-то поселить его, поскольку даже в нашей просторной квартире жить двум семьям ни к чему. (Она, эта Нюра, абсолютно раскованна, между нашими комнатами еще так называемый зал, но она могла бы сообразить, что в ночной тишине все прекрасно слышно и через комнату, и, возможно, даже на улице, соседи же, наверное, думают, что мы увлекаемся порнографическими фильмами – звуки весьма характерные, правда, гораздо натуральней, чем в этих фильмах; супруга моя, скромница, лежит – не шелохнется, делает вид, что ничего не слышит, на меня взглянуть боится, впрочем, я тоже делаю вид, что сплю, хотя заснуть под такой аккомпанемент трудновато.) В общем, и тут обнаруживается сторона, для меня не то чтобы выгодная (я имею в виду отношения с Лизой, давно назревшую необходимость прекратить их), но своевременная. Иногда я даже пугаюсь того, насколько удачно складываются для меня обстоятельства в последние семь-восемь лет. У многих появился шанс, и они его использовали, но, как правило, это люди моложе меня или с подпольным советским коммерческим опытом. Я же вроде бы человек неподготовленный и, казалось, неспособный, гуманитарный, обнаружил и готовность, и способности, и удача, нужно отдать должное, помогла мне. Поэтому я надеюсь, что и у сына произойдет перелом, когда он женится. Но на ней ли ему надо жениться, вот вопрос. Пока они школьничают, целыми днями где-то шляются. Друзей у него почти нет, значит, не по друзьям ее водит хвастаться – ведь есть чем хвастаться, девочка красивая, врать не буду, а повязка придает ее красоте вид разбойный, лихой, и она прекрасно это понимает. На мои вопросы отвечают: «Гуляли».
Где, как, чего, непонятно.
Впрочем, за четыре дня они нагулялись досыта и поехали в Волгоград.
Очень вовремя, потому что у меня начались неприятные хлопоты: Лиза чем-то там травилась, попала в больницу, в реанимационную палату, пришлось ездить туда, контролировать и тому подобное. Пожалуй, придется покупать для сына другую квартиру, а эту продолжать снимать для Лизы. Она хороший человек, мне с ней славно, и, пожалуй, обошелся я с ней слишком резко – в мягкой, естественно, форме. Но вечно это продолжаться не может.
8
давайте удивляться что горькое горчит
что углы угловаты а колеса круглы
что нету у неба ни покрышки ни дна
что земля в этом небе одна населена
Господи, какая тоска. Когда я крошечкой была и в школе я училась, я очень нервная была. Лет примерно до пятнадцати. Я даже завидую своей той нервности, она детская была и по причинам детским. Экзамены, например. До экзамена пять дней, а я с ума схожу, я ни о чем больше думать не могу. Солнышко светит, птички поют, и много разного другого в мире божьем, но я смотрю на солнышко и птичек и думаю: экзамен скоро. Я ем, и сплю, и гуляю, и учебники читаю, и телевизор я смотрю, а сама все думаю, даже до боли какой-то: экзамен скоро. Удивительная нервность. Но после того лета все изменилось, и все мои нервы исчезли, и я спокойная стала. И так обрадовалась, что учиться совсем почти бросила, и вот теперь умная, но ужасно бессистемно и плохо образованная. А нервность вернулась, только это не та детская смешная нервность, а уже что-то другое. Тихо и спокойно страшное. Все вокруг движется, и я движусь, а сама думаю об одном: Его нет и никогда не будет. Жить я вследствие этого очень просто не хочу. Начинаю нарочно думать и придумывать, чем бы себя удержать. Маму жалко, придумываю. Она хорошая. Она работает, она живет с идиотом. Она меня любит.
Этот тоже. Оригинал с фамилией Иванов. Жила у него, смешно. Папаша и мамаша за двумя стенками внимательно слушают, а я дурачусь, изображаю эротические стоны. Лежу себе, ем яблоки, хорошие яблоки у них, а у нас нет сада, мама продала сад давно, после смерти отца, а был бы у нас сад, я была бы совсем другой человек, потому что человек с садом – это совсем не то, что человек без сада. Это я философствую типа. Лежу, ем яблоки и начинаю постанывать, постанывать, все громче, громче, ах, кричу, ой, май либер мальчик, ай лав ю, битте, еще, еще, а! а! а! ай, мама, пожалей, а! а! а!
Он смеялся, просил: ну, хватит, хватит.
…Водил меня по городу, ему хотелось, чтобы город мне понравился. Вот странные тоже дела. К родителям он прохладно относится, но хочет, чтобы они мне понравились. Город, в котором живет, ему опостылел, но он хочет, чтобы этот город мне понравился. На набережную водил. Космонавтов называется. На Волгу смотреть. Будто в Волгограде у себя я такую не видела. Памятник Гагарину новенький. В общем-то, конечно, это не Гагарин, а Владимир Ильич Ленин, только в военном мундирчике и с лицом первого космонавта, царство ему, конечно, небесное…
Погостили у него – поехали ко мне.
Здравствуйте, вот мой муж.
Добрая мама постаралась найти в нем достоинства – и нашла. Она это умеет. А отчим что, отчим теперь всему, что я сделаю, безумно рад. Мои друзья научили его радоваться на всю жизнь. Он убил бы меня, не задумываясь. Он разрезал бы меня на куски. Тайная злоба помогает людям жить. Она шепчет им: живи и жди, еще обломится шанс, и ты убьешь, и насладишься, ты упьешься торжеством мести! Потому что других причин жить у него нету.
Знакомила Иванова с друзьями. Знакомьтесь, это Иванов с Саратова. Огней там много золотых.
А это Гусев, он же Гусь, он же Хрустальный. По имени города, где стекло выдувают. Гусь-Хрустальный. У него и шея, как у гуся. Милый, печальный, музыку слушает двадцать пять часов в сутки, а бог слуха не дал, но он ударник, он сходит с ума и колотит по своим барабанам, тамтамам и тарелочкам, добиваясь ритма, – и добивается! Иванова почему-то не одобрил.
Вася по кличке Вася. Тоже милый и тоже печальный, но Гусь агрессивно печальный, а Вася печальный ненавязчиво. Одобрил Иванова, потому что мне, миляга, хотел угодить. Ах, Вася.
Кен, он же Кенарь (реже), он же Кенарский Александр Василич, лидер наш, тоже милый, тоже печальный, но не по природе, а по убеждению. Буддист. Вранье, конечно. Истерически хочет славы, известности – и чтоб бабы, бабы, бабы. То есть девушки. Волосы по месяцу не моет. К Иванову отнесся философски, то есть не поймешь как.
Злая я, наверно.
Иванов долго ломался, бледнел и краснел, но согласился попеть свои песни. Милые и печальные Гусь-Хрустальный и Вася пришли в восторг – Гусь в восторг буйный, а Вася в восторг нежный. Кен же сказал: вообще-то ничего. Можно даже попробовать аранжировать, чтобы музыка была приличная.
Для него музыка – это звук. Кто понимает – понимает, кто не понимает – долго объяснять. Короче: мелодия еще не музыка, а музыка – когда звук.
Иванов загорелся.
И мы начали работать. Кен любит это слово – работать. Серьезное слово. И название у нашей команды серьезное – «Пятый угол». Глубокое. Философское.
Царство четырех углов, кто весел – тот здоров,
отыскал себя, собой укутал,
и хватало всем местов, но средь чужих пиров
я искал упорно пятый угол.
И все навалом,
но с интервалом —
длиною в угол.
Слова народные, то есть мои, музыка народная, то есть Кена. Гимн группы. Визитная карточка. Ну, как у старого «Наутилуса» – «Разлука».
Мы сделали с десяток песен Иванова.
Мы решили показать их народу.
У нас есть своя публика, и милый Вася опасался, что люди, привыкшие к стилю «Пятого угла», ивановских песен не примут.
Опасался, конечно, и Кен.
Лишь почему-то Гусь уверен был в полной победе. От полного неприятия Иванова он пришел к полному обожанию.
Тем не менее мы отыграли почти час, прежде чем решились вывести Иванова вперед, показывая этим, что начинается как бы второе отделение, до этого пел, как обычно, Кен, ну, и я две штуки. Иванов ужасно волновался. Да и звук был так себе. Народ среагировал просто и незатейливо – начал хлопать в ладошки, вежливо прося кончить эту самодеятельность. Песня же длинная была, Иванов держал характер, пел, народ, возмущенный его непонятливостью, от аплодисментов перешел к ору и стучанию ногами, к свисту и бросанию на сцену мелких предметов. Иванов резко ударил по струнам, подозвал Кена, что-то ему сказал. Кен пожал плечами и махнул нам рукой, чтоб мы очистили сцену.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?