Текст книги "Ксю"
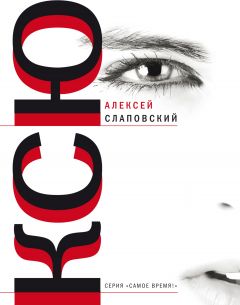
Автор книги: Алексей Слаповский
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Противостояние WADA и РУСАДА я увидела как битву в огромном офисе, где стоят ряды редутов, приткнутых друг к другу столов. Две группы бойцов маневрируют, бросают из-за укрытий скомканные листы, эти комки взрываются, как гранаты, враги кричат друг другу: «Сдавайтесь!» – «Сами сдавайтесь!» – «Вы неправы!» – «А вы дураки!»
Трамп торчал на трибуне, ярко-рыжий, в синем костюме, белой рубашке и красном галстуке, он убежденно и напористо что-то говорил, говорил, говорил, и я все понимала, но чем весомее были его аргументы, тем меньше хотелось с ним соглашаться.
И было страшное окно с жертвами в ЛНР. Их несли на носилках, обгоревших, и живых, и мертвых, очень много. Выносили откуда-то из подвала или подземелья. И я ходила там и кричала: «Толя! Толя, ты здесь?» Почему Толя, я ведь даже не люблю это имя? И среди знакомых нет никакого Толи, не ходовое это сейчас имя. Не знаю. Я кричу, кричу, и вот кто-то отзывается: «Я здесь!» Подхожу, вижу – не мой. И продолжаю искать.
Возможно, эта картинка была связана с тем, что я в это время видела наяву, в третьем окне. За соседним столиком сидели юноша и девушка. Девушка со светлыми волосами и светлыми глазами, вся такая мягкая, ей очень шло, что она ложечкой ела тоже что-то мягкое, то есть не что-то, я помню точно, она ела подтаявшее мороженое. Брала по чуть-чуть, на кончике ложечки, замыкала губами эту крошечную сладкую лужицу, вбирала в себя, вынимала ложечку и опять брала ее в рот (сейчас убью кого-то, кто выкрикнул эту пакость! пусть даже мысленно!), да, она опять брала в рот эту ложечку и опять вынимала, и так несколько раз, она очищала ложечку до блеска, чтобы подцепить новую лужицу мороженого абсолютно чистой, сверкающей ложечкой. А юноша ничего не ел и не пил, он теребил пальцами телефон, переворачивая его с боку на бок, он был серьезен и озабочен, он говорил:
– На «Ленинском проспекте» еще есть вариант. Недалеко от метро.
– Не люблю я тот район.
– Давно там была?
– Ни разу. Заочно не люблю.
– Хорошо, есть ближе, на «Выборгской», но дороже и на маршрутке надо ехать.
– «Выборгская» – мне нравится.
– И маршрутка? От «Ленинского» пешком три минуты всего.
– А еще какие варианты?
– Тебе же «Выборгская» нравится.
– А тебе нет.
– Я так не сказал. Я только объясняю: дороже и маршрутка.
– Тебе тоже нравится?
– Главное, что тебе.
– Да почти все равно, если честно.
– Тогда почему не «Ленинский проспект»?
– Потому что Ленинский.
– Издеваешься?
Я понимала: нет, девушка не издевается. Она очень любит юношу, ей хорошо с ним, ей приятно с ним говорить – все равно о чем, и чем дольше, тем лучше. Юноша тоже любит девушку, но на время забыл об этом, он почувствовал себя мужчиной, будущим главой семьи, ответственным, рассудительным и здравым.
Я смотрела и завидовала. Вот бы тоже сидеть так с кем-то и обсуждать что-нибудь, и любить друга друга. У меня этого не было. Вы скажете: еще бы, если с тобой повсюду персональный шофер и телохранитель, какие тут личные отношения! Ну во-первых, не всегда Петр Петрович был рядом, во-вторых…
Во-вторых – сложнее. И одновременно проще. Я не влюблялась еще ни в кого. В Ясу была влюблена – как в подругу. Или как в сестру, которой нет. И Мишу Зборовича любила по-братски, он это ценил, но хотел большего. Наверное, я не очень нормальная была, потому что меня не сильно тревожили вопросы секса, в отличие от вас, несчастных.
Правда, у некоторых от природы, от темперамента. Яса признавалась мне, что с двенадцати лет мечтала о том, как станет наконец женщиной. Едва в ней произошли возрастные изменения, начала искать возможности. И в пятнадцать лет нашла.
– И поняла, что это мое, – рассказывала она мне. – Кто что в жизни находит, кто-то деньги, кто-то алкоголь, кто-то работу. А я это нашла. Подалась бы в порноактрисы, но родители убьют. Да еще болезней боюсь, приходится себя сдерживать.
– У тебя же сейчас есть кто-то.
– Двое, и третьего наметила. Но я ни с кем не хочу жить. А иногда так накатывает, что хоть на улицу беги и отдавайся первому встречному.
– Тебе лечиться надо.
– Скорей всего, – признавала Яса. – Но не хочу.
Вот такая она, так ей то ли повезло, то ли не повезло, а я с детства думала о другом. Выйти замуж, родить детей. Жить с интересным человеком. Делиться с ним мыслями. Заботы иметь общие. Короче, обычная, нормальная человеческая жизнь. В которой, конечно, много ненормального, но это ненормальное в пределах общей нормы.
Еще в одном окне был у меня папа. Он виделся почему-то персонажем какого-то фильма – сидит в подвале, связанный, окровавленный, ему что-то кричат, требуют в чем-то признаться, а он поднимает голову, усмехается и посылает всех матом – так, как никогда в жизни никого не посылал. И вообще не ругался. По крайней мере, я не слышала. Глядеть на это окно было больно, но закрыть я его не могла, пыталась отвлечься на другие.
В пятом, реальном окне, была казашка-официантка, которая приняла заказ, записала в блокнот и отошла, но я заметила, как она оглянулась, а потом что-то сказала бармену за стойкой, и они оба глядели на меня. Узнали? Откуда, как? Может, узнали и другие, все украдкой на меня посматривают. И обсуждают. И посмеиваются.
И еще одно воображаемое окно было у меня. С Сулягиным.
Когда мне было тринадцать, папа меня ему представил. В кинотеатре это было, на премьере очень патриотического фильма, куда съехался весь политический и экономический бомонд, чтобы все видели, как близка этому самому бомонду тема патриотизма. Сулягин тоже там был, вот папа и решил мною похвастаться.
– А это моя Ксения, Вячеслав Германович. У вас ведь тоже дочь такого возраста?
Сулягин что-то пробормотал. Вроде того, что дети – это счастье, пускай есть и проблемы. Но проблемы решаются, а счастье остается.
– Чем-то увлекаешься? – спросил он меня.
Вечная забота отцов – понять, чем увлекаются дети, и на этом основании построить их будущее.
Я хотела ответить честно, что пока ничем не увлекаюсь, кроме учебы и собственно жизни, которая мне нравится, но по лицу папы поняла, что лучше ублажить Сулягина чем-то конкретным.
– Рисую, Вячеслав Германович, – призналась я.
– Правда? И моя рисует. Станете художницами, тоже дело. И можешь Славой называть. Или дядей Славой, если старым кажусь. (Папа приподнял руки и развел их: ну, вы скажете, какая старость, вы потрясающе молодо выглядите!) Вячеслав Германович – трудно выговаривать.
– Я сумею, – сказала я с хвастливым достоинством, которое выглядело почти детским, но я – ради папы – начала подавать, я угадала, что Сулягину нравится детскость в девушках, вот и изобразила эту детскость. – У меня хорошо развитый артикулярный аппарат, мама тренировала. Корабли лавировали, лавировали, да не вылавировали, Вячеслав Германович. Видите – легко. Но можно и дядя Слава, если вам приятно.
– Мне очень приятно. Как там? Корабли лавировали, лавировали, да не вырола… Черт, не так легко!
И он оскалился в улыбке. Щеки при этом испещрились морщинами, глаза сузились, как у азиата, коренные зубы обнажились, они были белее остальных, характерного мертвенного белого цвета, не свои зубы, протезы. Такую улыбку ночью представишь – до смерти напугаешься.
И они с папой пошли впереди, благодушно посмеиваясь над детской непосредственностью, а я, так удачно им подыгравшая, смирно шла за ними и бескорыстно радовалась, что доставила удовольствие папе и его знакомому.
С тех пор мы близко не общались, на наши семейные торжества он приезжал позже всех и уезжал раньше всех, а я держалась в сторонке. Это я к тому, что вряд ли он держал меня в памяти и узнал бы при встрече.
И вот я вижу, что он, как и папа, сидит в подвале, связанный…
Но картинка тут же изменилась. Нет, он не в подвале, а на улице, подъезжает в лимузине, ему открывают дверцу, он выходит, идет к какому-то зданию, почему-то по красной дорожке, как звезда экрана, и тут подскакиваю я, и…
Нет, это в каком-то зале. Кремлевский дворец или что-то в этом роде. Его чествуют, он на сцене. Кланяется. Ему несут букеты. И тут подхожу я. И с размаху даю ему пощечину и кричу… Нет, не кричу, говорю – громко, четко и презрительно:
– Предатель!
И тут же новая картинка: он стоит передо мной на коленях, весь в слезах, и признается в любви, а я говорю ему, чья я дочь, и…
На этом обрывалось.
Полная чушь, согласна.
Но в результате этой чуши у меня возник новый план. Влюбить в себя этого гада, а потом… Потом будет видно. Как влюбить, тоже обдумаю потом.
Петр Петрович меж тем повествовал:
– Ты, наверно, сама уже догадываешься, что большинство людей – дебилы. Что такое дебил? Это не обязательно полный дурак. Это человек, в моем понимании, который уперся рогом во что-то, и больше ничего не видит. Когда у меня в организме наши кое-что неприятное, дело пошло к увольнению. Работа связана с физическими нагрузками, с нервами. Но руководство меня ценило. Говорят: давай, Оноприенко, мы тебя в другой отдел переведем. Там интеллектуальная, так сказать, сфера, дело легкое, одни разговоры. Конечно, в материальном смысле ничего такого не светит, но подлечишься, вернем тебя обратно, наверстаешь. И посылают меня в Самару. Оттуда одна девочка письмо прислала. Была встреча с президентом, прямая линия, и там это письмо прочитали. Про то, что девочка просит маме, которая одинокая, зарплату поднять. Ясно, что письмо заранее отобрали, советовались, показывали президенту. И если он разрешил его прочитать, значит, проблему видит и хочет отреагировать. Он отреагировал, сказал, что да, надо думать о защите родителей, которые воспитывают детей в одиночку. И все хорошо, но потом оказалось, что кто-то на маму этой девочки наехал, что в школе на нее тоже репрессии пошли, и коллеги наши нехорошо оживились, ну мне и сказали – езжай и вправь кому надо мозги, а то будет ненужный резонанс. Приезжаю, узнаю – в самом деле, и директриса школы девочку при всех отругала, не твое дело лезть в политику, учиться надо, и маму ее чуть не уволил начальник, она там при районной администрации на мелкой должности была. И занимается этим шустрый парнишка из местных, Коля Пантин. Этот Коля и оказался классическим дебилом. Говорит: я одному специалисту показывал письмо, лингвисту, он сказал, что в одиннадцать лет такие письма не пишут. А у нас, говорит, давно зреет организация, и называется она СС, Свободная Самара. И бумажки показывает, какую-то переписку из интернета.
– Чепуха какая-то.
– Я же говорю: дебилы. Докладываю наверх, но Коля при сем присутствует и начинает кормить их тоже этим бредом про СС и убеждает, что за девочкой тайная организация стоит. А наши ведь как думают: вдруг правда? Раскроем заговор террористов, огромный плюс. Дали мне указание порыться, поговорить с девочкой. Пришлось поговорить. Она призналась, что ей учительница русского языка помогала, ошибки исправляла и по стилистике подработала. Я вижу – узелок завязывается. Причем узелок явно фальшивый, не пахнет тут никакой тайной организацией, но косвенные какие-то признаки… А руководство Колю поддерживает, он аж сияет, настроен все раскрутить до конца. Думаю: нет, это без меня. Позвонил, сказал, что обострение, боюсь тут в больницу свалиться, разрешили вернуться, кого-то другого послали. Через неделю читаю – девочка эта с крыши прыгнула. И насмерть.
– Я читала об этом.
– Все читали, звон пошел такой, что… И я вроде ни при чем, но как-то неприятно.
– И после этого уволились?
– Не сразу. Два года на бумажках сидел, чтобы оптимальная выслуга была для пенсии. А потом да, распрощался. А Колю в Москву взяли, хотя никаких СС он не раскрыл, развалилось все. Но видят – парень старательный, бойкий, преданный делу.
– Какому?
– Общему. Нет, лично я считаю, что таких гнать надо поганой метлой. Исполнительный дебил хуже атомной бомбы.
– Петр Петрович, а нами разве не дебилы правят?
– Ксения, нехорошо так говорить.
– Я же только вам.
– И мне нехорошо. Я, прости, патриот своей страны. И когда оскорбляют руководство моего государства… Я этого не люблю.
Петр Петрович сказал это очень веско. И так твердо после этого сомкнул губы, так взбугрились у него мышцы скул, такой взгляд сделался, что я подумала: этому дяденьке и я бы тут же рассказала и про учительницу, и про все на свете. Она же именно ему рассказала, а не настойчивому и наглому Толе. От такого взгляда не только все скажешь, но и в туалет захочется, и хорошо, если успеешь добежать.
Расстались мы с Петром Петровичем грустно и задушевно, обнялись у вагона, как родственники, а вагоне я вдруг подумала: хорошо, что я никогда его больше не увижу.
5
Поезд тронулся.
В вагон вошел молодой человек, который показался мне знакомым.
Вспомнила – он был в «Шоколаднице». Сидел в углу, пил чай, уткнувшись в телефон. Посматривал на меня, но почему бы и нет, почему бы и не посматривать на красивую девушку?
Молодой человек рассеянно оглядел вагон, а потом прогулочно, не спеша, прошелся и как бы не нарочно сел рядом со мной, хотя свободных мест было вполне достаточно. Я повернулась к нему, чтобы сказать об этом. Успела заметить, что он плохо побрит, что волосы цвета прелых мокрых листьев не мыты и давно не стрижены, одежда серенькая, мятая, но кроссовки новые, фирменные, красные с белой подошвой. Большим трудом добывается хлеб насущный, раз в год удается разжиться какой-то обновкой.
Молодой человек торопливо проговорил:
– Стас Кудрявцев, «Невская волна». Пять минут, и я исчезну. Другие про вас наврут, напридумывают, а я – только с ваших слов, только правду.
– Нет, до свидания.
– Я от Фучика за вами ехал, потом сидел, ждал…
– Я видела.
– Мог бы подойти там, но терпел, уважаю личное пространство.
– Вот и уважайте дальше.
– Я уважаю. У меня тема возникла. Все осуждают людей, которые… Разное бывает, кто-то виноват, а кто-то под раздачу попал, и даже не в этом дело, мы как-то забываем, что они живые люди в обычной жизни, у них родители, жены, дети. Что они чувствуют, как все это переживают? Никому не интересно, а зря. Понимаете?
– Я проводников позову. Или полицию.
– Зря вы так. Может, то, что я напишу, повлияет на мнение. В положительную сторону. Даже на суде учтут. Человеческий фактор, понимаете?
– Вам сколько лет?
– А что?
– Трудный вопрос?
– Тридцать два.
– Смените профессию, пока не поздно.
– Профессия – это судьба. Думаете, мне приятно копаться во всякой грязи? Долг! И часто с риском для здоровья и жизни. И никакой выгоды, я даже билет на поезд купил на свои деньги, и редакция вряд ли возместит.
– Могу я возместить.
– Ксень, – он вдруг переключился на интонацию ближайшего моего друга, – я же вижу, ты переживаешь, тебе плохо. И я на твоей стороне. Мне кажется, отца твоего в жертву принесли. И не особо скрываются. Они понимают, что все всё понимают, но такое ощущение, что именно хотят, чтобы поняли.
Я встала.
– Дай пройти.
– Конечно.
Он повернулся коленями в проход. Я протиснулась и перешла на свободное место. Через минуту услышала над собой голос:
– Хорошо, Ксюш, тогда такой простой вопрос…
Он стоял сзади, за спинкой, нависнув над моим затылком.
Послать его матом? Ударить? Но, может, он этого и ждет? Да и не умею я этого – ни матом послать, ни ударить.
Мне повезло, в вагон вошел полицейский наряд. Двое, он и она. Он был худой, длинный, щеки впалые, нос большой, загнутый, но выражение лица приятное, располагающее. Наверное, рассказывал своей спутнице, очень симпатичной девушке, что-то веселое. Так они и вошли, с остаточными улыбками, и даже жаль было нарушать эту идиллию, но пришлось.
– Пожалуйста, – сказала я, – помогите избавиться от этого пьяного типа, он ко мне пристает!
Стас завопил скандально и гнусаво, став похожим на бомжа, которого гонят с насиженного или належанного места.
– Не пьяный и не пристаю, а исполняю журналистский долг!
Возле моей головы моталась красная книжечка удостоверения, зажатая пальцами костлявой руки. У меня было настолько обостренное восприятие всего в этот день, да и во все последующие, что я разглядела шрам на запястье, похожий на единственную вскопанную грядку среди невозделанного огорода. Не совсем невозделанного, росло несколько волосков.
Я успела подумать, что у меня тоже есть шрам на запястье, и тоже на правой руке. Упала во дворе нашей подмосковной усадьбы в декоративную канаву, а там была щебенка с острыми краями. Вся кисть сразу стала красной, кровь дождиком закапала на землю, мне было и больно, и любопытно, хотелось и завопить, чтобы прибежали папа или мама, и посмотреть, сколько еще крови натечет и как она будет капать. И я терпела, смотрела, но потом все-таки завопила. Может, и он так же падал ребенком и тоже удивлялся, сколько из него течет крови. Мы с ним сестра и брат по шраму.
И руку папы я успела вспомнить, у него темные и густые волоски были даже на пальцах. Я, когда была совсем маленькая, брала ее и говорила:
– Какая мохнатая. Медвежья лапа. Боюсь.
– Я медведь добрый, – говорил папа. – Знаешь, откуда слово «медведь»? Оно значит – едящий мед.
– Ведающий, – не соглашалась мама. – Мед ведь, ведающий, где мед.
– Ведающий и едящий, ни мне, ни тебе.
Все это я успела вспомнить за секунду или меньше.
Зря Стас тряс удостоверением. У правоохранителей к журналистам классовая ненависть. Полицейский юноша к тому же получил возможность показать полицейской девушке, что он не только остроумен, но и деловит и грамотен в вопросах права. Он взял удостоверение, сунул его, не заглянув, в карман и сказал:
– Законом охраняется частная жизнь, ясно?
– Это не частная жизнь, читали про замминистра Кухварева? Поймали на взятке, коррупционер, а это его дочь! – гнусно блажил Стас. – И общество должно знать подробности! Имеет право!
Видимо, он рассчитывал на то, что представители силовых органов, которым нравится, когда кто-то коррумпированнее и гаже, чем эти самые органы, возьмут его сторону, обеспечат прикрытие. И опять ошибся.
– Пройдемте, – сказала девушка.
Хорошо прозвучало – непреклонно, но без угрозы. Она показала пассажирам, что строга, но справедлива, а полицейскому юноше – что тверда, когда надо, но может и смягчиться, если кто окажется этого достоин.
– Куда? С какой стати? Я законно еду, по билету!
– В другой вагон, – объяснил юноша, этим давая знать девушке, что понял ее замысел и вообще хорошо умеет чувствовать женские намерения и в совместном будущем, если оно станет явью, будет предугадывать все желания и исполнять их.
Может быть, девушка так и хотела поступить – отвести назойливого журналюгу в другой вагон. Но вдруг напарник вообразит, что ее слишком легко прочесть и разгадать? Следует намекнуть ему, что она не так проста, как кажется, и что в жизни не бывает легких решений.
– А вдруг он потом вернется? – спросила она. – Не с собой же его водить.
– Ладно, ссадим, – легко согласился юноша. Словно говоря: я в мелочах женскому полу уступаю без спора.
– Где? – спросила полицейская красавица с некоторой досадой, сожалея, что юноша так быстро сдался. – Бологое через два часа с лишним.
Пришла пора юноше показать способность к нестандартным решениям в сложных ситуациях.
– Вот что, девушка, – сказал он мне. – Запишите мой номер. Мы его сейчас выведем, а если вернется, тут же звоните. И будет совсем другой разговор.
Он продиктовал номер, я послушно записала. И рада была за полицейского юношу – в присутствии очаровательной напарницы он блеснул находчивостью, а заодно куртуазностью, обходительностью, учтивостью, навыком обращаться с красивыми гражданскими барышнями, и пусть напарница даже немного взревнует, ничего, это ему только в плюс.
И они вывели Стаса, который не рискнул оказывать сопротивление действиями, только продолжал что-то выкрикивать про свободу печати, обеспечение доступа к информации и недопустимость создания препятствий при осуществлении журналисткой деятельности.
Я осталась.
В вагоне было семь-восемь человек. Они не смотрели на меня, но им хотелось смотреть, и я чувствовала это желание, осязала его, в воздухе сгустился невидимый туман неутоленного любопытства, от которого стало трудно дышать.
И я перешла в другой вагон.
А Стас потом компенсировал расходы на билет и потраченное время, тиснул статью, где красочно описывал мои страдания из-за отца, цитировал наш диалог, которого не было, с гражданским гневом описал противоправные действия полицейских, которые заламывали ему руки, оскорбляя физически и морально.
6
В Москве был дождь.
Я попросила таксиста выключить радио и голосовой навигатор. Хотелось тишины. И в машине было тихо, двигатель работал почти бесшумно. Слышно было только, как колеса отлипают с плещущим грязным звуком от мокрого асфальта.
Я смотрела в окно, и мне стало вдруг обидно, что здесь ничего не изменилось. Все те же дома, те же машины. В домах окна, окна, окна, где-то уже виден бледный свет – на улице пасмурно, в комнатах из-за этого темновато. Зато люди, живущие там, спокойны и счастливы. Они смотрят телевизор, читают, ужинают, разговаривают друг с другом, у них никого не арестовали, не отдали под суд. И в машинах справа и слева едут такие же спокойные и счастливые люди. Вот широкоплечий человек за рулем огромного черного джипа говорит с кем-то по телефону – весомо говорит, массивно говорит, под стать автомобилю говорит. Вот молодой человек в грязном кроссовере с мятым крылом смотрит со скукой вперед, наверное целый день ездит, устал, надоело. И не понимает, насколько счастлив в своей беззаботной усталости. Вот солидный мужчина лет пятидесяти едет в смешной желтой машинке. Быть может, своя сломалась, а ехать надо, вот он и взял машину жены или дочери, ему слегка неловко, но он этого не показывает, он, как и владелец джипа, говорит по телефону, говорит горячо, сердито, что-то кому-то доказывает, и это помогает ему существовать в желтой машинке – если серьезный человек захвачен серьезным делом, то не все ли равно, на чем он передвигается? А вот девушке в «БМВ» представительского класса, конечно, не все равно. Она и сама представительского класса – блондинка с распущенными красивыми волосами, в красной кожаной куртке. Она понимает, что в своей матово-черной красавице (или красавце – все по-разному ощущают пол своей машины) выглядит очень эффектно, что на нее все смотрят. Но не замечает этого, великолепно одинока в плотном окружении машинолюдей, ее осанка, ее небрежно положенные на руль руки, ее чуть приподнятая голова словно говорят: да, для вас я дивно хороша, вы все хотите меня или хотите быть мной, а я – привыкла, для меня естественно быть сногсшибательной, мне не требуется ваше внимание, езжайте себе мимо. А вот скорая помощь проехала, без сирены, но с маячком. Значит, ничего особо срочного, больной или больная не умирают. Возможно, он или она впервые оказались в скорой и замечают, что, отвлекшись от боли, с любопытством рассматривают окружающее, гадая, для чего все эти приспособления. А вот девочка лет семи на заднем сиденье автомобиля бюджетного семейного типа. Наши машины поравнялись и остановились, девочка смотрит на меня упор, но смотрит странно, неподвижно, безо всякого выражения. Я догадываюсь, что она смотрит не на меня, а на стекло. Может быть, там пятнышки-пылинки расположились в виде созвездия. Или напоминают ей какую-то букву. Или какое-то животное. Вот девочка и смотрит, и ничего в ее любопытстве нет, кроме самого любопытства.
И все они не понимают, насколько счастливы. Вернее, не знают этого.
У нашего дома стояло несколько машин казенного вида, с темными стеклами. В открытых воротах торчал человек в черной нахлобучке с прорезью для глаз. Из нахлобучки, оттуда, где рот, послышалось:
– Вы кто, к кому?
– К себе. Я Ксения Кухварева.
– Здравствуйте.
– Здравствуйте. Могу пройти?
– Минутку. Тут дочь Кухварева, – сказал он по рации.
– Хорошо, пропусти, – ответил голос.
Я прошла.
Во дворе меня встретил еще один человек, тоже в нахлобучке, тоже с рацией в руке. Он довел меня до крыльца, там ждал третий человек. Его нахлобучка была не такая, как у предыдущих, с прорезью не только для глаз, но и для рта. Наверное, по работе приходится много говорить.
– Приветствую! – сказал он весело, и рот странно шевелился в неподвижной маске. – Заходите, будьте как дома!
Пошутил. Сам себя веселит, чтобы скрасить пакостность своей роли. Только вряд ли он считает ее пакостной.
– А вы, собственно, кто? – спросила я.
– А мы, собственно, вот! – он достал удостоверение, развернул.
Фотография в удостоверении напоминала картинку из теста на IQ – овал в прямоугольнике.
– Как я пойму, что это вы? У вас лицо закрыто.
– А вы по глазам, – продолжил шутить третий. – Глаза-то – похожи?
– Санкция у вас, конечно, есть? На обыск или что вы тут делаете?
– Обыск, изъятие документов и материальных ценностей. Да, есть, Ирина Константиновна интересовалась. И адвокат ваш. Вашего отца.
Ага, значит, приехал Михаил Жанович Дойнер, с которым отец работает и дружит уже лет двадцать. Это хорошо. Знакомый, близкий человек, должен благотворно подействовать на маму.
Михаил Жанович на всех благотворно действует. Слушаешь его и думаешь: есть же на свете человек, который ни в чем не сомневается! У него обо всем свое суждение, твердое и доказательное. Возражений не терпит, морщится и всем видом показывает, как его достало неумение понять очевидные вещи, насколько устал он от непроходимой человеческой глупости. Но мне всегда нравилась его готовность ввязаться в любой спор, причем пылко, яростно, горячо, как в битву не на жизнь, а на смерть.
– Я его иногда боюсь, – сказала однажды мама. – Он так нападает, что мне кажется, сейчас ударит. Будто я на что-то святое покусилась.
– Святое для Михаила Жановича – его правота, – ответил папа. – Всякий, кто с ним сразу же не согласится, становится богохульником и кощунником.
– Даже так? К себе как к богу относится? Поклоняется себе?
– Не себе, а своей религии.
– Он верующий?
– Верует в себя, в свою правоту. Он должен быть умней всех, правей всех, кто не согласен – берегись. Ох и били его в школе, наверно.
– Почему?
– Не любят там таких. Детки же за первенство всегда бьются. Как и взрослые. А Миша поражений, я думаю, не признавал никогда. И со всеми спорил. Типа – вы все дураки, ничего не понимаете. Ну и получал от дураков.
Трудно было представить, глядя на теперешнего Михаила Жановича, что кто-то мог его обижать и бить. Стройный в свои семьдесят, седовласый, всегда в костюме с жилетом, в сверкающих остроносых туфлях.
Они были в малой гостиной – мама и Михаил Жанович. Сидели в креслах и беседовали. Я вошла в сопровождении третьего, Михаил Жанович встал, он всегда встает при дамах любого возраста, социального положения, степени близости и родства. А мама осталась сидеть, сказала:
– Привет.
Сказала буднично, спокойно. И это правильно, меня не было только полтора дня, нет повода для бурных приветствий. Изображать беду и горе, слезы лить и обнимать бедную дочь несчастного отца – ни к чему. Пусть посторонние видят, что происшедшее не воспринимается как трагедия. Это недоразумение, которое скоро разрешится.
Михаил Жанович глянул на маму одобрительно, сел и уставился на третьего: дескать, будете тут торчать или уберетесь и позволите продолжить семейный разговор?
Третий слегка смутился, что невозможно было увидеть сквозь его нахлобучку, но это обозначено было его плечами, которыми он косо повернулся. И пошел обратно, чуть ли не прихрамывая. То ли от какой-то травмы, то ли от деликатности.
– Есть хочешь? – спросила мама.
– Немного, но не сейчас. Кофе выпью. Лида здесь?
Я посмотрела в сторону столовой и увидела Лиду, нашу подругу семьи, как называл ее папа, он не любил слов «горничная», «прислуга», «домработница». Кроме нее, у нас было еще полдюжины помощников – опять же мягкое папино слово, постоянных и приходящих, но Лида была главная. Одинокая сорокалетняя женщина, она жила на той стороне, с умницей-дочкой, про школьные успехи которой постоянно рассказывала. И была нам действительно подругой – доброй, аккуратной, незаметной, когда не нужна, и всегда рядом, если понадобится.
Лида стояла у стола, боком ко мне, что-то вытирала. Мое появление заметила, но осталась в том же положении, соблюдая собственное правило – не навязываться, пока не позовут.
– Здравствуй, Лида! – сказала я, и она тут же пошла в сторону гостиной, на ходу вытирая руки о полотенце, остановилась в арке двери, прислонилась плечом к косяку и опустила руки, держась за полотенце как за привычную вещь, которая всегда выручит. Смотрела на меня хоть и с улыбкой, но горестно, как на сироту.
Маме это не понравилось.
– Лида, хватит скорбеть, никто не умер!
– А чего, я ничего! Кушать будем?
– Позже. Кофе сварите Ксюше. И я еще выпью.
– Михал Жаныч, а вам?
– Нет, спасибо.
Лида пошла варить кофе.
Сверху послышался стук.
– Шерудят, – сказала мама. – Шмонают.
Недаром училась на актрису – знала из пьес много диковинных слов.
– Сами? – спросила я. – Никто за ними не смотрит?
– Все, что они возьмут, представят по описи, – сказал Михаил Жанович. – И там понятые, Жирновы. Бабка с дедкой.
Мама засмеялась:
– Так извинялись! Говорят, лучше мы, чем чужие люди. И разве, говорят, мы можем отказаться?
– Конечно могут, – хмыкнул Михаил Жанович. – Но побоялись. Вот время, все чего-то боятся. А казалось бы, им-то чего?
Жирновы, наши соседи, были все и впрямь очень толстые, что показалось бы неправдой, если придумать, а в жизни такие смешные совпадения случаются сплошь и рядом. Главный Жирнов, большой банковский деятель, был толст, его родители, которых он поселил с собой, были толстые, хотя дедушка уже начал немного подсыхать от старости и болезней, жена Жирнова была в ширину такая же, как в высоту, дети, мальчик и девочка десяти и двенадцати лет, были тоже толстыми, и лишь собачка у них была маленькая и худенькая. Наверное, для мотивации завели. Чтобы смотреть на нее и желать такой же худобы. Главный Жирнов, его жена и дети ни с кем не общались, жили здесь только два-три летних месяца, а потом уезжали в Москву. Круглый год жили только дедушка и бабушка. Наверное, им поместье сына казалось дачей, только с огромным участком и очень большим домом. Бабушка с весны надевала на себя соломенную шляпу, выцветшую розовую кофту, линялые треники, резиновые сапоги и шастала по участку с утра до вечера – сажала, поливала, пропалывала, собирала. А дедушка что-то пилил, строгал и приколачивал в мастерской, работал долго и тщательно, а потом они с бабушкой торжественно выносили скамью – массивную, парковой конструкции, с изогнутыми ножками, и ставили ее где-нибудь среди кустов и грядок. После этого дедушка несколько дней посиживал на ней с книгой, показывая этим, что скамейка была создана не для бесполезного украшения, а для дела. Я, когда была школьницей, наблюдала за этим с крыши, однажды взяла бинокль, захотелось узнать, что он читает. Оказалось – Г. К. Жуков, «Воспоминания и размышления».
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































