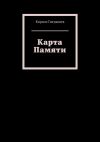Автор книги: Алейда Ассман
Жанр: Политика и политология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Если победитель и побежденный идентифицируют себя сами на основе взаимного участия в произошедшем событии, то для идентификации преступников и жертв необходима внешняя инстанция. Это означает, что к паре «преступник – жертва» следует добавить «фигуру третьего лица», оценивающего насильственное действие и осуществляющего распределение ролей. Фигура свидетеля имеет центральное значение для внешней оценки. Одновременно с повышением статуса жертвы за последние два-три десятилетия повышенную значимость приобрела и фигура свидетеля, поэтому данная фигура не может быть верно понята без обеих других. В дальнейшем мы подробно рассмотрим фигуру свидетеля, а также различные институты свидетельствования.
Четыре основных типа свидетельствования:
Свидетель перед судом. В зависимости от институционального контекста свидетельствование может иметь различные значения. Суд представляет собой публичную сцену, где диада «потерпевший/истец» и «преступник/обвиняемый», удваиваясь за счет прокурора и адвоката, превращается в триаду благодаря судье. В данном контексте свидетель (лат. «testis») – это очевидец, который видел и слышал происходившее на месте события. Его непосредственное чувственное восприятие события привносится как значимый фактор в процесс судоговорения, помогая судье установить истину и вынести приговор. Отсюда явствует, что свидетелю отводится в суде скорее вспомогательная роль, поддерживающая судебный процесс. Конституируемый таким образом, акт свидетельствования в суде содержит четыре важные предпосылки:
– беспристрастность свидетеля по отношению к потерпевшему и обвиняемому,
– непосредственное чувственное восприятие произошедшего на месте события,
– надежность памяти, запечатлевшей данное восприятие,
– скрепленное клятвой обязательство говорить правду.
Но и вне суда свидетелю отводится определенная роль, например, при заключении договора, правомерность которого он гарантирует в качестве третьей, нейтральной стороны. В такой ситуации свидетель оказывается именно третьей стороной, на что справедливо указывает французский лингвист Эмиль Бенвенист, разъясняя понятие «свидетель»: «В этимологическом отношении слово „testis“ обозначает того, кто в качестве третьего присутствует на трансакции, совершаемой двумя лицами»[100]100
Цит. по: Derrida, Self-Unsealing Poetic Text, 186.
[Закрыть]. В этом случае свидетеля не заслушивают; сам акт, при котором он присутствовал, является впоследствии предметом свидетельствования.
Исторический свидетель. Важным воплощением исторического свидетеля служит вестник, который в античной трагедии приносит известие об ужасном событии. Это он преодолевает дистанцию между местом свершившегося насилия или полем военного сражения и сценическим действием. Он связывает место катастрофы с далеким местом неосведомленного зрителя. Чтобы подтвердить достоверность известия, вестник произносит стереотипную формулу истинности: я ничего не прибавил, ничего не убавил и ничего не изменил[101]101
О формуле свидетеля см.: Assmann, Fiktion als Differenz.
[Закрыть]. Свидетельствование свидетеля является здесь не просто известием, но речевым актом удостоверенного, авторизованного высказывания. Если в юридическом контексте свидетель всего лишь включен в процесс установления истины, то в контексте (театральной) передачи известия происходит сообщение о ключевом событии в мире, где не было ни газет, ни репортеров, ни фотографий, ни каналов информации. Нередко свидетель, приносивший весть, оказывался единственным уцелевшим, выжившим (лат. «superstes»), кто мог поведать другим о катастрофе, причем статус выжившего и обязанность донести известие тесно переплетались друг с другом[102]102
Бенвенист поясняет слово «superstes» следующим образом: «Superstes описывает „свидетеля“ или как того, кто „пережил событие“, – свидетель как выживший, – или как того, кто смотрит со стороны на вещи, которые он пердает». Цит. по: Derrida, Self-Unsealing Poetic Text, 187.
[Закрыть].
Говоря обобщенно, историческим свидетелем можно именовать очевидца, который благодаря непосредственной близости к важному событию повествует потомкам об этом событии. Если свидетельство юридического свидетеля перед судом включается в систему доказательств, то свидетельство исторического свидетеля входит в реконструирующую работу историографии. Поскольку историография не может обойтись без исторического свидетеля, его статус остается спорным прежде всего для профессиональных историографов[103]103
Burke, Eyewitnessing. Аналогия между судьями и историками разработана Карло Гинзбургом. См.: Ginzburg, Der Richter und der Historiker.
[Закрыть].
Свидетель как непосредственный очевидец приобрел новое значение в рамках «устной историографии» (oral history). Это новое направление мировой исторической науки, возникшее в 1960-е годы как ответвление «новейшей истории», обогащает наше знание об исторических событиях за счет личных свидетельств очевидцев, вводя в историографию новое измерение «обыденной истории»[104]104
Niethammer, Lebenserfahrung und kollektives Gedächtnis.
[Закрыть]. Пережитое и рассказанное не может просто быть признано историческим источником. Поэтому историки разрабатывают критерии для оценки достоверности устных сообщений, различая свидетельства, «близкие по времени» и «удаленные по времени». Свидетельства о Холокосте, зафиксированные до 1946 года, оцениваются принципиально иначе, нежели свидетельства, записанные лишь спустя полвека после самих событий.
Религиозный свидетель. Если латинское слово «testis» отсылает к юридическому контексту, то греческое слово «martis», обозначающее свидетеля, отсылает к контексту религиозному. Мученик представляет собой уже не нейтрального или уцелевшего очевидца, а человека, включенного в диаду насилия; здесь роли жертвы и свидетеля объединяются. В отличие от пассивной жертвы, религиозный свидетель активно действует. Мученик – это жертва политического насилия, которому он подвергается физически, но над которым он одновременно одерживает символическую триумфальную победу. Он побеждает преследователей тем, что перекодирует «гибель от» в «гибель за». Послание, отправленное перед лицом гибели и самой гибелью, содержит свидетельство веры в более могущественного Бога. Слово «martyrion» первоначально обозначало «свидетельство очевидца о жертвенной смерти человека»[105]105
Quecke, Ich habe nichts hinzugefügt und nichts weggenommen.
[Закрыть]. Таким образом, мученичество («martyrion») определяется не только насильственной смертью, но и непременно рассказом об этой смерти. Рассказ отнимает у насильника определяющую власть над событием, трактуя мгновение крайнего бессилия и физической гибели как более могущественный акт свидетельствования, превращающего эту гибель в послание, выходящее за рамки физической смерти. Подобная радикальная инверсия политического бессилия в религиозное превосходство, травмы в триумф нуждается в двойном свидетельствовании: во-первых, в свидетельствовании гибнущего мученика и, во-вторых, во вторичном свидетеле этого мученичества. Поскольку мученик погибает со свидетельствованием веры на устах («святя имя Бога», как звучит еврейская формула мученической смерти – kiddush ha-shem), то этому акту не гарантирована на земле устойчивая и долговременная значимость. Поэтому мученическому свидетельствованию и необходим второй свидетель, который видит гибель мученика, признает его жертвой («sacrificium») и передает другим известие о своем свидетельстве. Такое свидетельство, трактующее политическое бессилие как религиозное превосходство, никак не может быть беспристрастным, ибо в чистом виде являет собой акт религиозного пиетета. Этим характеризуется отношение евангелистов, вторичных свидетелей, к мученической смерти Христа, и отношение католической церкви к убитым мученикам, которых она канонизирует как святых. Вторичный свидетель служит не просто эпифеноменом мученичества; ведь это именно он первым истолковывает смысл религиозного послания, записывает его и делает преданием, на котором зиждется община верующих.
Моральный свидетель. Под влиянием Холокоста сформировался еще один тип свидетеля: моральный свидетель[106]106
Felman, Laub, Testimony; Felman, Juridical Unconscious.
[Закрыть]. Ему присущи черты всех остальных свидетелей, но вместе с тем он принципиально отличается от них. Чтобы прояснить это отличие, необходимо хотя бы вкратце изложить «типологию свидетельствования». Морального свидетеля объединяет с религиозным свидетелем то, что моральный свидетель сочетает в себе роли жертвы и очевидца. Но в отличие от мученика он становится свидетелем, не погибнув, а выжив. В качестве выжившего («superstes») моральный свидетель имеет сходство не только с историческим, но и с пристрастным религиозным свидетелем, который свидетельствует за тех, кто не выжил, делаясь голосом умолкнувших навсегда и сохраняя в предании их имена. Благодаря его близости к гибели и самим погибшим его свидетельство не только обвиняет, но и оплакивает, поэтому оно включает в себя и молчание, то есть невозможность найти подходящие слова[107]107
Weigel, Zeugnis und Zeugenschaft.
[Закрыть].
Второе, не менее важное отличие от религиозного свидетеля заключается в том, что моральный свидетель удостоверяет не позитивное послание о силе всемогущего Бога, за которого можно отдать жизнь. В строгом контрасте с подобной сакрифицированной семантикой он свидетельствует о чудовищном преступлении, о злодеянии как таковом, изведанном на личном опыте. Его послание содержит негативное откровение, которое не может стать смыслообразующим и не может стать историей, на которой основываются сообщества. В этом отношении его свидетельство не дает коллективу «пригодных к использованию» воспоминаний.
Подобно религиозному свидетелю, моральный свидетель также нуждается в другом свидетеле, воспринимающем его послание. Без восприятия этого послания теряет смысл само выживание морального свидетеля, которое накладывает на него обязательство свидетельствовать.
Никто
не свидетельствует
о свидетеле, –
говорится в стихотворении «Пепельный ореол» Пауля Целана[108]108
Celan, Atemwende, 68. См.: Baer, Niemand zeugt für den Zeugen.
[Закрыть]. В 1967 году, когда был опубликован сборник, куда вошло это стихотворение, наметился поворот; постепенно начало собираться сообщество вторичных свидетелей, готовых воспринять послание выживших. В своем исследовании, посвященном триумфу и травме, Бернхард Гизен убедительно показал эту взаимосвязь между первичными и вторичными свидетелями, между травмированными жертвами и моральным сообществом в качестве третьей инстанции наряду с жертвами и преступниками. В момент гонений, унижений и гибели у травмированной жертвы нет лица, нет голоса, нет места, нет истории. Необходимо универсалистское сообщество вне диады «преступник – жертва», состоящее из непричастных третьих лиц, чтобы услышать свидетельство этих свидетелей и придать им статус жертвы[109]109
Giesen, Triumph and Trauma, 51. См. новеллу Гюнтера Грасса «Траектория краба», где понятие «свидетельство» используется по отношению к немцам как гражданским жертвам Второй мировой войны (глава 7).
[Закрыть]. Таким образом, «жертва» – это не естественная категория, она возникает только как социальный конструкт, формируемый моральным сообществом в публичном пространстве. Моральное сообщество, дистанцируясь на основе социально-гражданских ценностей от виктимизирующего насилия, охватывает в пределе все человечество, поскольку базируется на универсальных ценностях человеческого достоинства и уважения к физической неприкосновенности человека. Основой морального сообщества, имеющего инклюзивный универсалистский характер, служит безграничная арена публичного дискурса, в котором участвуют все эксклюзивные групповые формирования с их четкими границами идентичности. Конституируя моральный порядок и акцентируя значение вины и ответственности, этот дискурс задает определенные обобщенные предпосылки для системы права. Не конкурируя с системой права, универсалистский дискурс отвечает на масштабы и чудовищность преступления, которое лишь фрагментарно и не в полной мере может быть охвачено судебным преследованием[110]110
См.: Ibid., 65.
[Закрыть]. То, что начинается в зале суда, продолжается социальной и политической практикой общественного признания за стенами суда. За приговором следует вторичное свидетельствование общества в форме мемориальной культуры, которая проникнута солидарностью с жертвами, сочувствием к ним и сознанием исторической ответственности.
Израильский философ Авишай Маргалит посвятил важную главу своей книги «The Ethics of Memory» новому типу «морального свидетеля», особенно выделив три аспекта: воплощение свидетельства, конструирование моральной инстанции и миссию правды[111]111
Margalit, Ethics of Memory, 147–182.
[Закрыть]. Обратимся сначала к воплощению свидетельства. Маргалит четко отличает морального свидетеля от нейтрального и беспристрастного свидетеля, то есть того типа свидетеля, который выступает в суде или является вестником. Решающее значение для морального свидетеля, по мнению Маргалита, имеет совпадение в нем позиций жертвы и свидетеля: он на себе лично испытал то преступление, о котором свидетельствует. Беззащитный, он непосредственно подвергся насилию, оставившему следы на его теле и в его душе. Тело пережившего травму, подвергшегося истязаниям человека остается наглядной демонстрацией преступного насилия, оно само является «памятью» этого свидетеля, которую непросто отделить от него, как это может быть сделано с известием, принесенным вестником. Моральный свидетель не служит носителем послания – в данном случае носитель и есть само послание.
Прежний вопрос о правдивости свидетельства возвращается в виде вопроса об аутентичности. Правдивость морального свидетельства не может заверяться клятвой, как в случае с судебным свидетелем, или формулой достоверности, как в случае с вестником. Правдивость и авторитетность морального свидетельства заключаются в непосредственной причастности к Холокосту, в неотчуждаемом физическом испытании пережитого насилия. Тело морального свидетеля «несет на себе незримый водяной знак, проставленный в воображаемом паспорте самой историей»[112]112
Привожу цитату из Ульриха Байера (в некотором противоречии с ее смыслом): Baer, Niemand zeugt für den Zeugen, 16.
[Закрыть]. Поэтому воплощенная правдивость свидетеля в конечном счете даже важнее, нежели предельная точность его показаний. Моральные свидетели, пишет Джей Уинтер, «не являются специалистами по части удостоверения истины. Они могут предложить лишь субъективный взгляд на экстремальную ситуацию, пережитую ими»[113]113
Winter, Remembering War, 271; Arts of Remembrance, 13, 38.
[Закрыть]. Будучи воплощением травматического опыта, моральные свидетели в качестве жертв являются живым доказательством преступления, о котором они говорят.
Следующее различие между юридическим и моральным свидетелем состоит, по мнению Маргалита (и это совпадает с мыслью Бернхарда Гизена), в том, что свидетельство последнего о преступлении происходит не на судебном процессе, а на гораздо более широкой публичной арене – перед моральным сообществом. Разумеется, мораль не может заменить право, она дополняет право, отвечая этим на непомерность транскриминального преступления. Находя внимание к своему свидетельству вне суда, моральные свидетели перформативно конституируют моральное сообщество, которое само по себе не имеет конкретного облика и не является институцией. Возникновение морального сообщества происходит единственно в результате апелляции к нему. Лишь благодаря этим третьим лицам, непричастным адресатам, образуется та апелляционная инстанция, которая заслушивает историю жертвы, чтобы засвидетельствовать ее свидетельство.
Наряду с воплощением свидетельства и конституированием моральной инстанции Маргалит выделяет третий признак морального свидетеля – миссию правды. Миссия правды предполагает такую ситуацию, когда свидетельство травмированной жертвы оказывается неуслышанным, забытым, искаженным или приукрашенным. Миссия правды морального свидетеля непосредственно противостоит стремлению транскриминального преступника скрыть свое злодеяние. Одно прямо обуславливает другое. Характерными стратегиями преступника являются заметание следов, отрицание вины путем отрицания фактов и другие уловки. Идеальным преступлением можно считать такое, когда преступник не оставляет никаких следов, искусно скрывая само событие преступления. «Кто сегодня помнит об армянах?» – спрашивал Гитлер в 1930-е годы. Он хотел, чтобы не оставило следов и «окончательное решение еврейского вопроса»[114]114
Rupnow, Vernichten und Erinnern.
[Закрыть]. Забвение защищает преступника и ослабляет жертву, поэтому напоминание через свидетельствование становится этическим долгом и формой сопротивления, разворачивающегося постфактум. В этом главная задача «Truth and Reconciliation Commissions», которые после смены политического режима и гражданской войны восстанавливают историческую правду о событиях травматического насилия, проводя и юридическое расследование преступлений.
В случае с массовым уничтожением евреев, совершенным нацистами, устранение следов и забвение использовались не только после содеянного преступления, но были частью самого преступления. Подобная стратегия сокрытия и засекречивания позволяет косвенным образом предполагать, что преступник сознает противоправность деяния и свою вину. Здесь можно вновь вспомнить слова Гюнтера Андерса о том, что вытеснение преступления из сознания «зачастую происходит не после деяния, а во время этого деяния, даже до него, являясь необходимой предпосылкой содеянного»[115]115
Anders, Wir Eichmannsöhne, 79f.
[Закрыть]. Желанию преступника, чтобы злодеяние было забыто, зеркально-симметрично соответствует стремление жертвы к моральному свидетельствованию. Если преступник старается забыть содеянное, уничтожить его следы, то жертва готова посвятить себя сохранению следов, напоминанию о злодеянии, рассказу о нем. Миссия правды морального свидетеля направлена против стратегий забвения и отрицания: моральные свидетели, пишет Джей Уинтер, – это люди, «хранящие в себе чувство гнева, ужаса, фрустрации по отношению ко лжи, фальсификации, неверному истолкованию или приукрашиванию того ужасного прошлого, которое причинило им страдания»[116]116
Winter, Remembering War, 263 Соответствующим примером является судебный процесс Дэвида Ирвинга против Деборы Липстед, в котором миссия правда была включена в контекст исторического исследования.
[Закрыть]. Уинтер продемонстрировал на убедительных примерах, что травматизированная память уцелевших вынуждена преодолевать не только нежелание общества выслушать их, но и героические стереотипы этого общества. Хотя и эти люди не могут полностью избежать определенных конвенциональных элементов повествования, многие из моральных свидетелей отказываются от романтизированных и назидательных нарративов. Моральное свидетельство, по мнению Уинтера, определяется не в последнюю очередь критическим отношением к человеческой потребности в героизме, утешении и надежде, которая постоянно воспроизводится обществом для самозащиты от разлагающих сил зла и для смягчения невыносимого опыта до терпимого уровня.
Для ответа на вопрос «кто вспоминает?» мы рассмотрели фигуры победителя и побежденного, преступника и жертвы, а также свидетеля в их историческом контексте, с их психологическими диспозициями, политическими стратегиями и моральными проектами. Подобное рассмотрение основных понятий и топосов индивидуальной и коллективной памяти далее будет дополнено вопросом о специфических формах воспоминания и забвения. Травма, замалчивание, забвение и скорбь – те понятия, которые будут характеризовать различные формы памяти или ее блокировки.
ТравмаКогда сегодня все чаще слышится ставшая общим местом парадоксальная мысль, что по мере ухода ужасов Холокоста в прошлое мы внутренне не только удаляемся от них, но и переживаем их все острее, то это связано с динамикой ситуации, которую психологи именуют «посттравматической». Долговременность последствий является важным симптомом того, что именуется клиническим термином «травма». Что он подразумевает? Слово «травма» заимствовано из греческого языка, где оно означает «рана». В медицине этот термин используется уже давно. Новое и специфическое значение термина относится к психическим ранениям, которые, сопровождаясь загадочной симптоматикой, поставили медиков перед совершенно новыми проблемами. Психическая травма вызывается переживанием жизненно опасного, глубоко ранящего душу крайнего насилия, которое нарушает обычный защитный барьер восприятия и не может быть психологически освоено, преодолено в силу угрозы для целостности личной идентичности. Чтобы сохранить ее, срабатывает особый механизм психологической самозащиты, который психиатры называют «диссоциацией»[117]117
Понятие «диссоциации» восходит к Пьеру Жане, современнику Фрейда, который разработал альтернативную теорию вытеснения. Ср.: Leys, Trauma.
[Закрыть]. Имеется в виду бессознательная стратегия недопущения травмирующего события в сознание пациента. Само событие хотя и фиксируется, но одновременно прерывается его связь с воспринимающим сознанием. Это событие нельзя ни забыть, ни вспомнить, оно как бы инкапсулируется сознанием, то есть может долгое время пребывать в латентном состоянии, пока не даст знать о себе на языке симптомов. Воспоминание, не получившее доступ к сознанию, остается, так сказать, записанным на самом теле. Примером тому служат непроизвольный лицевой тик или же нарушения координации движений, что наблюдалось у травмированных солдат Первой мировой войны. Другим примером является синдром «multiple personality disorder», патологического раздвоения личности, которое констатируется у детей, ставших жертвой сексуального насилия.
Понятие травмы имеет сравнительно недавнюю историю. Хотя оно употреблялось психиатрами уже с конца XIX века, в официальных диагнозах оно появилось лишь с 1980 года, войдя в американский справочник по психиатрии, в чем проявилась своего рода политическая и социальная реакция на войну во Вьетнаме[118]118
Ibid.
[Закрыть]. Особенно в США это имело не только терапевтические, но и юридические последствия. Понимание того, что отдаленные последствия психической травмы могут непосредственно обуславливать нынешние нарушения здоровья, привели к отмене срока давности за некоторые уголовные преступления (например, за сексуальное насилие над детьми), что, в свою очередь, вызвало целый поток судебных исков (а также организованных адвокатских действий по защите от этих исков). Разумеется, военные травмы, сексуальное насилие и последствия Холокоста являются очень разными феноменами, однако их объединяет то, что во всех этих случаях жертве прошлого насилия, остающегося психологически не преодоленным, на долгое время грозит разрушение личности. Симптомы травмы проявляются порой лишь спустя долгие годы. Потенциал душевных расстройств, выражающихся в различных симптомах, может бессознательно передаваться от одного поколения к другому. Эту травматическую связь между поколениями можно прервать лишь тогда, когда удается перевести отщепленные и бессознательные элементы травмы в сознательные формы памяти[119]119
Kogan, Der stumme Schrei.
[Закрыть]. Поэтому терапия направлена на то, чтобы за счет артикуляции высвободить травму из ее непрозрачного ядра и сделать частью сознательной идентичности индивидуума. Но это нельзя осуществить в рамках одной лишь индивидуальной терапии, необходим общественный и политический контекст, точнее – мемориальная рамочная конструкция, внутри которой расщепленным и подавленным воспоминаниям уделяется эмпатическое внимание, в результате чего они обретают свое место в социальной памяти.
Устойчиво закрепившись в медицинском контексте, термин «травма» оказался связанным исключительно с позицией жертвы; то есть переживание физического насилия и психической угрозы стало неотъемлемым компонентом этого понятия. Переживая насилие, жертва страдает, ее пассивность переходит в страдательность[120]120
Бернхард Гизен считает существенным признаком травмированной жертвы разрушение субъектности и редукцию личности до объектного статуса. Хотя это определение вполне справедливо, оно представляется довольно расплывчатым. Когда Гизен пишет: «Странным образом система современного общества демонстрирует избирательно сродство с безличной деиндивидуализированной жертвой, с которой обращаются как с объектом» (Triumph and Trauma, 65), понятие травматизированного объекта используется применительно к анонимным феноменам модерна, в результате чего невозможно говорить ни о преступниках, ни о конкретных виновниках насилия. «Фордизм» и «тейлоризм», промышленные технологии, редуцирующие человека до специализированной рабочей силы, встроенной в большой производственный механизм, необходимо отличать от тех форм «биополитики», когда – как это было в концлагерях – человек оказывался душой и телом в полном подчинении тех, кто стоял у власти. Разумеется, это не отрицает того обстоятельства, что преступный нацистский режим извлекал выгоду из указанных модернистских структур, как это подчеркивали Ханна Арендт, Зигмунт Бауман и Джорджо Агамбен.
[Закрыть]. Важнейшими примерами, на которые опираются в ходе своей примерно вековой истории психотравматические исследования, являются железнодорожные катастрофы, «Shell Shock» («артиллерийский шок» или «окопный шок», пережитый солдатами, на глазах у которых взрывом разорвало товарищей; инвалиды, пострадавшие от подобного шока, стали массовым явлением Первой мировой войны), сексуальное насилие над детьми, политическое преследование, пытки и случаи геноцида. Фрейд не принимал участия в дискуссии психиатров, обсуждавших феномен «артиллерийского шока»; хотя семейная проблема детей, подвергшихся сексуальному насилию, и оказалась темой аналитических работ Фрейда, его «теория соблазнения», помещавшая событие исключительно в фантазию пациента, рассматривала проблему таким образом, что от нее не было прямого пути к современным психотравматическим исследованиям. Поэтому родоначальником этого нового научного направления следует считать не Фрейда, а таких ученых, как француз Пьер Жане или англичанин Уильям Риверс, которые заложили понятийные и эмпирические основы для современной концептуализации этой области медицины и методов лечения[121]121
См.: Bohleber, Entwicklung der Traumatheorie.
[Закрыть].
Травма преступника и травма жертвы. Есть еще одна причина, по которой Фрейд не может считаться основоположником современных исследований психотравматики. Она заключается в том, что Фрейд связывал травму преимущественно с преступниками. В своих психоисторических штудиях «Тотем и табу» или «Человек по имени Моисей и монотеистическая религия» он использовал понятие травмы только применительно к преступникам. Речь идет о травме отцеубийства в первобытной орде и о том, что этот акт был повторен при убийстве основателя религии Моисея. По Фрейду, началом культуры и религии служат муки совести, вызванные травмой, которая переживается преступниками. Это якобы ведет к вытеснению преступного деяния из коллективного сознания, что составляет скрытый подтекст библейской традиции, придавая ей до наших дней специфически принудительный характер. Кэти Карут также, очевидно, отталкивается от Фрейда при использовании понятия «травма» в своих культурологических исследованиях, точнее, от фрейдовской интерпретации эпизода из поэмы Торквато Тассо «Освобожденный Иерусалим». Карут выделяет специфические признаки травмы на примере фигуры Танкреда, который по ошибке убивает свою возлюбленную Клоринду. Впрочем, в данном случае вряд ли можно говорить о преступлении, поскольку убийство происходит не преднамеренно, а по недоразумению из-за трагического стечения обстоятельств[122]122
Caruth, Unclaimed Experience.
[Закрыть].
Хотя до сих пор довольно широко принято говорить как о травме преступника, так и о травме жертвы, я решительно предпочитаю использовать понятие травмы только применительно к специфическому опыту жертвы. В отличие от жертвы преступник не подвергается травматизации, ибо событие, за которое его привлекают к ответственности, было преднамеренным, спланированным и сознательно осуществленным, а в случае с преступлениями национал-социализма – еще и идеологически оправданным. Прибегая к экстремальному преступному насилию, субъект не сталкивается внезапно и совершенно неподготовленно со всемогуществом неких событий, которые несут угрозу его физической и личностной целостности и перед лицом которых он оказывается абсолютно беззащитным. Все это является предпосылками психической травмы, имеющими место только для жертвы. Если жертвы не могли сопротивляться попаданию в смертоносную машинерию Холокоста с ее эскалацией насилия, то преступник сталкивался с этими событиями отнюдь не неподготовленным. Отказавшись от своей индивидуальности, преступники становились членами определенного коллектива и брали на себя исполнение его идеологической миссии, причем сам коллектив обязывал своих членов осуществлять насилие и воспитывал в них бесчувственность. Поэтому здесь не может идти речь о травматизации – скорее об индоктринации. Отсутствие травмы, чувства вины и раскаяния свидетельствует о том, насколько глубокой может быть запрограммированность преступника, его специфическая подготовка и закалка и насколько трудно здесь говорить о нарушениях идентичности, которыми сопровождается психическая травма. Разумеется, травматический шок может присутствовать и в биографии преступника; в качестве примера можно взять, скажем, исторический момент, когда Гитлер, покончив с собой в берлинском бункере, бросил своих приверженцев на произвол судьбы, и они, передоверившие фюреру собственное «Я», внезапно почувствовали себя марионетками, у которых перерезали ниточки. Тем из них, кто не смог решиться на самоубийство, было совершенно непонятно, как жить дальше, о чем Адольф Эйхман написал следующее: «8 мая 1945 года я почувствовал, что мне предстоит трудная, самостоятельная жизнь, безо всяких руководящих авторитетов, ибо теперь было неоткуда получать какие-либо указания, никто не мог отдавать мне приказы или распоряжения, негде было взять необходимые инструкции, передо мной открывалась неведомая жизнь»[123]123
Цит. по: Wojak, Eichmanns Memoiren, 69f.
[Закрыть]. Если у нацистских преступников и существовала травма, то она заключалась во внезапной, шоковой конфронтации с личной ответственностью и совестью.
Для Бернхарда Гизена, который пользуется категорией «травма преступника», определяющим является именно этот поворот в сознании. Как считает Гизен, травма преступника обусловлена тем, что триумфальные фантазии о всемогуществе внезапно наталкиваются на свои пределы: «Преступник мнит себя стоящим над земным правом и способным вводить, по выражению Агамбена, чрезвычайное положение. Так, учреждаемая абсолютная субъектность становится травмой лишь тогда, когда эта субъектность сталкивается с реальностью, что было, например, в случае с Германией, когда она проиграла войну и фантазии всемогущественной народной общности оказались химерой. Возвращается прежний правопорядок или создается новый, совершенные деяния оцениваются им, и всемогущество осуждается как преступление. Если бы, как в случае с Анной О., чувство реальности не вернулось, не было бы и истерии; если бы нацистская Германия выиграла войну, преступники не осознали бы своего преступления»[124]124
Giesen, Schneider, Tätertrauma, 22. «Применительно к преступникам, то есть всем, кто добровольно, непосредственно и активно принимал участие в преследовании евреев, можно говорить о травме преступников в смысле внезапно нарушенного триумфализма и разочарования в иллюзии собственного всемогущества. Они оказываются всего лишь убийцами, разоблаченными или вынужденными скрываться», 22.
[Закрыть].
По Гизену, после 1945 года произошло резкое изменение рамочных условий для осмысления событий, их оценки и реакции на них, что и привело к возникновению травмы преступников. Но в чем она заключается? Конечно, не во внезапном пробуждении совести, но в драматично постыдном осознании абсолютной потери собственного лица. Шокирующая конфронтация с полярной системой ценностей и публичная огласка преступлений приводит, так сказать, к «травме стыда», сопровождающейся разрушением положительного представления индивидуума о самом себе[125]125
См. главу о стыде и вине в: Assmann, Frevert, Geschichtsvergessenheit – Geschichtsversessenheit, 86–96, 112–139.
[Закрыть]. Впрочем, этот решающий для травмы фактор положительного представления индивидуума о самом себе в данном случае не так легко обнаружить. Напротив, на Нюрнбергском трибунале или на судебных процессах во Франкфурте подсудимые реагировали на обвинения не столько душевным надломом, сколько демонстративной самоуверенностью и стереотипным отрицанием собственной виновности. Их общая стратегия в виде отрицания вины, отделения себя от произошедших событий, вытеснение этих событий из сознания через замалчивание описываются скорее понятием «табу», нежели понятием «травма»[126]126
Примером того, как объединяются понятия табу и травмы, может служить: Braembussche, Silence of Belgium.
[Закрыть].
При всей проблематичности понятия «травма преступника» нельзя не говорить о «травме вины», переходящей на последующие поколения, в которых проявляется различная реакция – от готовности принять на себя вину до ее отторжения. Немцам как нации пришлось разбираться с виной, которую высокомерно отрицали сами преступники; за преступления отцов и дедов берут на себя ответственность их дети и внуки. На это также обращает внимание Бернхард Гизен: «Транспоколенческая коллективная идентичность возникает в Германии из травмы зрителей, а не из травмы добровольных исполнителей преступления. Эти добровольные исполнители <…> постепенно вымирают, а вот вина зрителей становится решающим транспоколенческим, латентным и потому ответственным за идентичность элементом»[127]127
Giesen, Schneider, Tätertrauma, 23.
[Закрыть].
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?