Текст книги "Собаки Европы"
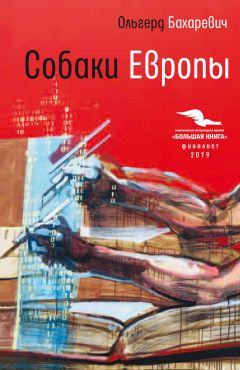
Автор книги: Альгерд Бахаревич
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 43 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Legoing klinkutima / Легче бумаги
Für Imre von Stukar
Akkou klinkuta
Deu natuzu
Tau
Tajnobalbutika da ujma sau onoje,
Skutoje dutributima da broje
Dinagramutima, sau neokuz nekau –
O bu tau kvaj legoje da samoje
Da u sprugutima tau bu pavuzu, mau
Komutko noje.
Klinkutima legoing,
Tau
ufjutima akkou.
Danuo kvaj da bif aluzu Neistuta.
Dukoju da rukoju tau stogou
Kalau tau bu legoje kvaj balbuta.
Da bu sprugutima skamuta tau okuzu,
Minutima o jaf bu tau takuzu:
Psautima grimuta da kraputa
Strilonatutima, sau
Bim primuzu tau.
Легче бумаги
Имре фон Штукару
Как та бумага,
На которой ты
Стихи строчить привык,
подсчитывать убытки
И в перерывах тайный свой дневник
Вести,
Однажды в неизбежность пустоты
Ты полетишь, не сняв с лица улыбки,
Приятель милый мой.
Пора туда уйти,
Бумаги легче,
Лёгким, как дыханье.
Как слово то, что написалось втайне
От всех, кто за спиной твоей стоял.
Завидую, ведь ты увидишь бездну,
И упадёшь, свободный, не спеша.
Ты верил только в то, что бесполезно,
В собачий лай
и в скрип карандаша.
II. Гуси, люди, лебеди
«Где-то в топи болот погребён остывающий гром…»
1.
Святой Покров накрыл землю жёлтым листом,
молодым снежком, воду льдом, пчелу мёдом.
Рыбу чешуёй, дерево корой, птицу пером, девку чепцом.
Стога покрыл, первый стожок драничками,
второй стожок полосками,
третий стожок белым снегом.
На Покров младшего Космача, их соседа, забирали в москали. По такому случаю поставили столы прямо в саду, благо день был погожий, а на столы выставили всё, что могли. А могли Космачи по самое не могу – ведь старый Космач был, как говорится, вытиран, поэтому полагались ему и зельице крамное, и сервелат, и грушевые карамельки, и мороженое. Вчера Космачи засмолили кого-то у себя во дворе, а кого конкретно, никто особо не разбирался – не такие здесь жили люди, чтобы на чужое рты разевать. Позвали – придём, а мимо идти сказали – тоже не осудим. Кому сейчас легко? А в лесу много разной живности бродит…
День и правда был погожий, солнечный, хотя иногда и налетал на накрытые столы первый ветерок, чужой, злой, как из пустого погреба. Ничего не скажешь, всех Космачи позвали, никого не забыли: в первую очередь, ясно дело, солтыса, а с ним и полицая, и поп тут сидел, и зам по идеологии, но с элитой этой и так все понятно, куда без них. Так они даже дурачка местного за стол посадили, Каковского. Тот сразу же напился – и когда только успел – да завел жалостливым голосом своё, неизменное:
«Людзи! Людзи! Изьвинице меня, люди, радные маи, но атвецьце: какой сичас год?»
С ним всегда так: сидит, улыбается, бабам ручки целует, кивает многозначительно, а потом будто наваждение на человека находит: вскидывается, словно только что проснулся, хватается за голову, что аж пальцы белеют, и обводит всех страшными глазами:
«Людзи! Людзи! Какой год на дварэ?»
Все от смеха аж кладутся, но ведь не от злого смеха, такого, что из гортани идёт, а от хорошего, такого, что из живота. Какой-год, какой-год – видать, поэтому и назвали его так: Каковский. Никто не знал, откуда тот Каковский взялся, полицай его однажды в лесу нашёл и отдал кому следует, а через два дня Каковского назад привезли и поселили в доме умершего Игната – так и живёт здесь у них Каковский уже, может, года три, а может, и пять. Жалеют у них Каковского: посмеются, посмеются, а потом уж вздыхают сочувственно и берутся беднягу успокаивать. Вот и сейчас за столом у Космачей насмеялись вволю, слишком уж убогий у Каковского был вид, как у пьяного, который Страшный суд проспал, – а после врачиха и говорит ему, вздохнув и глотнув ликера:
«Дзве тысячы сорок дзевяты, пан Каковский, дзве тысячы сорок дзевяты».
Это все знают, у каждого дома интернет есть и календарь на стене висит. Каковский стонет, пялит на всех глаза, кричит немым голосом и падает пятой точкой прямо в траву.
«Как жэ эта получылась? Ашыбка, ашыбка…» – бормочет он, обводя невидящими глазами этот их небольшой, неброский мир: дома, лица, усталые деревья, смоченное ваткой облаков небо, близкое, вытянутое в нитку перспективы, вдетое на концах в иголки длинных проволочных оград.
«А гдзе я, людзи? Гдзе я нахажусь?» – хрипит Каковский, хватая за руки того, кто ближе всех. Но его уже не слушают, насмеялись вдоволь, хватит уже, разве только зам по идеологии скажет задумчиво:
«Какой год, какой год… Нет чтобы месяц какой спросить. Или хотя бы день недели. Чудак человек…»
И все важно достают из карманов мобильные телефоны, кладут на стол: вот тебе и время, и день, и год, и даже сфотографироваться можно. Например, с младшим Космачом: тот сидит во главе стола, лысый, мрачный, на людей не смотрит, только на Любку, невесту свою, да так смотрит, будто сейчас съест.
«Ну что ты всё на неё смотрыш, – не выдерживает солтыс. – Дзевка шчас в гамбургер прэврацицца от стыда. Даждзёцца она тебя, даждзёцца – сам пасматры, ну каго тут ещё дажыдацца?»
И правда: кого?
Не его же, Молчуна. Молчуну ещё только пятнадцатый год пошёл. А кроме него в деревне только семеро мужчин остаётся: старый Космач, да староста, да солтыс, да поп, да Молчунов татка, да учитель, да пан Каковский. Все остальные – бабы, даже зам по идеологии.
Если честно, Молчун очень завидовал младшему Космачу. Хотя чему там завидовать: ума ни грамма, одни кулаки и любимое слово «насёр». Что ни скажи младшему Космачу, он на всё отвечает «А я с дуба насёр». Иногда Молчун задавал себе вопрос: как же Космач с Любкой разговаривает, когда они тискаются? Она ему: ой, Касмачык, какой же ты дууужы, какой ты харооошы, а он ей отвечает ласково: а я с дуба насёр. Как она его терпит? Как они вообще всё это терпят? Почему не воют от ужаса и клаустрофобии? В курятнике у Молчуна есть тайник, а там бумажки с рисунками, Молчун их там всех нарисовал, всех: солтыса – как вредного жука, попа – в виде старого чёрного шкафа, полицая – грибом сухим несъедобным изобразил, зам у него на гроб похожим получился, а меньший Космач – точь-в-точь как коровий блин вышел…
Космач заметил, что Молчун тайком рассматривает его, и нахмурился, сжал кулачищи. Неужели ревнует? Да нужна мне твоя Любка…
И правда, чему здесь завидовать? Но Молчун завидовал – жгуче, чуть ли не до слёз. Не потому, что у Любки с младшим Космачом такая любовь. А потому, что…
Ясно почему.
Завтра за Космачом приедет военная машина, запрыгнет Космач в кузов, махнув кедами, – и повезёт его та машина далеко-далеко, туда, куда никому из них нельзя. Космач увидит мир, а мир узнает, что есть такой Космач, и, каким бы тот Космач ни был, он будет занимать собой пространство, то тут, то там, в местах, которые Молчуну и не снились, и узнает Космач такие вещи, о которых Молчун даже не догадывается. А самое обидное, что Космач своими глазами увидит то, о чём им в школе рассказывают – но рассказывают как-то неохотно, словно сам учитель не очень верит в то, чему их учит. Будто это сказка такая про белого бычка: что есть где-то другие страны, да большие города, да высокие горы, да бескрайние степи. Конечно, в интернете кое-что почитать можно – но и там информации мало, так мало, что Молчуну только и остаётся, что додумывать, фантазировать и мечтать…
А додумывать он умеет.
Ну вот завидует он младшему Космачу. Хотя ясно, что Космачик этот туповатый, скорее всего, и не вернётся больше в их деревню. Это раньше ветераны возвращались – с медалями, с загаром боевым, в шинелях казённых, кто без руки, кто без ноги. А теперь кто в москали пошел – пиши пропало. Ни один ещё из старших ребят, отслужив, домой не вернулся. Можно только догадываться, что с ними стало там, за тысячу километров, – может, стрела татаро-монгольская сразила в стороне чужой, или женили на казачке какой чернобровой и на рубеже далёком оставили, чтобы стерёг Родину до последнего вздоха. И спросить некого – запрещено им на такие темы разговаривать.
Молчуну в москали ещё, конечно, рано идти. Да видно, и не возьмут его – отец у него однорукий, а мамы нет. Пошла как-то давно мама в лес и не вернулась. Что с ней стало – никто до сих пор не знает. Как мама пропала, так отец ходил к начальству, но и так было ясно, что никто маму искать не будет. Сама виновата, сказал староста с важным видом, лес у нас стратегический, а по стратегическому лесу ходить можно только до определённой границы, а дальше уж под свою ответственность. Эх, вышла мама, видать, за ту границу определённую, не заметила знаков – ну так кто ж её туда гнал. Никто.
«Сочувствую твоему горю, Молчан, но ничем помочь не могу, – говорил староста, пока жёнка его гусочку в курятник загоняла. – Думай, будешь сына один растить или к девушке какой посватаешься? Я бы второй вариант выбрал. Ну, и вообще: во всём надо искать свои плюсы и минусы. Жаль твою Надю, но зато на сынка твоего, Молчуна, насколько я понимаю, рекрутский набор теперь не распространяется. Имеешь право сейчас на открепление для сына, все понимают, отец инвалид, мать пропала, таких служить берут только в военное время, а наша русская Родина сейчас ни с кем военных оборонительных действий не ведёт. Так что хоть сын при тебе останется. Космачу-то не повезло, ещё пара лет – и аты-баты…»
Подлец тот староста, взятку у отца взял, отец ему целую гусочку белую занёс, чтобы тот разобрался, целую гусочку белую – и за что? За то, что отбрехался от них начальник. Ничем не помог. Молчуну тогда лет десять было, стоял он рядом с отцом во дворе солтысова дома, смотрел на хозяина и видел перед собой жука. Хитрого жадного жука, который всегда, чуть что, крылья раскроет – и вот он уже ни при чём. Про стратегический лес и про то, что под свою ответственность, они и так знали. И о том, что Молчуна в москали теперь могут и не взять. Об этом в интернете написано, там раздел такой есть, где все законы посмотреть можно. Правда, туда редко кто забирается, там сам чёрт ногу сломит, таким уж языком написано, как будто по-иностранному.
Разговор этот происходил лет пять назад – а теперь вот забирают младшего Космача в москали, а он, Молчун, остаётся и не знает, радоваться ему или от тоски помирать.
То обида накатит: пусть бы его забрали, пусть бы сказали, что жить ему, Молчуну, меньше года остаётся, – зато увидел бы он дальние края, и степи, и пустыни, и большие города. И может, над землёй бы пролетел на военном самолёте, одном из тех, что над ними иногда гудят, – самих этих птах железных не видно, только гул в небе такой, словно сейчас небосвод обрушится, – в такие моменты разыгрывается у Молчуна фантазия, да так, что аж сердце заходится в груди. Всё бы отдал, лишь бы на землю сверху посмотреть: и на отца, и на книжку любимую, и на серую свою любимую гусочку, и на деревню их маленькую, незаметную, но всё же родную…
То радость, душная, злая радость навалится: заберут Космача, перестанет он к Молчуну лезть и учить его уму-разуму, останется Молчун старшим в деревне из всей молодёжи, никто теперь его от мыслей и от книжек отвлекать не будет и подозрительно в глаза заглядывать: что ты там всё думаешь, а, Молчун, темная твоя душа, пойдём лучше на кулачках биться… Достал уже Космач со своими кулачками, мозгов ноль, одни ручищи, которыми он каждый раз Молчуна к земле припирает и вопит: «Победа! Опять я с дуба на тебя насёр, Молчунок! Малой ты ещё, куды тебе против Космачика!»
Сидя за столом возле отца, Молчун поглядывал на младшего Космача. Ну на что ему сдались те далёкие страны, куда ему те рубежи нашей необъятной русской Родины? Такой, как Космач, ничем, кроме своих кулаков, не интересуется. Да он ничего и не запомнит из того, что увидит, ничего не зацепит глазом и ничего не поймёт. Вот он, Молчун, к каждому столбу, к каждому лицу присматривался бы, каждое словечко ловил бы, в каждый голос вслушался бы до самого его нутра – и, может, получил бы ответы на все свои вопросы. А вопросы его давно мучили – с тех пор, как он читать научился.
«Предлагаю поднять бокалы за нашего новобранца, – сказал захмелевший уже староста. – Чтоб служил не на страх, а на совесть. Чтобы никому в наших Белых Росах за него стыдно не было, ни отцу дорогому, ни нам, его односельчанам».
Все одобрительно загалдели, налили, поднялись. Космач будто и не понимал, в чём дело – просто радовался, дурак, что все за него сегодня пьют, как за героя. Поднялся, проглотил магазинную водку, скулы заходили злобно и хищно, как у отца.
Белые Росы – так их деревня называлась на всех картах. Когда-то она другое название имела, но потом русская Родина воссоединилась и из губернии пришёл приказ на переименование, в духе патриотизма. Полицай Молчуну рассказывал, что по всей губернии тех Белых Рос – штук двадцать, и у их деревни свой код имеется: 13. А ещё в школе им учитель говорил, что сто лет назад фильм такой был популярный – «Белые Росы». Так освободителям фильм так понравился, что они много разных деревень в честь той кинокартины легендарной переименовали. Мол, так и должны деревни на западных рубежах называться. А как их тридцать домов раньше называли, никто уже и не помнил. То есть, может, и помнил, но говорить об этом неприлично стало. Недостойно русского человека. Так или иначе, Белые Росы – это было красиво, а некрасивые названия зачем в памяти держать? Так их в школе учили, и Молчун в принципе был не против. Белые так белые. Но чтобы кто-то всё же вспомнил старое название – тоже большой беды не было бы. Интересно же, как раньше в их деревне люди жили. О чём думали, о чём говорили, когда кого-нибудь в москали забирали или там, например, свадьбу гуляли. Что их волновало в те времена, когда ни интернета ещё не существовало, ни мобильной связи.
«Наверное, пошлют тебя, парень, на Южную границу, – сказал староста, но не к Космачу младшему обращаясь, а к мужикам да к заму по идеологии. – Я даже уверен, что на Южную».
«Почему же сразу на Южную?» – спросил плутоватый отец Космача, ловко разжёвывая золотыми зубами сало.
«Нет, на Южной сил у нас хватает, – заявил поп. – Видит бог, на Восточную отправят, там неспокойно: новости читали? И это хорошо, что на Восточную, там голодным не останешься, икру ложками есть будет твой Алёша, и с духовной пищей тоже всё в полном порядке, церковь наша православная там сильные позиции имеет. И удаль свою молодецкую будет где проявить».
И поп захихикал добродушно, накладывая себе горячих котлет, которые Космачиха только что торжественно выставила в середине стола.
«А я думаю, на Южную, – процедил солтыс, со всё большим интересом поглядывая на Любку. – Читали про инцындзент в Харбине? Надо показать дикарям, что мы не намерены терпеть их провокации. Ясно как дважды два – сейчас там концентрация войск пойдёт, чтоб кулак наш бронированный был виден, чтоб однозначно всё было, даже для этих, которые за океаном. Для пиндосов».
«На какую бы ни послали, мы все в тебя, Алёша, верим, – отпила свой мутный ликёрчик зам по идеологии. – Что не опозоришь честь Белых Рос. Мы все тобой гордимся. В какие бы передряги ты ни попал – не забывай, кто ты и откуда».
Младший Космач не слушал. Сейчас он только на полицая смотрел, так что кости у Космача хрустели, а шея напрягалась так, будто сейчас лопнет. Про Молчуна он уже и забыл. Боится, что завтра заберут его, а полицай к Любке клинья подбивать начнёт. Вот же пустота какая, подумал Молчун. Этого что забирай, что оставь – без разницы, ему б только пожрать, подраться да девок потискать. Ничего не интересно человеку.
Да и вправду, человек ли этот Космач? Иногда Молчуну казалось, что он живёт среди зверей, которые однажды вышли из леса, порычали друг на друга денёк-другой, но потом спохватились и решили, что лучше им притвориться, будто они люди. Чтобы в голодное время уцелеть. Вот мясо, которым стол заставлен, – чьё оно? Какого животного? Никто не спрашивает. Боятся. Никто не спрашивает, не знает и вопросы от себя подальше гонит. Как будто есть в этом застолье, и в этой деревне, и в этом времени, в котором угораздило жить Молчуна, какая-то страшная тайна. Он незаметно оглядел собравшихся за столом, и на душе его снова стало нехорошо. Как же отец этого не видит: что у зама по идеологии губы такие уж кровавые, словно она только что шею кому-то прокусила. Что у старшего Космача из-под гимнастёрки иглы торчат, а все делают вид, что это мужская шерсть. Что младший Космач на дуб похож, а староста на жука, а у полицая не лицо, а морда вытянутая, что у твоей собаки.
А женщины? Каждая на какое-то животное похожа, только успевай подмечать. Космачиха на кобылу, зам – та больше на зайчиху, и глаза такие красные… А вокруг целый лес собрался, принюхивается, глаза горят, нечеловеческие, зелёные, зубы стучат, запах дикий, жуткий: волчицы, кошки… и даже тараканихи…
Молчуна передёрнуло. Захотелось убежать из-за стола, спрятаться, забиться в нору и не вылезать, пока из леса охотники не выйдут и не перестреляют всю эту самонадеянную живность. Но тут отец, у которого кусок мяса на траву с вилки упал, глянул на Молчуна сердито, и такая боль была за этой злостью отцовской, что Молчуну стыдно стало. Подвинулся он ближе к отцу и стал за его вилкой следить – левой отец управлялся не хуже, чем правой, которая неизвестно каким собакам на корм пошла, но дрожала левая, дрожала, и надо было не мух ловить, а смотреть, чтобы отцовскую честь за столом ненароком не задело…
Только гусочки в Белых Росах такие, что с ними не страшно. Любит Молчун гусочек, глаза у них человеческие, а перья такие приятные, что чувствует Молчун с ними какое-то родство. Особенно с той, серой, которая его ждёт. Гусочки – не куры, куры глупые, а гусочка – благородное существо, с гусочкой никогда скучно не бывает…
Молчун взглянул на отца, протянул руку, поправил, чтобы кусок свежатины с вилки не свалился. В татке его тоже что-то неестественное было – лицо зеленоватое, словно чешуёй покрытое, будто отца из болота извлекли, высушили и за стол посадили. Совсем они с отцом не похожи. Как-то Космач даже намекал, говнюк, что отец Молчуна и не отец ему совсем, – такая драка была, что полицай их разнимать пришёл. Космач ему тогда зуб выбил, но и Молчун не остался в долгу: так в глаз Космачу звериный заехал, что у того слёзы полились. Стоял Космач тогда, рыдал и ничего с собой поделать не мог. Вот тебе и с дуба насёр. Победа…
«Люди! Люди! – залепетал вдруг пан Каковски, поднимаясь с травы. Проспался, видно. – Люди, родные мои, извините, но скажите мне: какой сейчас год?»
Младший Космач заржал.
«Опять за своё, – покачал головой солтыс. – Больной человек. И откуда он только взялся на наши головы?»
«Билядь, – выругался староста, и это была хорошая примета того, что он уже в кондиции. – Уберите его уже, праздник испортит».
«Да ладно, – отозвался поп. – Блаженный он. Никому вреда нет, а глядя на него, каждому есть над чем задуматься. Над проблемами бытия».
«Билядь», – повторил солтыс. Молчун знал, что тот служил на Южной границе. Оттуда и привёз это «билядь». Никто в Белых Росах так это слово не произносил. Так чурки ругаются, рассказал как-то отец. Не могут «бе» да «ля» связать, обязательно нужно им «и» вставить. Дикий народ. Такие зарежут и глазом не моргнут. Чтобы таких держать в повиновении, и шлют в пустыню со всех концов империи Космачей и других защитников Родины.
«А вот кто у нас сказать может, что за города на Южной границе? – весело спросил Космач-старший, чтобы переменить тему. – Давайте викторину проведём! Ну, кто? Ставлю стакан моего выдержанного!»
«Да куда им, – бросил полицай. – У всех интернет, а никто географией Родины не поинтересуется».
«А учитель на что? – сказала возмущённо зам по идеологии. – Что у нас, школы нет?»
Учитель, занятый свежиной, не сразу понял, чего от него хотят, а сообразив, вытер блестящие губы и на Молчуна показал чёрным ногтем:
«Вот он, лучший наш ученик, все города знает. Ну-ка, Молчун, давай, покажи, что не зря меньше всех по пальцам получаешь! Какие у нас города на Южной границе?»
Молчуну не хотелось рот раскрывать, но отец посмотрел на него с такой надеждой, что пришлось откашляться и пробурчать:
«Ну, Фрунзе. Ну, Кабул. Ну, Тегеран. Ну, Харбин. Ну, Пень-Яма. Ну…»
«Молодец! – восторженно сказала зам и подняла фужерчик с ликёром. – Отличная наука география, сразу представление даёт про необъятность Родины».
«Пень-Яма – это уже Восточная граница, – мрачно сказал полицай. – Так что промах вышел, Молчунок».
«Не может быть, – запротестовал учитель. – Молчун никогда не ошибается. Сейчас я посмотрю, сейчас проверю… Если ошибся – ой, Молчун, получишь ты завтра прута…»
Он полез в свой телефон, но, пока лазил, старый Космач снова выпить предложил, на этот раз за вооружённые силы и военно-морской флот, все с радостью ухнули и начали обсуждать, как зимовать будут.
«У меня так всё уже готово, – сказал старик Космач. – А кто, как та стрекоза, лето красное в пропеллер…»
И посмотрел выразительно на отца Молчуна.
«…то мы не виноваты, – улыбнулся Космач. – Но ведь мы здесь, в Белых Росах, один за всех и все за одного. Поэтому поможем, чем можем, а если не сможем, куда надо доложим».
И захохотал, как он умел. По-лесному, ужасно, как будто на дереве сидел, а не за столом.
«Прав Молчун! – радостно выкрикнул учитель. – Прав оказался! Восточная граница уже за Пень-Ямой начинается! А Пень-Яма – юх! Юх! Юх!»
И это «юх-юх» тоже прозвучало, будто какая-то свинья в телефоне поколупалась, а не учитель народной школы. Молчуну страшно стало, но он виду не подал, только усмехнулся криво.
«Ну что делать… – осклабился старый Космач и повернулся к его отцу. – Ставлю твоему парню стакан своей, выдержанной!»
«Спаивание несовершеннолетних», – равнодушно сказал солтыс и рыгнул.
«Вот же дилемма, – притворно опечалился Космач. – Ну тогда отцу ставлю, пусть сыном гордится. Географом нашим!»
«Кому в географы, а кому в солдаты, – серьёзно произнёс староста. – За рядового Космача, защитника Родины!»
Все выпили. Молчун видел, что сейчас начнутся песни. И правда. Завела, как всегда, зам по идеологии, староста подхватил, а тогда уже и другие затянули загадочные слова, которые в Белых Росах знали все, – и начало в песне было понятное, а дальше… дальше никто не мог объяснить, что значат странные названия, от которых так горько делалось на языке:
«Давай за нас, на-на-на-на-на-на,
Давай за газ, на-на-на-на-на-на,
И за Бомбей и за Мадрас,
За Лхасу и за Гондурас,
Давай за нас, за девок в Тхимпху,
Давай за нас, пусть всё идёт наху…»
Допев, все осоловело уставились в стол. Не тот был сегодня праздник. Не тот. Две песни любили в Белых Росах – и эту затягивали тогда, когда на душе у жителей деревни было темно и как будто какая-то тоска грызла их изнутри. Молчун подождал немного – может, что-то изменится, может быть, всё же затянут его любимую, которую пели тогда, когда действительно радовались и чувствовали себя людьми. Вот эту:
«Не вешать нос, айда, Марины!
Дурна ли жизнь иль хороша!»
Обычно зам солировала – да таким тонким голосом, что казалось, у неё внутри что-то лопнет. Но никто даже не вспомнил, что есть такая песня. Приуныли взрослые, начали вилками по столу скрести. Зловещий был звук. Кра… кра… Что-то бормотал, лёжа ничком в траве, пан Каковский. Молчун незаметно сполз с доски, на которой они сидели все в ряд, как на заседании, хорошей доски, строганой, гладкой, как грудь у Космача, – у мужиков их породы только на спине росло, мохнатилось, а грудь голая, чистая, как у баб. Сполз и тихо, как птица малая, за забор пролез, а там углами, углами, да по загуменью домой.
А там, конечно, сразу к гусочке своей серой. Обнял её, схватил осторожно за шею, в глаза ей посмотрел – и гусочка ответила ему таким взглядом, что хорошо и легко стало Молчуну, словно у него зубы болели и наконец попустило.
«Не вешать нос», – прошептал он и поцеловал гусочку в красивую шею.
Гусочка открыла клюв – словно что-то ответить хотела. Успокоить его, утешить после всех этих испытаний. Тёплая была гусочка, Молчун прижал её к земле, которая уже остывать начала, и сам к ней прижался.
«Давай я тебе расскажу… – зашептал он в полутьме курятника. – Ты же любишь, когда я тебе эту историю рассказываю. Так вот, в одной стране, на Севере, куда летает Эйр-Болтик, рос когда-то в одной деревне мальчик, а звали его Нильс, Нильс Хольгерсон. То есть Нильс, сын Хольгера, такое у его отца было имя… Но все звали того парня просто – Молчун. Очень уж он не любил говорить. А что любил? Любил книжки читать. А ещё любил одну серую гусочку. А больше никого…»
2.
Назавтра Молчун проснулся рано – и сразу же соскочил с кровати и пулей за дверь. Даже умываться не стал. Очень хотелось ему посмотреть, как Космача в москали забирают.
Побежал на другой конец деревни, туда, где у дороги слепая Тэкля жила, и ещё издали увидел военную машину. Народу собралось немного, не то что вчера – старый Космач, да Космачиха, да Любка, да полицай, да он сам – ну, и дочь слепой Тэкли Гэнька за забором торчала, следила своим кривым глазом, что происходит. Молчун стал поодаль, чувствуя, что он здесь, вообще-то, лишний. Но никто на него внимания не обращал. Младший Космач, лысый, с отливающим утренней синью лицом, Молчуна не заметил, смотрел прямо перед собой, весь важный такой, как государственный преступник. Ну и хрен с тобой, балда, подумал Молчун, нужен ты мне, придурок, я не на тебя посмотреть пришел. А на кого?
Ясно, на кого. Молчун с каким-то радостным ужасом пожирал глазами тяжёлую тупоносую машину, колёса которой, даром что все лесные дороги объездили, ещё не стрясли с себя пыль далёких городов, засекреченных объектов, прямых, как стрела, бетонок… Это была машина, которая уже совсем скоро двинется далеко-далеко, за ихний Стратегический лес, аж туда, где Западная граница идет, туда, где Молчуну, может, ни разу за всю его жизнь побывать не придётся. Из кабины выскочил комиссар, нетерпеливо проверил Космачёву повестку и показал властным движением ладони, чтоб не затягивали особо прощание. В кузове сидели такие же лысые парни возраста Космача, безразличные, опухшие, с большими ушами. Похожие на кроличьи тушки. Видно, вчера не только их тринадцатые Белые Росы своих космачей в москали проводили. Но и четырнадцатые, пятнадцатые и дальше по списку.
Но что на этих дебилов смотреть, космачи повсюду на одно лицо.
Вот комиссар – это другое дело.
Молчун с уважением разглядывал его зелёную форму, золотого орла с двумя головами, горделиво восседающего на фуражке и глядящего сразу в две стороны – словно орёл этот следил, нет ли в Белых Росах засады. Вот-вот каркнет эта птица настороженно и ударит комиссара просто по лбу: опасность, товарищ капитан, подозрительные объекты слева и справа! Выхватит тогда военком пушку и двумя выстрелами: бах, бах, опасность слева ликвидирована, опасность справа уничтожена. Молчуну вдруг привиделось, как Гэнька складывается пополам и падает мордой в огород, а с другой стороны улицы меткий выстрел снимает с забора сонного петуха. Комиссар прячет ствол. Да, этот может… Военный комиссар есть военный комиссар. Не промахнётся. Молчун на всякий случай протёр глаза: нет, показалось… Все пока что живы: Гэнька, рот разинув, на машину уставилась, и петух цел, и Космач, и Любка от утреннего холода голову в плечи вжимает.
Показалось.
Из-за машины вышли двое солдат, стали за спиной у Космачика.
«Ну всё, поехали», – добродушно проворчал военком, закуривая новую сигарету.
Космач обнял мать, отца, ухмыльнулся с каким-то совсем уж тупым видом. Подошла Любка, робко, с интересом поглядывая на молодых солдат.
«Пока, Космачик», – сказала, оглядываясь, а в глазах смех.
«Береги себя, сыночек!» – воскликнула старая Космачиха и отвернулась.
Полицай стоял, опустив голову в мобильник, – в тетрис играл.
«Скажи ему, что дождёшься», – сурово бросил Любке старый Космач.
«Дождуся», – скривилась Любка. И почему-то на Молчуна оглянулась с улыбкой – и тот нервно вздрогнул. Оправдываясь, повёл плечами невольно: а я тут при чём?
«Ну всё, всё, кончайте, кому сказал!» – прикрикнул военком.
«Да я с дуба насёр! – взревел вдруг молодой Космач. – На всех на вас! С дуба! И поеду, и больше не увидите вы меня, росы-хуесосы!»
Он оттолкнул солдат, ухватился за кузов и залез к другим рекрутам, которые встретили его невесёлым смехом. Мелькнули подошвы его белых бобруйских кедов. Полицай поднял голову. Космачиха зашлась в плаче. Любка, ковыряясь в носу, не мигая смотрела, как наверху раздвигаются спины, пропуская новобранца.
Военком удовлетворённо цокнул, бросил окурок под свои высокие офицерские сапоги. Солдаты вскочили в кузов и с грохотом захлопнули его, сразу превратившись из обычных парней в существ с другой планеты, мощных, беспощадных, с прорезями вместо глаз. На кокарде вспыхнули золотые орлы. Военком развалился в кабине. Машина загудела мощно, властно, не по-деревенски, и поползла к лесу.
Молчун ждал, пока все разойдутся: Космачи, ёж, кобыла… Сел на мотоцикл полицай – и укатил, скрипучий и дрындычливый, как бензопила… исчезла где-то во дворе Гэнька… петух прокричал, что скоро в школу, и пошёл в свой гарем…
«А ты чего стоишь? – Любка подошла к Молчуну. – В школу опоздаешь, Молчунок».
Молчун ничего не сказал, отвернулся, чтобы носом ненароком Любкин запах не втянуть. Пахла Любка резко, не то чтобы противно, нет; скорее, от неё интересно так пахло, необычно, один раз вдохнёшь, потом весь день её запах с собой носишь. Молчун это хорошо запомнил, не хотелось ему мучиться с этим странным запахом, вот он и молчал, молчал и сопел себе, стоя у гнилого Тэклиного забора.
«Ну что ты всё молчишь? – Любка обошла его, чтобы в глаза ему заглянуть. – Сказал бы хоть пару слов хороших. Меня сегодня поддержать нужно, обнять, по-дружески…»
Молчун сжал зубы и сам весь сжался, затаив дыхание. Он бы и сердце остановил, да нельзя. А оно словно услышало, застучало сильнее. Любка не выдержала, накинулась:
«Ну что ты как больной! Рад, видно, что Космачика забрали. Вздохнёшь спокойно. Да, Молчунок? Стыдно, а? Друга твоего в москали угнали, а ты тут отсидишься. Эх, Молчунок… Ну ладно, ладно, колода ты, а не мужик, ну и стой здесь, стой, дурачок, думай про своих гусей…»
И Любка прыснула презрительно и пошла по деревне, крутя задницей. Молчун подождал, пока она за поворотом исчезнет, он-то знал, что Любка не оглянется. Сам украдкой осмотрелся, бросился на середину улицы, туда, где недавно машина военная стояла, наклонился. Солнце ему помогло, оно как раз над Белыми Росами проснулось, улыбнулось с высоты – в подмёрзшей дорожной грязи сверкнули золотые полоски. Окурки, который комиссар выбросил. Молчун молниеносно поднял один, развернулся, схватил второй и зашагал по улице, осторожно держа окурки в кулаке, чтоб не заметил кто, – и, только повернув к своему дому, присел под яблоней, раскрыл ладонь, впился глазами в свою добычу.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































