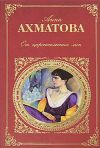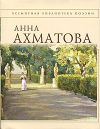Текст книги "Ахматовские зеркала"
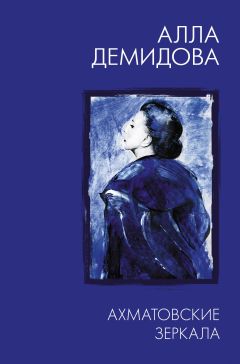
Автор книги: Алла Демидова
Жанр: Кинематограф и театр, Искусство
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 16 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
Сама Ахматова сделала к «Поэме» «Примечания редактора» и по этому поводу пишет: «В отличие от примечаний редактора, которые будут до смешного правдивы, примечания автора не содержат ни одного слова истины, там будут шутки умные и глупые, намеки понятные и непонятные, ничего не доказывающие ссылки на великие имена (Пушкин) и вообще все, что бывает в жизни, главным же образом строфы, не вошедшие в окончательный текст».
Где-то я прочитала, что «Поэма» без героя – то есть без того, кого нельзя было называть в те времена вне общепринятого контекста, – без Сталина. Но у самой Ахматовой, до которой, видимо, доходили эти слухи, в примечании к «Поэме» написано: «Того же, кто упомянут в ее заглавии и кого так жадно искала Сталинская охранка, в Поэме действительно нет, но многое основано на его отсутствии».
Читая заметки о «Поэме без героя», поражаешься: кого только не подставляли на место этого «героя». И Недоброво, и Берлина, и Анрепа – людей, которые действительно присутствуют в «Поэме», но основными героями ее не являются. А если продолжать цитировать Ахматову и дальше, то: «Не надо узнавать его в герое “Царскосельского лирического отступления” (III-я главка)… Таинственный “Гость из Будущего”, вероятно, предпочтет остаться неназванным… Но ведь это нужно только для музыкальных характеристик, как в “Карнавале” Шумана, или для совсем пустого любопытства)».
Ахматова, по воспоминаниям Эммы Герштейн, называла себя «старой шаманкой», которая защищается «заклинаниями» и «посвящениями из музыки и огня». Может быть, защищается от слишком прямых толкований своей «Поэмы»? Она писала: «Конечно, каждое сколько-нибудь значительное произведение искусства можно (и до́лжно) толковать по-разному (тем более если оно относится к шедеврам). Например, “Пиковая дама”… Но когда я слышу, что “Поэма и “трагедия совести”… и объяснение, отчего произошла революция… и “Реквием по всей Европе”… трагедия искупления и еще невесть что, мне становится страшновато».
Прочитав, по-моему, почти все, что было написано о «Поэме», в том числе и людьми, хорошо знавшими Ахматову, я, пожалуй, соглашусь с Анной Андреевной.
Триптих
«Поэма» состоит из трех частей.
«I часть – “Девятьсот тринадцатый год”. Театрализованный сюжет: Пьеро – Арлекин – Коломбина; воспоминания наплывами, через зеркала, свечи. Петербург, Фонтанный Дом, отступления в реальность и в будущее, комментарии, живопись, портреты конкретных людей, фотографии.
II часть – “Решка”. Отстраненная нынешняя реальность. Лагерная тема.
III часть – “Эпилог”. Ленинград, военное время, разбомбленный город – жесткий, черно-белый, в руинах».
Так я пыталась много лет назад записать вкратце «сюжет» «Поэмы», предлагая ее как сценарий Семену Арановичу – режиссеру, который делал прекрасные документальные фильмы. Я в свое время озвучивала у него фильм о Горьком. И мне хотелось, чтобы Семен снял фильм о Ленинграде, Ахматовой, о 1913 годе и т. д. с моим голосом, читающим «Поэму». Помню, Семен слушал меня тогда, еле сдерживая смех…
Я обиделась, но теперь понимаю, что уж очень по-детски пыталась высказывать свои идеи. Впоследствии, в 1989 году, Аранович снял документальный фильм «Личное дело Анны Ахматовой», хотя к этому времени уже давно работал в художественном кинематографе.
В марте 1966 года, когда Ахматовой не стало, Семен Аранович снимал очередной фильм о Горьком и у него была своя съемочная группа. С этой группой, вернее с оператором, он заснял панихиду, отпевание и похороны Ахматовой. Тогда весь отснятый материал изъял КГБ, но в 1989 году Арановичу удалось включить в свой фильм съемки Ахматовой разных лет, а также кадры ее похорон.
Сама Ахматова считала, что передать некоторые сложные сцены «Поэмы» гораздо легче средствами кинематографа.
«Триптих» звучит как три серии или три акта, поэтому может восприниматься и как пьеса в стихах. Вернее – трагедия. Ритуал трагедии всегда совершается на пороге бездны, когда никаких средств к спасению уже нет, когда нужна, как говорит Ахматова:
…лира,
Но Софокла уже, не Шекспира.
На пороге стоит – Судьба.
Судьба в трагедии всегда Рок. Неизбежность. И спастись автору можно, только найдя «победившее смерть слово», что и происходит в конце концов в «Поэме».
«Поэма без героя» возникла не на пустом месте. Считалось, что после 1925 года Ахматова замолчала. Недаром Цветаева, прочитав подаренный ей Ахматовой в 1941 году сборник «Из шести книг», записала: «…Но что она делала: с 1914 по 1940 г.?.. Эта книга и есть “непоправимо-белая страница”». Однако сама Ахматова о своем творчестве была, естественно, другого мнения: «Перерыв между 1925 г. до 1935 (10 лет). В это время я действительно написала несколько стихотворений, но все же не так мало, как принято думать. (Не все они сохранились.)…с 1935 я снова стала писать стихи. И писала их до 1946 г…Возникает “Реквием” (1935–1940)… и “Путем всея земли» (“Китежанка”), т. е. большая панихида по самой себе, осенью одновременно – две гостьи: Саломея (“Тень”) и моя бедная Ольга (“Ты в Россию пришла ниоткуда”), и с этой таинственной спутницей я проблуждала 22 года».
В 40-е годы историческое время переламывалось и рождало метафизическое беспокойство, которое должно было вылиться стихами и заставляло обращаться к собственному прошлому. «Куда оно девается, ушедшее время? Где его обитель…» – записывает Ахматова в записной книжке.
В поэме «Путем всея земли» (март 1940) Ахматова называет себя «китежанкой», которая стремится вернуться в ушедшее время:
Великую зиму
Я долго ждала,
Как белую схиму
Ее приняла.
И в легкие сани
Спокойно сажусь…
Я к вам, китежане,
До ночи вернусь.
В 1939 году литературовед Орлов, который потом приведет к Ахматовой Исайю Берлина, подарит Анне Ахматовой свой труд по древнерусской литературе, где есть такая запись: «…(в “Поучениях Владимира Мономаха”: “В санях сидя, отправляясь путем всея земли”), а “сидя в санях” – это значит… “при смерти”, потому что в Киевской Руси покойников носили в церковь на санях». Поэтому Ахматова и назовет свою поэму «большой панихидой по самой себе».
Начиная работу над «Поэмой без героя», Ахматова мыслила ее как продолжение «Китежанки». Ведь Китеж, по легенде, должен опять выйти из воды – воскреснуть. Поэтому «Поэма без героя» воспринимается как «золотой мост из одного времени в другое», как сказал Ахматовой в Ташкенте один читатель после прочтения «Поэмы». Речь идет о мосте из прошлого в будущее, а не наоборот, как было в «Китежанке».
1940–1962
Годы, проставленные в начале поэмы или после каждой части, обозначают не время написания, а сжатое время, в котором работала память автора. Вариант «Поэмы» 40-х годов по значимости равен варианту 60-х (в обоих уже задействованы все персонажи), и некоторым, в том числе Иосифу Бродскому, первый вариант нравился больше, но в варианте 60-х к «Поэме» прибавилась жизнь автора за эти 20 лет. В 60-е Ахматова писала о «Поэме»: «Вышли замуж те, что родились / В ночь, когда ты приснилась мне».
И в тех, и в других вариантах ощущается незаконченность замысла. Но, с другой стороны, где конец? Видимо, в данном случае все обрывается смертью автора.
В 1959 году Ахматова записала: «Работа над ней напоминала проявление пластинки. Там уже все были. Демон всегда был Блоком, Верстовой столб – Поэтом вообще, Поэтом с большой буквы (чем-то вроде молодого Маяковского)».
Загадочное свойство письма Ахматовой – прятать больше, чем открывать. Иногда она начинала опасаться, что текст «Поэмы» слишком герметичен или кажется таким. Поэтому разъяснительные письма к NN то вставлялись в текст, то убирались.
«Я начала ее в Ленинграде (в мой самый урожайный 1940-й год), продолжала в “Константинополе для бедных”, который был для нее волшебной колыбелью, – Ташкенте», – писала Ахматова.
От себя же я могу добавить такое предположение: если бы Ахматова жила и в наше время, «Поэма» продолжала бы писаться…
Deus conservat omnia[44]44
Бог сохраняет всё (лат.).
[Закрыть]
Девиз в гербе Фонтанного дома
В «Поэме» очень явно прослеживается цикличность судьбы. А мне давно нравится подмечать эти загадочные замкнутые круги жизни. Например, я писала в своей книге «Бегущая строка памяти» о Галине Дмитриевне Катанян, у которой ее ближайшая подруга Лиля Юрьевна Брик увела мужа и прожила с ним более сорока лет. За это время Галина Дмитриевна ни разу не общалась со своей бывшей подругой, но когда умерла Лиля, а через год – Василий Абгарович Катанян, то в их квартиру переехал его сын Вася. Он переехал туда с женой и матерью. Так Галина Дмитриевна стала жить в комнате своей подруги, где на стенах висела собранная Лилей коллекция подносов, уникальная коллекция картин, бисерный коврик, подаренный в 16-м году Маяковским своей любимой Лиличке…
Так вот о кругах судьбы. Герб «Deus conservat omnia» был на Фонтанном доме Шереметевых, где жила Ахматова, и этот же герб был на странноприимном доме графа Шереметева в Москве (теперь больница имени Склифосовского). Там в морге после своей смерти 5 марта 1966 года лежала Ахматова, там же была московская панихида. Затем гроб с телом переправили в Ленинград, где, помимо отпевания в храме Николы Морского, 10 марта состоялась гражданская панихида в Ленинградском отделении Союза писателей, тоже помещавшемся в одном из бывших домов графа Шереметева, на котором – тот же герб с девизом: «Deus conservat omnia».
Естественно, что сама Ахматова не могла и предположить такого круга судьбы, ставя в 40-м году этот девиз эпиграфом к «Поэме». Но, как всегда бывает у больших поэтов, предвидение и здесь заявило о себе.
Я могла бы привести массу примеров такого рода предвидений в творчестве других поэтов. И у Гумилева в стихотворении о рабочем, отливающем для него пулю, и у Мандельштама в стихотворении «Это какая улица?.. «И потому эта улица, / Или верней эта яма, / Так и зовется по имени / Этого Мандельштама». (Как известно, Мандельштама похоронили в декабре 38-го года в общей могильной яме в пересыльном лагере на Дальнем Востоке.) И у Высоцкого в раннем стихотворении «Памятник», где он провидел и описал памятник на Ваганьковском кладбище, поставленный на его могиле.
Подмечать замкнутые круги судьбы в жизни Ахматовой можно и дальше. Например, в детстве в Царском Селе она жила на улице Широкая, а последняя ее ленинградская прописка была на улице Ленина, которая раньше тоже называлась Широкой.
«Бог сохраняет всё» – это и надежда на Бога, и на человеческую память, надежда через слово спасти то, что без этой словесной памяти могло бы кануть в Лету.
Вместо предисловия
Предисловия к «Поэме» Ахматова то сокращала, то дополняла, пытаясь разъяснить что-то читателю. В опубликованной «Прозе о Поэме», во «Втором письме», Ахматова, например, недоумевала: «Л. Я. Гинзбург считает, что ее («Поэмы». – А.Д.) магия – запрещенный прием – why?»[45]45
Почему? (англ.)
[Закрыть]. Но в стихах о «Поэме» сама Ахматова писала:
Не боюсь ни смерти, ни срама.
Это тайнопись – криптограмма,
Запрещенный это прием.
По воспоминаниям, 1-й вариант «Поэмы» возник быстро, «словно под чью-то диктовку». Ахматова давала ее читать знакомым, проверяя ее доходчивость. Но прояснять ее смысл в самом тексте она не хотела. «Ни изменять, ни объяснять ее я не буду. “Еже писахъ – писахъ”», – отмечает она в одном из очередных предисловий в 1944 году, повторяя слова Понтия Пилата из «Евангелия от Иоанна».
В 1955 году появилось еще одно объяснение в Предисловии «Из письма к NN», где Ахматова пишет, что, разбирая осенью 40-го года погибший впоследствии в блокаду архив, она наткнулась на письма и стихи о событиях 1913 года – о самоубийстве Всеволода Князева, одного из героев «Поэмы», и ссылается на свои строчки: «Бес попутал в укладке рыться…».
В 40-м году Ахматова написала стихотворение «Подвал памяти» – пример работы памяти вне зависимости от желания автора:
Но сущий вздор, что я живу грустя
И что меня воспоминанье точит.
Не часто я у памяти в гостях,
Да и она меня всегда морочит.
Когда спускаюсь с фонарем в подвал,
Мне кажется – опять глухой обвал
Уже по узкой лестнице грохочет.
Чадит фонарь, вернуться не могу,
А знаю, что иду туда, к врагу.
И я прошу, как милости… Но там
Темно и тихо. Мой окончен праздник!
Уж тридцать лет, как проводили дам,
От старости скончался тот проказник…
Я опоздала. Экая беда!
Нельзя мне показаться никуда.
Но я касаюсь живописи стен
И у камина греюсь. Что за чудо!
Сквозь эту плесень, этот чад и тлен
Сверкнули два зеленых изумруда.
И кот мяукнул. Ну, идем домой!
Но где мой дом и где рассудок мой?
Это стихотворение – тоже предтеча «Поэмы» и тоже может служить одним из ее предисловий.
Иных уж нет, а те далече…
Пушкин
Эпиграф взят из 8-й главы «Евгения Онегина». Не думаю, что надо его расшифровывать. Слова эти, кстати, аукнутся в 3-й части «Поэмы», в «Эпилоге»:
…Все в чужое глядят окно.
Кто в Ташкенте, а кто в Нью-Йорке.
И изгнания воздух горький —
Как отравленное вино.
В ранней редакции «Поэмы» был еще другой эпиграф, из Ларошфуко: «Все правы». Примечательно, что Ахматова сняла эту «максиму».
Ахматова то убирала эпиграфы, то снова вводила в «Поэму». Она как никто умела подобрать эпиграф так, чтобы через него раскрыть содержание дальнейшего. Эпиграфы были символами. Как известно, «символ» – греческое слово и переводится как «пластинка». Разломленная надвое, она потом служит паролем при встрече, когда сходятся, соединившись, две половины. Недаром одно из течений в искусстве было названо символизмом – в нем картины физической жизни соединялись с ее иррациональным (метафизическим) смыслом. Если нет зазубрин и все совпало – гармония. Может быть, поэтому многие ахматоведы, и в том числе Жирмунский, называли «Поэму без героя» «ответом символизму», ведь в ней соединились реальные и метафизические смыслы.
А что касается эпиграфов, которые у Ахматовой тоже «без зазубрин» соединялись с последующим текстом и служили «символами», то о некоторых прочитанных строчках она говорила, что они «просятся в эпиграф».
Первый раз она пришла ко мне в Фонтанный Дом в ночь на 27 декабря 1940 г., прислав как вестника еще осенью один небольшой отрывок («Ты в Россию пришла ниоткуда…»).
Я не звала ее. Я даже не ждала ее в тот холодный и темный день моей последней ленинградской зимы.
Ее появлению предшествовало несколько мелких и незначительных фактов, которые я не решаюсь назвать событиями.
В ту ночь я написала два куска первой части («1913») и «Посвящение». В начале января я почти неожиданно для себя написала «Решку», а в Ташкенте (в два приема) – «Эпилог», ставший третьей частью поэмы, и сделала несколько существенных вставок в обе первые части.
Я посвящаю эту поэму памяти ее первых слушателей – моих друзей и сограждан, погибших в Ленинграде во время осады.
Их голоса я слышу и вспоминаю их, когда читаю поэму вслух, и этот тайный хор стал для меня навсегда оправданием этой вещи.
8 апреля 1943Ташкент
Это одно из предисловий Ахматовой к «Поэме». В первую очередь здесь обращает на себя внимание дата – 27 декабря 1940 г. (о ней чуть ниже) и то, что это происходило в шереметевском Фонтанном Доме. О нем поговорим подробней.
«Тридцать пять лет я прожила в одном из самых замечательных петербургских дворцов (Фонтанный Дом Шереметевых) и радовалась совершенству пропорций этого здания 18-го века», – писала Ахматова в 60-е годы.
В северном садовом флигеле она жила с 1918 по 1920 годы, в южном – с середины 20-х до 1952 года. В промежутках и позже было несколько петербургских адресов, не говоря уже о московских, где она жила подолгу. Но Ахматова связана с Фонтанным Домом не только местом жительства. Он вошел в ее поэзию, стал символом истории Петербурга и России, стал частью «Поэмы».
В доме Шереметевых, выходящем на Литейный проспект, и в его флигелях в 10-х годах сдавались внаем квартиры.
Владимир Казимирович Шилейко, второй муж Анны Андреевны, известный ассириолог, поселился в доме осенью 1916 года в качестве домашнего учителя внуков графа Сергея Дмитриевича Шереметева – Бориса и Николая (это было уже 5-е поколение Шереметевых, живущих в доме).
Научный авторитет Шилейко к этому времени был уже очень высок. Чтобы материально поддержать бедного ученого и обеспечить внукам достойное образование, Шереметев и предложил ему место учителя.
В 1916 году, по инициативе Шилейко, Павел Сергеевич Шереметев, старший сын Сергея Дмитриевича, посетил литературно-артистическое кабаре «Привал комедиантов». Об этом посещении он записал в своем дневнике: «Поехали в “Привал комедиантов”, где своды и стенная роспись мерзопакостного содержания и где целый ряд поэтов говорили стихи. В этом есть что-то больное и искривленное, но есть и здоровое искание красоты… Наш Владимир Казимирович Шилейко оказался здесь своим человеком и также говорил свои стихи, и лучше других».
После войны и октябрьской революции Шилейко вернулся в Фонтанный Дом и продолжал жить в северном садовом флигеле.
С Ахматовой они были знакомы с 10-х годов. Тогда он был тесно связан с «Цехом поэтов». Ахматова писала: «В 10-х годах составился некий триумвират: Лозинский, Гумилев и Шилейко. С Лозинским Гумилев играл в карты. Шилейко толковал ему Библию и Талмуд».
Одна из современниц Ахматовой вспоминала, как Шилейко, высокий, тощий, похожий на Фауста, с томом персидской поэзии под мышкой, ухаживал в «Бродячей собаке» за Ахматовой и посвящал ей стихи. В 1913 году Ахматова тоже написала ему стихи, начинавшиеся словами: «Косноязычно славивший меня…».
В апреле 1918-го, когда Гумилев вернулся из-за границы, Ахматова попросила у него развод и сказала, что выходит замуж за Шилейко. К этому времени она жила в семье Валерии Сергеевны Срезневской. Срезневская вспоминает: «Как-то Аня пришла и сказала: “Я переезжаю в Шереметевский Дом. Там живет один замечательный человек: знаешь, птица, я считаю его гениальным. Сейчас он тяжко болен. Я буду ухаживать за ним”… Я пошла к ней… Продолговатая комната. Постель. Диван. Круглый большой стол. Все очень странное, тяжелое и мрачное. Настольная лампа горит неярко, оставляя углы большой комнаты в тени. У стола сидит человек в солдатской шинели. Лицо очень тонкое и правильное, большие недобрые глаза за очками глядят неприветливо. Очень яркий рот криво усмехается. Аня наливает в чашку почти черный крепкий чай… замечаю большой эгоизм, капризы… Я иду и думаю: надолго ли хватит у такой свободолюбивой, у такой независимой Ани этого подвига, жертвы?»
С Шилейко Ахматова прожила несколько неспокойных лет, и часто они меняли адреса: жили то на Миллионной улице – в служебном флигеле знаменитого Мраморного дворца, то в Шереметевском дворце, то на Сергиевской улице – и тоже во дворце. А в Мраморном дворце было общежитие для ученых, где Шилейко получил две маленькие комнатки. С ними жил и огромный пес – сенбернар Тапа, которого Шилейко подобрал, умирающего, на Марсовом поле.
«Сыпняк, голод, расстрелы, темнота в квартирах, сырые дрова, опухшие до неузнаваемости люди», – писала об этом времени Ахматова.
Когда Гумилев разводился с Ахматовой, он сказал ей: «Я плохой муж… Но Шилейко – катастрофа, а не муж».
И действительно: «Три года голода. Владимир Казимирович был болен. Он без всего мог обходиться, но только не без чая и курева. Еду мы варили редко – нечего было и не в чем… мне самой приходилось и топить печи, и стоять в очередях за провизией». Он занимался наукой, знал 52 языка, а она рыла окопы и продавала ржавую селедку, которую по «разнарядке» литераторам давали на «прокорм».
А в начале августа 1918 года Шилейко и Анна Андреевна отправились в Москву, «чтобы поменять обстановку» (Шилейко получил мандат на право осматривать памятники старины). Жили они в Москве в Зачатьевском переулке («Переулочек, переул… / Горло петелькой затянул»). В сентябре вернулись в Петербург, и Анна Андреевна поселилась в комнате Шилейко в северном служебном флигеле Фонтанного дома.
«Ани» действительно надолго не хватило. Шилейко оказался «грубым и мелочным ревнивцем, капризным, требующим к себе безраздельного внимания». Он переводил с листа сложные ассирийские тексты и хотел, чтобы Анна Андреевна записывала за ним эти переводы. Запрещал ей писать стихи. Но природа брала свое.
Тебе покорной? Ты сошел с ума!
Покорна я одной Господней воле.
Я не хочу ни трепета, ни боли.
Мне муж – палач, а дом его – тюрьма, —
напишет она в 1921 году в цикле «Черный сон».
Друг Ахматовой и Судейкиной Артур Лурье, с которым Ахматова познакомилась еще в 1914 году, решил вырвать Анну Андреевну от Шилейко. Предложил переехать к ним (Лурье одно время был гражданским мужем Судейкиной, впоследствии она бросила его из-за какого-то случайного мальчика, который через две недели исчез). И Ахматова переехала к своей подруге Ольге Глебовой-Судейкиной. Они жили все вместе, втроем. «Квартирный вопрос», о котором впоследствии напишет Булгаков, в то время стоял очень остро…
У Ахматовой в то время была в Царском Селе подруга Наталия Рыкова (ей посвящено стихотворение «Всё расхищено, предано, продано…»). Ее отец, профессор-агроном, заведовал там сельскохозяйственной фермой. Несколько раз у них гостила и Ахматова. Позже она вспоминала: «Пешком на вокзал, в поезде все время – стоя… Уезжала с мешками – овощи, продукты, раз даже уголь для самовара возила… С вокзала… домой – пешком и мешок на себе тащила».
В сентябре 1920-го Ахматова по инициативе отца Рыковой поступила на первую и последнюю в своей жизни службу – в библиотеку Агрономического института. От работы она получила две комнаты на Сергиевской улице, дом 7, где жила до осени 1921 года. (Это был дом-дворец князей Волконских.)
Там целый год с ней прожил и Шилейко – фактически они уже расстались, но он был болен и беспомощен. В свое новое жилье Ахматова переехала, когда Шилейко был в больнице, а когда его оттуда выпустили, он, по воспоминаниям Ахматовой, плакался: «“Неужели бросишь? Я бедный, больной…” Ответила: “Нет, милый Володя, ни за что не брошу: переезжай ко мне!” Володе это очень не понравилось, но переехал. Но тут уж совсем другое дело было: дрова мои, комната моя, все мое… Совсем другое положение. Всю зиму прожил. Унылым, мрачным был».
Как странно читать сейчас эти воспоминания, но недаром тогда Ахматова называла себя «ведьмушкой» и, как говорила, стала жить с Шилейко, чтобы «очиститься», потому что была «темная». Позднее он переехал в служебный корпус Мраморного дворца, где окна его комнаты выходили на Марсово поле. Одно время у него потом опять жила бездомная Ахматова, пока окончательно не перебралась назад в Шереметевский дворец – к Николаю Николаевичу Пунину.
Когда Ахматова еще только познакомилась с Пуниным (они вместе оказались в одном поезде на пути в Царское Село), он записал в дневнике: «Она странна и стройна, худая, бледная, бессмертная и мистическая… Губы тонкие и больные, и немного провалившиеся, как у старухи или покойницы… Серые глаза, быстрые, но недоумевающие, останавливающиеся с глупым ожиданием или вопросом, ее руки тонки и изящны, но ее фигура – фигура истерички… Я ее слушал с восхищением, так как, взволнованная, она выкрикивает свои слова с интонациями, вызывающими страх и любопытство. Она умна… она великолепна. Но она невыносима в своем позерстве».
Эта противоречивая характеристика скажется потом на противоречивых отношениях Пунина и Ахматовой.
Все эти незначительные, на первый взгляд, детали аукнутся потом в «Поэме». Вот я и буду постепенно, круг за кругом, как Ахматова в «Поэме», рассказывать про людей, которые имели отношение к ее жизни.
В квартире Пуниных, помимо самого Пунина и Ахматовой, жила его первая жена Анна Аренс с их дочерью Ириной. Жили одной семьей, квартира была большая. У Ирины Пуниной впоследствии родилась дочь Аня. Ахматова время от времени, в зависимости от обстоятельств, переезжала из одной комнаты в другую. Но во время написания первоначального варианта «Поэмы» у нее была узкая комната, бывшая детская. Лидия Корнеевна Чуковская вспоминает о старом сундуке, развалившейся, стоящей на кирпичах, тахте (у Ахматовой сохранилась запись: «Кажется, я всю жизнь сплю на матрасе, поставленном на кирпичи»). Хотя какие-то детали ушедшего прошлого сохранились. Вдруг Анна Андреевна, пишет Чуковская, начинала искать серебряные ложки, чтобы накрыть на стол…
У меня на даче висит известная фотография: Ольга Берггольц в гостях у Ахматовой. Они сидят друг напротив друга, а на столе перед ними – старинные красивые чашки. После того как я сыграла Берггольц в «Дневных звездах» и познакомилась с ней, Ольга Федоровна рассказывала мне об этих мелких деталях, которые бросались в глаза в бедной комнате Анны Андреевны. Такие подробности часто заметны на ее поздних фотографиях: то на маленьком столе в «Будке» стоит бронзовый подсвечник, то красивая вазочка, то маленький том старинной книги. Видимо, несмотря на свою безбытность и скитальчество, Анна Андреевна любила и берегла эти детали прошлого, хотя, по воспоминаниям современников, не любила обрастать вещами и всегда раздаривала – чуть ли не на следующий день – принесенные ей подарки.
Окно ахматовской комнаты в Фонтанном доме выходило в сад. Судя по кольцам дуба, сад этот старше самого Петербурга.
Этот участок земли вместе с графским титулом Петр подарил своему фельдмаршалу Борису Петровичу Шереметеву за победы над шведами. При шведах это была мыза. Отвоевав ее, Шереметев построил здесь дом, в котором устраивал знаменитые «машкерады». В его прославившемся на весь город крепостном театре ставились забавные спектакли, в которых использовалось, например, «двойное ряжение»: крепостные актеры переодевались в заезжую итальянскую труппу и уже как итальянские актеры разыгрывали какое-либо действо. Как видим, эта игра возникла задолго до вахтанговской «Принцессы Турандот», где тоже было двойное переодевание (и задолго до «Поэмы», где за каждой маской прячется по нескольку лиц).
О Борисе Петровиче Шереметеве Пушкин написал: «И Шереметев благородный…», поскольку тот не поставил своей подписи на смертном приговоре Алексею, сыну Петра. А сын Бориса Петровича граф Петр Борисович (при нем был построен Фонтанный дворец – памятник Елизаветинской эпохи) и внук Николай Петрович основали крепостной театр и в Москве, в Останкино.
Николай Петрович Шереметев с юности был дружен с великим князем Павлом Петровичем. Когда Павел взошел на престол, Шереметев переехал в Петербург и стал устраивать в Фонтанном доме концерты с участием гениальной крепостной актрисы Прасковьи Жемчуговой. Восхищенный ее пением, Павел снял с руки кольцо и подарил ей. (По другому преданию, он подарил ей жемчужное ожерелье, отсюда – ее «фамилия».)
Граф Николай Петрович Шереметев полюбил эту крепостную актрису. Он сделал ее хозяйкой своего дома, но их отношения не были освящены церковным благословением. Это ее мучило. У нее начался туберкулез, врачи запретили ей петь. «И тогда… я поборол бренные предрассудки света сего о неравенстве состояний, – писал Николай Петрович Шереметев в завещании сыну Дмитрию, – и соединился с нею священными узами брака, который совершен в Москве в 1801 год, ноября в 6 день, в церкви Симеона Столпника, что на Поварской…»
Шереметев хотел приурочить объявление о свадьбе к рождению наследника. Архитектор Кваренги принялся за создание в Фонтанном доме парадной галереи для свадебных торжеств. Однако после рождения сына Дмитрия Параша Шереметева умерла. Это было 23 февраля 1803 года. Свадьба не состоялась, о состоявшемся венчании было объявлено уже после ее смерти.
В записных книжках Ахматова упоминала «…знаменитый Белый зал работы Кваренги, где когда-то за зеркалами прятался Павел I и подслушивал, что о нем говорят бальные гости Шереметевых». Ахматова ошибалась. На самом деле Белый зал был построен архитектором Корсини на месте созданной Кваренги галереи. Строительство Белого зала относится к середине XIX века, когда ни Павла I, ни Н. П. Шереметева, ни Жемчуговой уже не было в живых.
Еще при жизни Прасковьи Ивановны (Параши) по ее желанию в Москве был заложен Странноприимный дом, который должен был «дать бесприютным ночлег, голодным обед и ста бедным невестам приданое». В этом Странноприимном доме, как я уже говорила, лежала полтора века спустя скончавшаяся Ахматова.
В саду шереметевского Фонтанного дома стоял саркофаг в память об умершей Параше, на нем – надпись, выбитая по-французски:
Я хочу видеть ее ускользающую тень,
Блуждающую вокруг этого дома.
Я приближаюсь, но вдруг эта тень пропадает
И возвращает меня к моей боли, исчезая
безвозвратно.
Памятник этот простоял в саду до середины 30-х годов, так что Ахматова его, конечно, застала. В конце 20-х годов она писала в стихотворении «Шереметевский сад»:
И неоплаканною тенью
Я буду здесь блуждать в ночи,
Когда зацветшею сиренью
Играют звездные лучи.
Образ Параши Жемчуговой то явно возникал, то шифровался и аукался с другой героиней «Поэмы» – Ольгой Судейкиной.
Что бормочешь ты, полночь наша?
Все равно умерла Параша.
Молодая хозяйка дворца.
Тянет ладаном из всех окон,
Срезан самый любимый локон,
И темнеет овал лица.
Не достроена галерея —
Эта свадебная затея,
Где опять под подсказку Борея
Это все я для вас пишу…
Эти строчки, к сожалению, не вошли в основной текст «Поэмы», но для объемности восприятия они важны, потому что потом мы встретим и локон, и галерею, и Борей, и Псишу – то есть почти саму Парашу, которую сыграет в 1913 году Олечка Судейкина.
По странной случайности у меня дома оказалось зеркало, перед которым гримировалась Параша Жемчугова. Оно досталось мне в наследство от Раисы Моисеевны Беньяш вместе с маленьким уникальным барельефом с изображением Ахматовой, подаренным Беньяш самой Анной Андреевной после Ташкента, где они одно время были дружны. У меня также осталось несколько фотографий, подписанных Ахматовой, и маленькая книжечка «Anno Domini», первого выпуска, с автографом автора: «Ты всегда таинственный и новый, / Я тебе послушней с каждым днем. / Но любовь твоя, мой друг суровый, / Испытание железом и огнем. 20 февраля 1922 года». Кому это посвящено – можно только догадываться. Может быть, Артуру Лурье? Но о нем речь впереди.
В 60-е годы, вспоминая, что послужило первым толчком для рождения «Поэмы без героя», Ахматова записала: «В дело вмешался и сам Фонтанный дом: древние, еще шведские дубы. Белый (зеркальный) зал, где пела сама Параша для Павла I, уничтоженный грот, какие-то призрачные ворота, и золотая клинопись фонарей в Фонтанке, и Шумерская кофейня…»
«Шумерской кофейней» называлась комната Шилейко, где стоял запах кофе и хранились дощечки с клинописью шумеров.
Белого зала, как мы выяснили, тогда еще не было, а пела Параша для Павла в так называемой Старой зале дворца. О гроте и о «призрачных» Литейных воротах, созданных в середине XVIII века, Ахматова знала из устных рассказов, потому что к началу XX века их уже давно не было. Или же она прочитала о них в знаменитой книжке Г. К. Лукомского «Старый Петербург. Прогулки по старинным кварталам столицы».