Текст книги "Записки русского тенора. Воспоминания, заметки, письма"
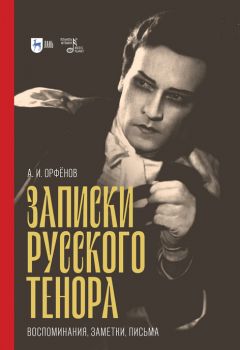
Автор книги: Анатолий Орфёнов
Жанр: Музыка и балет, Искусство
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 44 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Ленский, Альмавива, Герцог и другие
ЛенскийЛенский – не только моя любимая роль, но в известной мере и роковая, определяющая всю мою артистическую сущность. 198 раз спел я Ленского в Оперном театре имени Станиславского (последний 21 спектакль уже в объединённом Театре имени Станиславского и Немировича-Данченко). Я пел Ленского ещё будучи студентом Музыкального техникума, он стал моим первым героем у Станиславского, с ним же я дебютировал в Большом театре 19 марта 1942 года и за 14 лет спел его там 74 раза. Когда уже зрелым артистом я экстерном сдавал экзамен в Московской консерватории, моим дипломным спектаклем в Оперной студии тоже был Ленский. Ленского я пел на гастролях в Прибалтике, Средней Азии и за границей – в столице Югославии Белграде 26 февраля 1945 года, когда на спектакле присутствовал Иосип Броз Тито.
Первые воспоминания о Ленском надо отнести к моему раннему детству, когда я слушал на граммофоне пластинки Собинова. Это осталось в памяти на всю оставшуюся жизнь, и я ни разу не изменил этому Ленскому.
Всю жизнь после каждого спектакля я записывал свои краткие впечатления в дневник. Не раз подвергал критике каждую свою ошибку, радовался каждой удаче и анализировал, рассуждал без конца. Каждая фраза, каждая нота, особенно так часто встречающиеся в партии Ленского переходные ноты (из регистра в регистр), изучались мной с особой тщательностью. В конце концов я пришёл к выводу, что каждая нота зависит от подготовки к ней, от того, как взята предыдущая нота. На материале Ленского я научился вокальной дикции, резонаторному звучанию согласных. Совершенствуя роль, я постоянно находился «под контролем» таких учителей сцены, как Станиславский, Немирович-Данченко, Голованов, Хайкин, Мельтцер, которые все вместе заботливо вели меня к правильному раскрытию образа. Меня предупреждали, что Ленский нигде не должен «плакать», нельзя петь и играть обиженного мальчика – наоборот, надо искать мужественность в образе молодого героя. Но в то же время мы искали и находили тот романтизм, который присущ Ленскому у Чайковского.
На определённой стадии я стал опасаться портаменто и, как мне кажется, нашёл ту «золотую середину», когда есть легато, но нет певческих «подъездов» к верхним нотам на таких фразах, как, например, «Ах, Ольга, Ольга, прощай навек!». Я нашёл, что если первое обращение «Ах, Ольга, Ольга» пропеть-сказать быстро, тогда «Прощай навек» получится и устойчиво, и красиво. Я искал верную походку моего героя. На репетициях первой картины Станиславский требовал от меня, чтобы я «приклеил ноги к полу». Часто актёр, плохо владеющий своим телом, стоя на сцене во время квартета или разговора с Ольгой, переминается с ноги на ногу. Это в известной степени перекликается со словами Елены Катульской, которая говорила, что «ноги тоже поют». У певца, исполняющего роли юных героев, ноги не могут быть вялыми и пассивными. Они (особенно икры ног) должны быть упруги, напряжены. Это даёт настройку всей фигуре, всему корпусу.
Своего Ленского Чайковский задумал несколько иначе, чем он обрисован в пушкинском романе. В самом деле, у Пушкина в отношении к Ленскому есть сильный элемент если не насмешки, то уж во всяком случае мягкой иронии. О поэзии Ленского Пушкин там и тут отзывается весьма язвительно, что он пел «и нечто, и туманну даль, ⁄ он пел далёкий жизни цвет ⁄ без малого в осьмнадцать лет». Любовь Ленского к Ольге Пушкин также вышучивает. Рассуждая о том, что сталось бы с Ленским, не будь он убит, Пушкин говорит: «Поэта ⁄ обыкновенный ждал удел. ⁄ Прошли бы юношества лета: ⁄ в нём пыл души бы охладел. ⁄ Во многом он бы изменился, ⁄ расстался с музами, женился ⁄ в деревне, счастлив и рогат, ⁄ носил бы стёганый халат». Чайковский создал совершенно иной образ Ленского. Оперный Ленский наделён возвышенным лиризмом. Всё его поведение определено безграничной влюблённостью в Ольгу. Даже философская сторона партии Ленского – его «быть или не быть», которым наполнена первая половина предсмертной арии в сцене дуэли, после нескольких фраз снова переходит к теме любви к Ольге. Всё, что говорит или делает в опере Ленский, связано с Ольгой.
С точки зрения музыкальной фактуры партия Ленского написана довольно просто. И ариозо, и ария написаны в одноимённой тональности. Сообразно настроению поэта светлая жизнерадостная ария объяснения в любви идёт в ми мажоре, а предсмертная ария – в ми миноре. Даже обороты музыкальной фразы в общем имеют одно и то же строение мелодии, с той лишь разницей, что первая написана в мажоре, а вторая в миноре.

Партия Ленского повидала на своём веку немало талантливых исполнителей, но наиболее гармоничного слияния и внешнего, и вокального образа достиг Леонид Собинов. Огромное влияние на стиль постановок «Евгения Онегина» в советском оперном театре оказала работа Станиславского над этой оперой в своей студии. Наши лучшие Ленские – Сергей Лемешев, Александр Алексеев – делали роль Ленского под руководством мастера. А такие видные артисты, как Сергей Петрович Юдин и Иван Семёнович Козловский, которые шли в искусстве своим путём, не принимая целиком учения Станиславского и его экспериментов, также создали по-своему интересные образы юного поэта.
Первым Ленским, которого мне, юноше, страстно мечтающему о Москве и пении, довелось услышать по радио, был Собинов – не помню точно, но кажется, это была трансляция в сезоне 1926/1927, которую я слушал по маленькому детекторному приёмнику в гостях у своего старшего брата. Герой Собинова был по-детски наивен и романтичен в своей первой «любви навеки», его голос звучал очень молодо, свежо, чаровал своим тембром. Достойным партнёром Леонида Витальевича в том спектакле был Пантелеймон Маркович Норцов, с которым впоследствии мы много раз были партнёрами по «Евгению Онегину» в Большом театре. А тогда, как объявил диктор, он впервые пел Онегина. Впечатление было огромное. Я всё время спрашивал себя: «Неужели это всё тот же Собинов, пластинки которого я с таким трепетом слушал десять лет назад?»
И вот наконец я в Москве. Часто слушаю у своего дяди, маминого брата С. И. Манухина, все его пластинки – Собинова, Дамаева, Смирнова, Лабинского, Давыдова, Дыгаса. Бываю в концертах, в театре, слышу Леонида Витальевича живьём. Голос Собинова несколько изменился – певец стал глубже дышать, как бы тяжелее стало ему петь, манера исполнения стала более драматичной. Но за всем этим иногда нет-нет да и прорвётся прежний чистый собиновский тембр.
Горячим, темпераментным, более драматичным, по сравнению с другими, был Ленский Сергея Юдина. Великолепно «закрывалась» у него неприятная переходная нота соль, так часто встречающаяся в партии Ленского.
Совершенно индивидуально трактовал образ Ленского Николай Константинович Печковский, у которого с первого же появления на сцене Ленский носил черты трагической обречённости.
Своеобразно лепил образ И. С. Козловский – он подчёркивал пылкое юношество Ленского. И его стремительное вбегание на сцену в первой картине, и застенчивость в тот момент, когда старушка Ларина заставала Ленского, целующего ручку у Ольги в конце ариозо, и большая обида в сцене бала, когда от этой обиды Ленский – Козловский садится на стул на колени спиной к публике – всё это помогало Ивану Семёновичу доносить до зрителя детскость и непосредственность Ленского.
Один из лучших Ленских наших дней – С. Я. Лемешев. Он был мил, обаятелен и лиричен, его голос очень подходил к партии Ленского, многое в создании образа он взял по наследству у Собинова.
И вот в начале 30-х под обаянием личности Собинова я приступил к изучению партии Ленского, будучи уже студентом Музыкального техникума. Вначале я езжу в Арсентьевский переулок в комнатку к малоизвестному тогда концертмейстеру Нине Николаевне Габбиной (теперь – не нуждающейся в особых представлениях педагогу Н. Н. Делициевей, ведущей класс камерного пения в Гнесинском институте), с которой частным образом буквально за 10–15 уроков приготовляю всю партию Ленского в деталях. Работа над Ленским продолжается в оперном классе техникума. Режиссёром у нас был Ф. Ф. Эрнст, музыкальными руководителями и дирижёрами – М. М. Багриновский, А. И. Шпигель и В. И. Чернов. Просто, бесхитростно, как могли студенты, приготовили мы «Онегина». И впервые я спел Ленского 24 января 1934 года в выездном спектакле, который состоялся в городе Голутвине Московской области в клубе Коломенского завода. Когда мы приехали на место, то увидели, что везде по городу висят афиши, в которых сообщается, что состоится единственный спектакль с участием заслуженного артиста Республики С. П. Юдина! Оказалось, что устроители, заранее зная, что Юдин не сможет приехать на этот спектакль, сознательно шли на обман публики и привезли вместо именитого певца меня, никому не известного студента. Более того, они запретили мне говорить, что я приехал петь Ленского – я должен был говорить, что пою Трике. Перед началом спектакля меня загримировали и, только когда погас свет, объявили, что Юдин «не смог сесть в поезд по транспортным причинам» и что нас «выручает» артист, приехавший петь Трике. Надо знать, какой успех у публики имел в те годы Юдин, чтобы понять, какой ропот разочарования пронёсся по залу. Некоторое «примирение» с публикой произошло после ларинского бала, а после арии «Куда, куда вы удалились» раздались и первые аплодисменты.
Поступив в сентябре 1933 года по конкурсу в Оперный театр имени К. С. Станиславского, через полгода работы я был назначен на партию Ленского. Все поступившие в труппу должны были петь в хоре, участвовать в массовых сценах, а если удавалось – петь маленькие сольные партии, в каких у театра была нужда. Поступив в театр, молодые солисты обязаны были изучать «систему Станиславского», ритмику, пластику, одновременно разучивая хоровые партии в операх. Во главе музыкальной части стоял молодой дирижёр Борис Хайкин. Некоторое время спустя после моего поступления к Станиславскому, примерно в 1934 году, в театр вернулся Михаил Жуков – отличный музыкант, воспитанный в этом театре, но уходивший на некоторое время в Ленинградский театр имени Кирова. Дирижёрами также были Василий Ширинский, Юрий Муромцев, Михаил Григорьев, Александр Шавердов (последние трое одновременно и концертмейстерами). Хором руководили Константин Виноградов и Клавдий Тихонравов.
Режиссёрская группа театра в те годы соединяла в себе художников двух поколений. И если старшее (сестра и брат Станиславского В. С. Алексеев и 3. С. Соколова) с пиететом придерживалось каждой буквы системы, то младшее (П. И. Румянцев, М. Л. Мельтцер, В. В. Залесская, М. И. Степанова, В. Ф. Виноградов, Г. В. Кристи, Ю. Н. Лоран) пыталось творчески развивать сказанное Станиславским.
Ленского я начал готовить с концертмейстером А. И. Стенросом, дирижёром В. П. Ширинским и 3. С. Соколовой. Большим счастьем для меня было то, что на партию меня назначил пришедший в театр Л. В. Собинов. Во время прослушивания, на котором Леонид Витальевич знакомился с молодыми певцами театра, я показывал партию Эрнесто из оперы Доницетти «Дон Паскуале». Сразу же после этого прослушивания Собинов поручил мне готовить партию Ленского. Станиславского в это время в Москве не было – он лечился за границей. И над ролью Ленского со мной стал работать Собинов. Он шлифовал со мной партию, занимаясь её вокальной стороной, предостерегал от ошибок, искал верный, подходящий для того или иного отрывка звук. Наши занятия проходили на квартире Собинова в Камергерском переулке. К сожалению, работа эта оказалась недолгой – в октябре 1934 года великий русский певец скончался, не дожив до премьеры.
Репетиции проходили в помещении студии театра в Леонтьевском переулке, 6 – в тех самых колоннах, в том зале, где зарождался оперный театр Станиславского. Камерность этого небольшого зала давала возможность донести до слушателя мельчайшие нюансы и звука, и мимики. Подготовительная работа заняла почти год. Было проделано бессчётное количество этюдов. Чего только нас не заставляли делать с Ольгой (Антониной Клещёвой, с которой потом мы работали на Радио) – ив лодке катались, и в шахматы играли… Партнёры по спектаклю просто возненавидели друг друга – режиссёры требовали, чтобы изо дня в день в течение этого года каждый состав репетировал только с одними и теми же партнёрами.
Когда Станиславский вернулся из-за границы, меня ему представили. Он внимательно осмотрел меня и сказал: «А я Вас знаю. Мне о Вас писал Леонид Витальевич». Много лет спустя из опубликованной переписки Станиславского (Полное собрание сочинений, т. 8, письмо от 28 апреля 1934 г.; оригинал в Музее МХАТа) я узнал, что Собинов дал мне весьма лестную характеристику, написав Константину Сергеевичу: «Я распорядился, чтобы Орфёнов, у которого прелестный голос, срочно готовил Ленского, кроме Эрнеста из „Дон Пасквале“».
Сразу после приезда Станиславский начал ставить «Кармен», но, несмотря на свою страшную занятость, он всё же нашёл время для занятий со мной. Работа над ролью Ленского не протекала легко и гладко. Простой русский парень, выросший в деревне, я не имел понятия, как носить фрак, надевать белые лайковые перчатки, не знал манер высшего света, не умел танцевать бальные танцы. Константина Сергеевича очень смущали мои руки, судорожно прижатые к туловищу в локтях. Он заставлял меня сделать из ваты специальные подкладки и вставить их под мышки в ежедневно носимый пиджак. Обеспокоенный внешним обликом Ленского, Станиславский распорядился, чтобы мне подобрали фрак – и в каждом спектакле «Онегина» я выходил в массовке в полонезе во время петербургского бала в шестой картине оперы. В Театре Станиславского не было балета, и певцы сами должны были танцевать во всех спектаклях.
Константин Сергеевич внимательно вникал во все детали моей работы над образом Ленского. К занятиям с ним я уже был теоретически подготовлен – его сестра Зинаида Сергеевна читала нам теоретическую часть «системы». Прежде всего нас учили понимать, зачем тот или иной персонаж вышел на сцену. Задач перед артистом-певцом стоит очень много, но все они должны быть посвящены одной сверхзадаче. Как задача, так и сверхзадача должны быть глаголом. Артисты хотят играть на сцене чувства – любовь, месть, злобу, радость. Станиславский всегда говорил, что эти чувства являются результатом действия и что чувство на сцене играть нельзя – это будет выглядеть фальшиво.
Мы определили сверхзадачу Ленского, назвав её «хочу быть счастливым с Ольгой». Всю роль Станиславский распределял на отрезки, и у каждого была своя задача. Эти задачи – говорил Станиславский – являются огоньками, создающими линию, по которой и движется корабль. От этой линии нельзя отклониться – иначе обязательно заблудишься, пойдёшь не в ту сторону. Приведу примеры. Вот Ленский впервые появляется на сцене – он приехал в усадьбу Лариных. Главная задача Ленского – познакомить своего друга Онегина с сёстрами Ольгой и Татьяной, узнать его мнение о своей невесте. Вторая задача – во время квартета, когда Онегин говорит, что Ольга ему не нравится, – убедить друга, что он ошибается и Ольга лучше Татьяны. Ариозо «Я люблю Вас» имеет несколько задач: объясниться Ольге в любви, напомнить, что это любовь с детства и будет, как и положено у поэта, вечной.
На репетициях ларинского бала, когда Ленский упрекает Ольгу в том, что она всё время танцует с Онегиным, Станиславский кричал из зрительного зала: «Не верю Вам! Вы не жених, а ревнивый супруг, который читает очередное нравоучение жене. Это может быть на десятый год после свадьбы». Станиславский хотел, чтобы в этом эпизоде Ленский стремился выяснить для себя «Что сделал я?», в чем провинился перед Ольгой, что она предпочитает общество Онегина? «Нужно делать упреки очень мягко, как бы извиняясь, – говорил Константин Сергеевич, – искать ярких переходов от грусти к надежде, чтобы была видна огромная дистанция этих перемен». «Ах, Ольга, ты меня не любишь» звучит с грустной безысходностью. Но вот Ольга улыбнулась ему – и тут же – «Котильон со мной танцуешь ты» – полное примирение. И если бы не вмешательство Онегина («Нет, со мной») Ленский был бы счастлив и жив.
Любимым изречением Станиславского было «Пойте не уху, а глазу», он говорил, что на сцене нужно действовать и что действие бывает активным и пассивным. Певец, начиная известную арию «Куда, куда вы удалились», будто бы и не действует, но он видит перед собой не зрительный зал, а тот образ, который ему подсказывают сюжет и музыка. Эту арию Константин Сергеевич делил на четыре раздела с четырьмя разными задачами. Первый раздел – вспомнить, пережить всё былое, свои встречи с Ольгой, первую картину, ларинский бал. Второй раздел – «Блеснёт заутра луч денницы» – осмотреться кругом и со всей неотвратимостью осознать, что будет впереди. На словах «А я, быть может, я гробницы сойду в таинственную сень» Станиславский настаивал на том, чтобы не только Ленский, но и я сам видел перед собой разверстую могилу, в которой лежит в гробу мертвый Орфёнов. Становилось страшно, я даже пятился назад от этого страшного видения. Третий раздел – «Скажи, придёшь ли, дева красоты» – воображаемое последнее свидание, когда Ольга придёт на могилу Ленского. Станиславский и здесь ставил задачу: «Пою о „ранней урне“, но хочу, чтобы Ольга пришла сюда сейчас, тогда всё бы стало хорошо, вернулось бы счастье». Видеть, звать к себе Ольгу – «Сердечный друг» – и до конца не потухать. Но она не пришла, и тогда с сожалением звучит четвёртый раздел – реприза фразы «Куда, куда».
Пушкинское «правдоподобие чувствований» – что это такое на сцене? Артист– Ленский не может на сцене любить искренне и правдиво каждую партнёршу – Ольгу. Но образ Ольги, который он себе нафантазировал, он должен любить. Тут на помощь артисту приходит так называемая аффективная память, память прошлого, память о том, что человек уже пережил раньше. Если же актёр этого не пережил, тогда он всё это должен почерпнуть из прочитанных книг, которые особенно помогают в познании правды роли.
Долгие годы я пел Ленского – в Оперном театре Станиславского, в Большом театре, в спектаклях поставленных другими, иногда выдающимися режиссёрами. Но никогда ни один другой режиссёр не работал со мной над раскрытием образа юного поэта. Чаще всего это были постановщики, которые делали удачные или не очень аранжировки – откуда прийти, куда уйти.
Большинство репетиционных работ Станиславского записаны. Но как бы ни были искусны стенографисты, им никогда не передать тех тонких нюансов рассуждений, разговоров великого реформатора театра, которые залегли в ум, действия и самосознание тех, с кем он работал.
Итак, пришло время выпустить меня в спектакле. Перед генеральной репетицией меня, в гриме и костюме, на машине повезли на квартиру Станиславского (по болезни он не выходил из дому в последние годы) – и Константин Сергеевич долго проверял весь мой внешний вид: грим, парик, обувь. Волнение, ожидание чего-то нового, неизведанного… Но всё прошло хорошо. После спектакля, который, видимо, признали удачным, я стал так часто петь Ленского, что за первые семь месяцев спел эту роль 23 раза. Каково же было моё удивление, когда после моей удачи в роли Ленского, после всех этих спектаклей Станиславский снова назначил репетиции, решив «почистить» «Онегина». Он сказал: «Играя спектакль, мы так часто „заигрываем“, „забалтываем“ роль и от подлинного переживания скатываемся к привычному представлению». И всё началось сначала. Мы репетировали три дня – по картине каждый день: 21 ноября 1935 года – ларинский бал, 22-го – первый акт и 23-го – дуэль. В моём дневнике по поводу этой репетиции записано буквально следующее:
1-й акт. Вход. Прежде всего деловое представление. Брать и опускать руку Лариной. Без «компресса» с Онегиным у колонн (во время квартета в Театре Станиславского Онегин и Ленский говорили, стоя через колонну друг от друга, и у Ленских выработалась привычка так вцепляться в эту колонну рукой, что К. С. кричал из зала: «Опять компресс колонне делаете!»). С Ольгой «приклеить» ноги, а руки держать свободно. Во время ариозо сесть на край скамейки (ступеньки) и во время ариозо осторожно придвинуться к Ольге, но не спугнуть. Найти момент и поцеловать руку. Горячность, темперамент до конца ариозо. «Течение дня», – говорил Станиславский. Представить себе, как протекал день до приезда к Лариным, как я уговаривал Онегина поехать вместе.
Возвращаясь к волнительному дебюту в спектакле Станиславского, должен признаться, что при переносе на сцену репетиционных наработок не обошлось и без неприятностей. Мы всё время репетировали в маленьком зале в Леонтьевском переулке на площадке в несколько метров. И хотя мой первый спектакль Ленского 16 апреля 1935 года состоялся на старой сцене театра, которая до перестройки тоже была крохотной, всё же масштабы зрительного зала, наличие оркестра – всё это убедительно показало, что постоянно репетировать в комнате нельзя. Воодушевлённый установкой прежде всего на правдивую игру, желая вести себя на сцене так, чтобы мне поверили, я находился в таком внешнем и внутреннем напряжении, что слушатели, возможно, и говорили, что я хороший Ленский, тем не менее во многих местах партии я просто хрипел! На первых трёх спектаклях я вообще не мог спеть фразу «Желанный друг» в арии перед дуэлью. Темпераментное переживание эмоций Ленского мешало пению, которое в комнатке было вполне хорошим, но в условиях зрительного зала оказалось форсированным. Я не мог координировать своих очень резких движений, постоянно нарушая принципы дыхания. Наконец, желая совладать со своими вокальными неполадками, я на третьем или четвёртом спектакле решил ничего не играть, а думать только о том, чтобы убедительно и без брака спеть партию. Эффект был поразительным. После окончания оперы я ждал разгрома от режиссёра, ведущего спектакль, но она оказалась очень довольной. Чем же всё это можно было объяснить? Конечно, только тем, что артистическое самочувствие было за год репетиционной работы так «нажито», что, даже не думая о сценических задачах, я всё время был в верном сценическом образе.
В первых спектаклях мне никак не удавалось чисто спеть начало ариозо «В вашем доме». Ларина не всегда точно пела «О боже! В нашем доме! Пощадите!», а последняя нота её фразы и есть то самое фа-диез, с которого я начинаю своё соло.
Оркестр в этом месте молчит, и я никогда не попадал в эту ноту. Несчастье довершалось тем, что прекрасный дирижёр Ширинский, желая мне помочь, пальцем показывал, что нота либо низка (палец в этом случае указывал вверх), либо что нота высока (палец вниз). Что мне было делать? Оркестр молчит, в какой я нахожусь тональности, я не знаю, палец дирижёра окончательно сбивает с толку – пел как бог на душу положит и ждал спасительного вступления оркестра. Когда же «Онегин» перешёл к дирижёру Жукову, тот предоставил мне самому выпутываться и никак не реагировал на моё затруднительное положение в этом месте. Тогда я стал мысленно, про себя пропевать последнюю фразу Лариной – и после этого всегда вступал точно.
Ленский появляется в усадьбе Лариных, обуреваемый целым роем чувств. Это и гордость перед Лариной: вот вы не верили, что я вам его привезу, а я привёз. Это и желание поразить Онегина этим чудным миром семейного счастья и тихого уюта, и волнение по поводу того, понравится ли ему Ольга и Ларины вообще, и боязнь ехидного языка Онегина. Выход Ленского и Онегина был поставлен так, что Ленский и Ольга находятся на авансцене, а за их спиной – Татьяна и Онегин. Станиславский хотел, чтобы влюблённые Ольга и Ленский вели себя так, чтобы Онегин, который постоянно подтрунивал над Ленским, ничего не заметил такого, за что потом Ленскому пришлось бы краснеть. Когда Ларина говорит «войдёмте в комнаты», то для Ленского это ужасно: опять в комнаты, чинно сидеть за столом и пить чай с вареньем, а ведь Ленский почти мальчишка, ему хочется остаться здесь, в саду, улучить минутку, чтобы побыть с Ольгой наедине. Вот что промелькнуло у Ленского в голове. Потому он и выступил с предложением остаться здесь и спел «Прелестно здесь», желая убедить Ларину не идти в дом. И цель достигнута. Ларина отвечает – «Прекрасно» – и уходит.
Сцена с Ольгой «Как счастлив я» и последующее ариозо «Я люблю Вас» в постановке Станиславского были чрезвычайно трудны и крайне неприятны для Ленского. Весь этот краткий диалог происходил на глазах у Онегина, который стоял в двух шагах позади Ленского и в лорнет разглядывал Татьяну. Станиславский говорил: «Как счастлив я» – лицо, глаза, звук для Ольги, а спина – для Онегина и Татьяны. Пойте страстную фразу, а делайте вид (для Онегина), что вас больше интересуют луна, цветы, даже щепки на траве». Словом, посторонними делами усыплять бдительность Онегина. Но вот, забыв обо всех условностях, Ленский горячо объясняется, а Ольга отвечает довольно сдержанно и сухо (какой он, право, неловкий, при всех начал свои «долгий день», «вечность»). Но уж когда раздалось «но не для моей любви», Ольга просто не могла больше выносить эту пытку на глазах у Онегина, который всё слышит, и убежала в сад. Ленский кидается вслед за ней. Дальнейшие события, по-видимому, развивались таким образом, что Ольга так и не дала возможности Ленскому сказать ей о своей любви в саду (за кулисами). Для более верного восприятия образа Ленского интереснее рассуждать так. Ленский ежедневно бывает в поместье Лариных, играет с Ольгой в шахматы, катается с ней в пруду на лодке, но слова «я люблю вас» он говорит ей сейчас впервые. Для Ольги это момент, когда она из девочки-подростка превращается в девушку-невесту. Станиславский требовал, чтобы Ленский пел своё ариозо без единой улыбки, крайне серьёзно, приняв роковое для себя решение высказать наконец Ольге свои чувства; и если он это сделал неловко и не вовремя, то уйти и больше не тревожить свою богиню. Поэтому первые слова ариозо должны быть произнесены на ходу, как бы вдогонку Ольге, которая хотела спастись от Ленского в доме, но, услыхав слова любви, которых она давно, конечно, ожидала, вдруг остановилась, сразу… повзрослела и изменила своё решение – вместо того чтобы бежать в дом, сама пошла к ступенькам и села. Ленский присаживается рядом. Звук при этом попадает в кулису. Голос у меня всегда был небольшой, и естественно, что я хотел донести его до зрительного зала как можно в более полном объёме. Однажды на высокой ноте ля во фразе «как одна душа поэта только любит» я сам себя наказал за это, повернув только одну голову без туловища к публике – и пустил знатного «петуха». После этого я всегда старался петь эту арию только стоя, но объектом внимания при этом, конечно, была Ольга – я пел ей, а звук летел в зал.
Станиславский занимал певца «физическими действиями». Он настаивал, чтобы в ариозо слова «в тени хранительной дубравы» обращались бы к этому, окружающему нас саду, то есть вот именно здесь «я разделял твои забавы». И обратившись к Ольге, вдруг увидеть её в каком-то новом для себя свете, понять, что отныне она твоя невеста – отсюда это «ах» на до-диезе, трепетная нота, желательно профилированная на одном дыхании, связанная с последующим «я люблю тебя» и закрепляющая интимный переход на «ты». Многие склонны думать, что Ленский просто путается, говоря Ольге то «ты», то «Вы». Нет! С этого самого момента в ариозо Ленский говорит Ольге «Вы» лишь в момент своей большой обиды в сцене ларинского бала или же при всех, чтобы не показаться невоспитанным.
Очень выразительно была поставлена оркестровая интродукция к арии в сцене дуэли. Занавес открывался с первыми аккордами. На колонны, которые разделяли комнату в Леонтьевском переулке, надевали искусственную кору деревьев, сверху прибивали ветку с засохшими листьями. На сцене один Ленский. В оркестре проходит тема арии «Что день грядущий мне готовит?». Станиславский предлагал, чтобы во время этой интродукции зрители могли видеть на лице Ленского, как на киноплёнке, всё то, что пережил он до этого. Иногда это удавалось по-настоящему. И если Ленский действительно искренне переживал своё глубокое разочарование в жизни, в дружбе и любви, то это доходило до публики. Многие плакали.
Через много лет спектакль продолжал идти, и крупный оперный режиссёр Вальтер Фельзенштейн в своём письме к труппе Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко писал: «Ваша постановка – я сравниваю сейчас все виденные мною сценические интерпретации оперы – первая, полностью сохраняющая дух Пушкина. На протяжении всей оперы ощущается ясная мысль режиссёра, его концепция и намерения. Постановка Станиславского стала неумирающим памятником искусства. И мне кажется странным, почему в довольно неплохих оперных театрах мира ставят такие скучные и малоинтересные инсценировки „Онегина“ вместо того, чтобы ознакомиться с интерпретацией Станиславского, звучащей более современно, чем многие другие постановки».
В годы войны меня позвали в Большой театр, и моим дебютом опять стал Ленский. Филиал Большого театра (теперь Оперетта), где шёл тогда «Евгений Онегин», – это сценическая площадка, сильно превышающая по кубатуре размеры Театра Станиславского. Посыл звука, «количество» оркестра, размах – всё здесь другое. Здесь нет возможности для той более или менее интимной трактовки образа, какая была возможна в Театре Станиславского. Общение с партнёром – тем более прямолинейное, как в драме, – в условиях Большого театра невозможно. Если у Станиславского говорили о «четвёртой стене», то есть о том, что надо играть спектакль как бы в комнате, у которой одна из стен открыта для публики, то в Большом театре об этом не могло быть и речи. Искусство сценического общения в Большом театре обусловлено тем, что от певца, стоящего на самой близкой к публике точке сценического пространства, до дирижёра не менее 18 метров. Что же говорить тогда о последних рядах галёрки! Небольшим голосам (а я свой голос никогда сильным не считал) трудно донести свой звук до слушателя в последних рядах, для достижения чего они иногда начинают форсировать, напрягаться. Но акустика Большого театра такова, что форсированные голоса в ней не звучат. Мне вспоминается один спектакль «Снегурочки», когда исполнитель партии Мизгиря баритон Илья Богданов сказал мне своё впечатление о моём пении в каватине Берендея «Полна чудес»: «Что же там доходит до публики, когда я, стоя рядом в трёх метрах справа, ничего не слышу? И вдруг раздаётся гром аплодисментов!» Это говорит о том, что если небольшие голоса не форсируют, а умело резонируют, то они прекрасно заполняют зал.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































