Текст книги "Записки русского тенора. Воспоминания, заметки, письма"
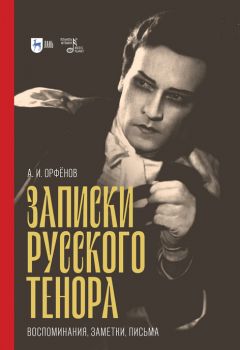
Автор книги: Анатолий Орфёнов
Жанр: Музыка и балет, Искусство
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 44 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
Третьей партией, над которой я работал под руководством Константина Сергеевича, был Герцог в «Риголетто». Как работал Станиславский над этой оперой, мне можно было бы и не говорить, потому что этот процесс подробно описан Павлом Ивановичем Румянцевым в его книге «Работа Станиславского над оперой „Риголетто“». Но у меня сохранились и какие-то личные ощущения и воспоминания, поэтому я всё же немного скажу об этом. Первые разговоры о партии Герцога со мной повёл молодой тогда дирижёр Леонид Фёдорович Худолей, пришедший в Театр Станиславского где-то в 1935-36 году.
Я знал, что первоначально на эту партию я не назначался, потому что в первом варианте у Станиславского Герцог должен был быть маленького роста, уродливый развратник. На эту роль были назначены Виктор Мирсков и Василий Якушенко. Оба они были небольшого роста и начали деятельно готовить партию Герцога. Вообще, работа над «Риголетто» началась в театре ещё в 1934 году, если не раньше. Правда, эта работа больше была посвящена новому тексту либретто. Проблему эту решали в театре упорно и добились кое-каких удач. Вновь был привлечён П. А. Аренский – хороший поэт, хотя в его прежних переводах для театра («Кармен», «Дон Паскуале») и мелькали, на мой взгляд, некоторые прозаизмы, не вполне уместные в оперных текстах. Риголетто говорит в начале первого акта графу Монтероне: «Ты глуп, как корова, но ведь это не ново», а рядом с поэтичнейшим дуэтом Хозе и Микаэлы в опере «Кармен» у главной героини были такие слова: «Я цыганка и капусту поливать не создана». Говорят, это почти буквально взято у Мериме, но мы знаем, что попытки приблизить оперу к литературному первоисточнику не всегда оправдывают себя. Впрочем, все эти прозаизмы были ещё не так страшны, как некоторая невокальность переводов. В «Доне Паскуале» знаменитая и очень трудная ария Эрнесто, идущая около 8 минут и содержащая 38 ля-бемолей и 9 си-бемолей, начиналась такими перлами:
Что мне осталось?
На спину котомку,
Очки в карман камзола
Да палку в руки.
И вперёд по дорогам, горам и долам…
Над текстом «Риголетто» вместе с Аренским много работали П. И. Румянцев, В. С. Алексеев и другие участники будущего спектакля. Сценически же до моего включения в состав исполнителей оперы ничего не делалось.
Виктор Петрович Мирсков был смелым актёром, которого Станиславский любил и о котором есть немало высказываний в его переписке с Собиновым. Ко времени начала работы над партией Герцога Мирсков уже пел в театре графа Альмавиву, а в дальнейшем был хорошим исполнителем партий Ленского, Лыкова, Рудольфа в «Богеме», Белкина в «Станционном смотрителе». Голос Мирскова – крепкий, большой по объёму лирический тенор – легко заполнял зрительный зал, и он частенько подтрунивал над моим «лёгким» лирическим голосом, говоря в шутку: «Нельзя же, Толя, так мало давать голоса, ведь тебя и в первых рядах-то не слышно!» Но товарищ он был хороший, и я его люблю. Жаль, что жизнь его сложилась так трагически. В первые месяцы войны 1941 года, посланный вместе с коллегой по театру, меццо-сопрано Надеждой Полетикиной, на передовую в составе Фронтовой концертной бригады № 13 (в этой же бригаде были «короли смеха» Рафаил Корф и Яков Рудин, Валентина Токарская, директор ЦДРИ Лев Лебедев – многие погибли), он был ранен и попал в плен. После возвращения был несправедливо репрессирован, и его дальнейшая певческая карьера разрушилась. Вторым на партию Герцога предварительно был назначен Василий Иванович Якушенко – неплохой характерный тенор. Но ему всю жизнь хотелось выступать в лирическом амплуа. Помню, что ему давали уроки по многим партиям лирического тенора: Ленского, Альмавивы, Герцога, тем не менее спеть ни одной из них ему так и не пришлось. Зато он был великолепный Шуйский – «Борис Годунов» у Станиславского шёл в оригинальной авторской редакции с оркестровкой П. А. Ламма, и в партии Шуйского не было этих крикливых си-бемолей, которые ввёл в свою редакцию Римский-Корсаков. Якушенко был очень неплохим актёром, и это, видимо, провоцировало наших режиссёров на то, что он может хорошо сыграть Герцога в «Риголетто». Это же вводило в заблуждение и Станиславского, который дал свою санкцию на назначение Якушенко. В итоге партию Герцога тот даже и не репетировал сценически, отойдя от занятий после первой же встречи с дирижёром. В такой ситуации я и был назначен на партию Герцога.
Было сказано, что у Константина Сергеевича теперь будет два варианта роли Герцога: один, как и задумывалось первоначально, невысокого роста сладострастный развратник, напоминающий Франциска I из драмы В. Гюго «Король забавляется», по которой создана опера Верди; другой – внешне красивый, стройный юноша, искренне увлекающийся каждой новой жертвой: дочерью Монтероне, графиней Чепрано, Джильдой, Маддаленой. «Риголетто» репетировался в студии в Леонтьевском переулке (репетиций со Станиславским было не более семи-восьми) и при переносе на основную сцену был несколько видоизменён, хотя Мейерхольд, пришедший в театр незадолго до смерти Константина Сергеевича, не только сохранил постановочный план Станиславского, но и несколько обогатил его. Как и во всех других операх, над которыми работал Станиславский, он стремился передать на сцене «жизнь человеческого духа», как он сам говорил. В «Риголетто» для него гораздо важнее было показать борьбу «униженных и оскорблённых» – Джильды и Риголетто, нежели удивить зрителей десятком красивых верхних нот певцов и пышностью декораций.
В первой картине при поднятии занавеса Герцог сидит за столом на верхней веранде замка, по образному выражению Константина Сергеевича, «обсаженный» дамами. Задачи, поставленные Станиславским перед Герцогом, были очень удобны для молодого певца без сценического опыта. Что может быть труднее, чем в самом начале спектакля стоять одному посреди сцены и петь так называемую «арию с перчатками», то есть балладу Герцога.
А у Станиславского Герцог пел балладу как застольную песню. Константин Сергеевич дал мне целый ряд задач – «физических действий»: обходить вокруг стола, чокаться с дамами. Он требовал, чтобы во время баллады я успел переглянуться с каждой из них. Этим он охранял артиста от
«пустот» в роли – некогда было думать о «звучке», о публике. Ещё одним новшеством Станиславского в первом действии была сцена порки Герцогом Риголетто плёткой, после того как тот «оскорбляет» графа Чепрано – этим он хотел подчеркнуть пропасть между «высшим светом» и «чернью». Эта сцена у меня никак не шла, порка получалась «оперной», в неё трудно было поверить, и на репетициях мне много попадало за неё.
В третьем действии Станиславский хотел показать Герцога как человека минуты и настроения. Без Джильды:
Пусты поля печальные,
Грустно стоят оливы;
Пыльны дороги дальние, ах,
Пыльны и молчаливы.
Когда же придворные рассказывают Герцогу, что «девчонка в твоём дворце», он весь преображается и поёт ещё одну арию (стретту), почти никогда не идущую в наших театрах. Ария эта очень трудна, и хотя в ней нет нот выше ля второй октавы, она очень напряжённая по тесситуре:
Прощаю вашу шутку,
Прощаю шалости эти!
Как чудно жить на свете,
Какой прекрасный день!
И ещё несколько встреч с Константином Сергеевичем, о которых я хотел бы рассказать. В 1936 году меня приглашали работать в Ленинград – в Малый оперный театр. После того как С. А. Самосуда назначили в Большой театр главным дирижёром и даже художественным руководителем (должность для тех лет уникальная – никогда, ни до, ни после никому не предоставлявшаяся!), в МАЛЕГОТ был назначен Борис Эммануилович Хайкин. Хайкин принимал меня в Театр имени Станиславского, дирижировал мне в операх «Евгений Онегин», «Борис Годунов», «Дон Паскуале» и в известной степени по праву считал меня своим учеником. Как только он поступил на работу в Ленинград, ему захотелось укрепить состав оперной труппы Малого оперного молодёжью, и он вспомнил обо мне. У меня хранится письмо, которое мне любезно привёз в Москву Кирилл Петрович Кондрашин, который тогда был дирижёром-ассистентом МАЛЕГОТа и работал там под руководством Хайкина. В этом письме Борис Эммануилович предлагал мне работу в Ленинграде, обещая продвижение намного большее, чем в Москве у Станиславского. Я должен был исполнить там партии Ромео и Берендея, а дальнейшее будет зависеть от меня.
Я ездил на пробу в Ленинград, спел под рояль в небольшом зале для дирижёров песню Левко и арию Рудольфа из «Богемы». Сразу же дали оркестровую пробу. Не скажу, чтобы я пел удачно, и, вероятно, своим выступлением никого не «убил», но всё же в театр меня пригласили. Как только об этом узнали в Москве в Театре Станиславского, директор Артур Григорьевич Орлов срочно посадил меня в машину и повёз в Барвиху – в санаторий, где лечился и отдыхал Константин Сергеевич. И вот, как кролик перед удавом, я сижу на стуле перед Станиславским и не знаю, что говорить. Константин Сергеевич был очень суров. Он говорил: «Вы что, хотите погибнуть? Хотите стать обычным оперным певцом? Погибнуть так, как погибли ушедшие от меня из театра Печковский или Жадан?!» Со страха я не знал, куда деваться. Какой там Ленинград! Страх перед Станиславским, трепет на репетициях – всё это производило на нас такое удручающее впечатление, что ослушаться или не исполнить его воли казалось невозможным. Ни жив ни мёртв сидел я на своей скамье подсудимых и что-то лепетал о том, что это ошибка, что я и не думаю уходить, что я хотел только попробовать свои силы, чтобы меня где-то ещё послушали и т. д. Конечно, я никуда не ушёл, да, пожалуй, и не очень жалею об этом. А в Малый оперный театр тогда был принят Павел Иванович Чекин, до этого работавший солистом Всесоюзного радио в Москве (годы спустя мы делили с ним один репертуар в Большом театре), и он рассказывал неоднократно, как нелегко ему пришлось в сложном коллективе МАЛЕГОТа с тем же самым Хайкиным.
Ещё одна встреча со Станиславским произошла в той же Барвихе морозной зимой 1936/37 года. Мы, артисты Театра Станиславского, приехали туда, чтобы дать концерт для сотрудников санатория. Решили показать монтаж «Дона Паскуале». Опера шла в условном оформлении, как обычно бывает в концерте. Публика в Барвихе всегда строгая, не очень щедрая на аплодисменты. Станиславский сидел мрачный, недовольный. После спектакля нас пригласили к столу на небольшой ужин-банкет, во время которого Станиславский распекал нас за выступление. «Умру, – говорил он, – разгонят вас или сошлют куда-нибудь в Тулу». Почему, собственно, в Тулу – никто из нас понять не мог. «Ничего-то я не понял, ни разу не рассмеялся!» Словом, всё ему явно не понравилось. Выручил нас присутствовавший на концерте Василий Иванович Качалов, который вместе со Станиславским отдыхал в то время в санатории. «А мне понравилось, – вставил он, – я смеялся от души. Ведь они молодые люди и очень волновались. Вы и сами, Константин Сергеевич, немало волновались при выступлении. Вспомните, как Вы во время гастролей в Америке забыли слова. Каково Вам было, помните?» Станиславский как-то сразу «отошёл». «Да-да, ужасно!» – говорит он своё любимое в таких ситуациях слово. Придя в хорошее настроение, обращается к сидящим рядом и говорит: «Положите-ка мне на хлеб кусочек сёмги – ужинать не разрешают!» – и с огорчением жалуется на строгий врачебный режим санатория.
Умер Константин Сергеевич 7 августа 1938 года, оставив многие из задуманных начинаний незавершёнными.

Ленский («Евгений Онегин», 1-я картина)
Оперный театр имени К. С. Станиславского

Ленский («Евгений Онегин», сцена Ларинского бала)
Оперный театр имени К. С. Станиславского

Граф Альмавива – «солдат» («Севильский цирюльник» Дж. Россини)
Оперный театр имени К. С. Станиславского (1938 год)

Граф Альмавива – «учитель пения» («Севильский цирюльник» Дж. Россини)
Оперный театр имени К. С. Станиславского (1938 год)

Эрнесто («Дон Паскуале» Г. Доницетти)
Оперный театр имени К. С. Станиславского (1937 год)

Герцог («Риголетто» Дж. Верди)
Оперный театр имени К. С. Станиславского (1939 год)

Белкин («Станционный смотритель» В. Крюкова)
Оперный театр имени К. С. Станиславского (1940 год)

К. С. Станиславский
Фото с дарственной надписью: «В знак признательности за активную помощь при постановке «Кармен» милому А. Орфёнову от К. Станиславского. 1935 24/ IV»

«Риголетто» Дж. Верди. Знаменитая сцена у домика Джильды. Герцог – Анатолий Орфёнов Джильда – Лариса Борисоглебская
Оперный театр имени К. С. Станиславского

Юродивый («Борис Годунов» М. Мусоргского)
Оперный театр имени К. С. Станиславского


Студийцы Оперного театра им. К. С. Станиславского (1934)
Анатолий Орфёнов – второй справа во втором ряду. Третий слева в верхнем ряду – дирижёр Борис Хайкин
Война и переход в Большой театр
Я считаю себя счастливым человеком. Среди многочисленных орденов и медалей, которые я надеваю по праздникам, есть одна наиболее для меня драгоценная – медаль «За оборону Москвы». Случилось так, что я не выезжал из Москвы со дня начала войны, кроме как для участия во фронтовых бригадах. Воспоминания о войне говорят мне о моих дорогих родных, погибших на фронте (брат, два племянника и множество других родственников).
Почти с самого начала войны я работал в двух театрах – в Музыкальном имени Станиславского и Немировича-Данченко и в Филиале Большого театра. Совмещать было трудно, так как одному театру не было никакого дела до работы в другом. И в конце концов меня окончательно перевели в Большой театр, что для меня явилось закономерным, поскольку я был знаком и дружил со многими артистами Большого, с некоторыми певал в концертах при исполнении кантат, реквиемов и оперных отрывков.
Страшное слово «война» я впервые услышал днём 22 июня 1941 года в Ярославле, где находился на гастролях Оперный театр имени К. С. Станиславского. Кто знал тогда, что каждая семья понесёт тяжёлые утраты? Когда убили на фронте моего старшего брата, две его дочери, которым вместе было 25 лет, остались сиротами – их мать тоже умерла незадолго до этого. Когда убили старшего сына моей сестры Юлии, мы долго скрывали от неё «похоронку». А когда убили второго её сына, мы только старались вовремя дать ей лекарство, когда она падала в обморок. Когда на фронте бригада артистов из нашего театра ехала в автобусе, отказали тормоза. Шофёр стал кричать: «Прыгайте на ходу, кто может». Наша солистка Оля Данилова спрыгнула, а Миша Кутырин, её муж, не успел. Так погибла бригада артистов театра, уже объединённого в первые дни войны. Самое длинное название появилось на театральной карте Москвы в военном октябре 1941-го, когда постановлением Правительства две такие разные труппы, как театры Станиславского и Немировича-Данченко, были слиты в одно целое под названием Музыкальный театр имени народных артистов СССР К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко. Первым спектаклем объединённого театра стали «Корневильские колокола».
* * *
Конец 30-х годов был счастливейшим периодом моей жизни. Дома – несмотря на стеснённые жилищные условия (с 1938 по 1942 год мы с женой и двумя старшими детьми жили в девятиметровой комнатке на девятом этаже без телефона) – царил мир, покой и порядок. Я очень много пел: в Оперном театре Станиславского, в Ансамбле оперы под управлением Козловского, часто выступал по радио и в концертах Филармонии. К фашизму и гитлеровской Германии относились настороженно, но запутанные пактом о ненападении, помпезными парадами наших частей на Красной площади, как-то не думали, что война – вопрос самого ближайшего будущего. Первый раз серьёзно задумались, когда Театру Станиславского не разрешили выпустить премьеру «Семёна Котко» Прокофьева в той редакции, как написал композитор. На обсуждении генеральной репетиции заместитель председателя Совнаркома А. Я. Вышинский сказал: «Ну если вы хотите, чтобы война с немцами началась сейчас, то тогда можно спектакль выпускать». И оперу переделали, заменив немцев гайдамаками. В результате и замысел Прокофьева, и сюжетная канва претерпели значительные изменения.
В июне 1941 года Театр Станиславского выехал на гастроли в Ярославль. Я был общительным человеком, и у меня вечером 21 июня были друзья. Разошлись поздно, не зная, что в эти часы на Западе уже шла война. Я жил на квартире врача, семья которого уехала на юг, а старая домработница сторожила жилье. И вот в полдень раздался звонок в дверь. Матрос принес хозяину повестку о явке в военкомат. Так я впервые услышал, что началась война, что немцы напали и уже бомбили Киев, Севастополь и Минск. Я побежал в театр – там уже слышали выступление по радио В. М. Молотова, которое заканчивалось словами: «…враг будет разбит, победа будет за нами!».
Спектакли шли, и гастроли продолжались. В Москву мы возвратились лишь 7 июля. Город жил подготовкой к эвакуации. Семья моя жила на даче в Загорянке Владимирской области – это по Северной железной дороге. Там мы по приказу свыше рыли траншеи для укрытия при налётах, которых вот-вот ждали. В театре меня уговаривали эвакуировать семью в Пензу вместе с другими семьями работников нашего театра, но моя Нина Сергеевна не хотела одна с двумя маленькими детьми ехать так далеко и предложила свой вариант – поехать на родину её родителей под Владимир. В конце концов, в театре настаивали на эвакуации женщин и детей, и мы приобрели билеты и решили ехать под Владимир в деревню Цепелево. Ехать старались ночью, боясь нападения немецких самолетов. В ночь с 20 на 21 июля мы отправились на Курский вокзал. Толпа народу, мы с вещами и детьми стоим у закрытых дверей тоннеля. Сыну было два года семь месяцев, дочери полтора года. Отправил я их, поезд отошёл. И я один пришёл домой.
Все рвались воевать, но было сказано: «Театр должен давать спектакли для москвичей и для воинов. Вам надлежит работать для фронта». Из нас, военнообязанных мужчин, были организованы бригады противовоздушной обороны – и не только в театрах, но и в домоуправлениях. На фронтах в первые дни войны наши войска отступали, ожидались налеты фашистской авиации, время для наступления ещё не приспело. Большинство женщин с детьми были эвакуированы, оставшиеся трудоспособные женщины копали противотанковые рвы вокруг Москвы и как санитарки дежурили на пунктах ПВО.
В первую же ночь, когда был налёт на Москву, 21 июля 1941 года мне довелось дежурить по дому. Мы жили тогда на улице Немировича-Данченко (Спасо-Глинищевский переулок) в доме № 5/7, и меня назначили дежурить на самый верх четырнадцатиэтажной башни, где стоял пулемётный расчёт зенитчиков. Нас хорошо проинструктировали, что при налёте с зажигательными бомбами нужно быть спокойным, подойти к упавшей на крышу «зажигалке» и, поддев её железной лопатой, сбросить на землю – там она уже не страшна. Но одно дело теория. Совсем другое – живая действительность. Сначала, когда с неба стали падать эти огненные лепёшки, мы сверху смотрели, как загорелись многие деревянные строения на Красной Пресне. Зажигательные бомбы казались нам огненными каплями, падающими прямо на головы! Но вот одна из «зажигалок» упала на крышу восьмого этажа – под окном моей комнаты! Не знаю, откуда у меня взялось столько смелости, чтоб с лопатой в руках спуститься по пожарной лестнице с четырнадцатого на восьмой этаж и сбросить эту зажигалку на асфальт. Вероятно, это можно было объяснить молодостью, да ещё полным незнанием того, как страшны фашистские бомбы. Я прочел много молитв, пока полз по этой лестнице и потом, пока соскабливал огонь «зажигалки» с крыши.
К утру всё стихло. Но дежурить на крыше нам больше не позволили – только на чердаках зданий. Прилетевшие вновь фашистские самолеты бросали уже не зажигательные, а фугасные бомбы, вовсю летели осколки зенитных снарядов. Падали бомбы и в самом центре. Погиб талантливый артист Театра имени Вахтангова В. В. Куза – бомба попала в зрительный зал театра и полностью его уничтожила, осталась только сценическая коробка. Во время дежурства погиб талантливый писатель А. Н. Афиногенов, когда фашистская бомба попала в здание ЦК партии, где он дежурил. Баритон В. Н. Прокошев считал себя заново родившимся, когда погиб известный певец Андрей Маркович Лабинский. Если мы сейчас пойдем по проспекту Маркса (Охотный ряд) мимо Библиотеки имени В. И. Ленина, то против станции метро увидим пирожковую. На этом самом месте, рядом со зданием, где теперь Музей М. И. Калинина, стоял дом, вернее, часть дома, куда попала фашистская бомба. В этом доме и жил А. М. Лабинский. Прокошев находился у него в гостях. Раздалась воздушная тревога. Прокошев побежал на станцию метро, а Лабинский с женой (старенькие были!) испугались переходить улицу – осколки зенитных снарядов падали и могли ранить прохожих, и они пошли в подвал своего дома. И бомба попала именно туда, разрезав дом на две части. Еще сутки были слышны их голоса, а когда откопали подвал, они уже задохнулись.
К началу войны два театра – Оперный театр имени Станиславского и Музыкальный театр Немировича-Данченко работали в одном помещении на Пушкинской, 17. В июне 41-го наш театр, как я уже говорил, был на гастролях в Ярославле, «немировичцы» – в Мурманске и Архангельске. При возвращении с гастролей у Театра Немировича-Данченко погибли все декорации – их разбомбили фашисты, налетевшие на железнодорожный состав. Многие из обоих театров ушли на фронт, некоторых перевели в другие театры. Объединение двух театров в один произошло неравномерно. Владимир Иванович был жив. Станиславский умер. Естественно, что почти все спектакли его театра постепенно отмерли, остались только «Риголетто», «Севильский цирюльник» и «Евгений Онегин». Из спектаклей Немировича шли оперетты – кроме «Корневильских колоколов», «Прекрасная Елена» и «Перикола». Надо было срочно выпускать новые премьеры на злобу дня и что-то весёлое, чтобы отвлекало от тягот войны. Объединённый театр быстро выпустил несколько советских опер – «Суворов» Василенко, «Надежда Светлова» Дзержинского и оперетту Штрауса «Цыганский барон» с новым текстом В. Шкваркина.
Сразу после того как произошло объединение, начали организовывать фронтовые бригады артистов по обслуживанию частей Красной армии. Пришла и моя очередь ехать на фронт. 24 сентября наша сборная бригада, в которую вошли певцы М. Л. Мельтцер, А. Т. Васильева, Ю. П. Юницкий и я, балетная пара, жонглеры и акробаты из цирка, баянист и чтица, выехала на фронт по маршруту: Орёл-Курск-Белгород-харьков. Никто не знал, что это был именно тот участок, куда предполагали наступать немцы. Ждали зимы, и экипировка была соответствующая – нам выдали комплекты зимних вещей. Я был одет в сапоги, галифе и полушубок, уцелевшие от костюмов «Тихого Дона». Прибыли в Орел, выступили в городе и в частях, расположенных в районе Орла, и выехали дальше. Следующая остановка была в городе Фатех (родина композитора Свиридова), где мы дали концерт для авиационной части, расположенной в этом районе. После концерта покормили нас чем-то, и мы легли спать. Вдруг приходит наш политрук Ваня Махрин и говорит, что пришла телефонограмма, где сказано, что надо срочно вернуть бригаду артистов в Орёл. Приказ есть приказ. Мы вскочили и ночью вышли на улицу к своему автобусу. Темно – затемнение. Авиационная часть улетела, кругом вспышки зеленых и красных ракет. Никого нет.
Как нарочно, автобус в первой же луже застрял. И вот мы – певцы и артисты, по колено в воде (это в октябре-то месяце) вытаскивали его из воды и грязи. Ну, наконец, вытащили и поехали в Орёл. Но штабы войск переменились за это время, и там нас никто не ждал. Было сказано только – немедленно выезжать из Орла, город в ближайшее время может быть оставлен, дорога на Курск-Белгород перерезана немцами. Мы скорее на вокзал. Из города уходил последний эшелон на Воронеж, но в поезда сажают только военных. Я вечно благодарен нашему политруку, он и в Орле проявил себя как герой. С пистолетом в руке он сумел убедить солдата, не пускавшего нашу бригаду в вагон, что мы не штатские люди, а артисты на обслуживании армии. Когда поезд тронулся, на платформе станции «Орёл» уже разворачивался танк с черной свастикой на боку!
Частая проверка документов, всё время предъявляем паспорта. А у нас девочка-жонглер Нази Ширай четырнадцати лет. Всякий раз, как шёл патруль, она лезла под лавку. Много лет спустя на одном из концертов меня чуть не сбила с ног интересная дама, которая с криком «Анатолий Иванович!» кинулась мне на шею. Это была Нази Ширай, солистка Москонцерта. Провели мы полагающиеся нам концерты в Воронеже и Боброве, и нам приказали возвращаться в Москву. Но легко приказать, а в поезд сесть нельзя. Одни поезда идут мимо с воинскими частями, другие везут штатских, но переполнены и даже иногда не останавливаются на станциях. В одном из вагонов было выбито окно, и мы – пятнадцать человек с женщинами и чемоданами, где были наши костюмы и ноты, влезли в вагон несмотря на протесты со стороны тех, кто был в вагоне. Публика негодовала, кричала на нас, думая, что мы как минимум спекулянты, едущие спекулировать в Москву.
Мы говорили, что мы – артисты, обслуживающие армию, но нам отвечали: «Знаем мы, какие вы артисты!» Пришлось Феде Кузнецову развернуть баян, и я запел «Солнце низенько». После этого ворчание стихло, и мы перевели дух на своих чемоданах.
Возвратившись в Москву, мы её почти не узнали. Мешки с песком на площадях и улицах, аэростаты воздушного заграждения, которые во время налетов поднимались наверх и мешали пикирующим бомбардировщикам бросать свои бомбы.
В театре меня очень ждали. Хотели возобновлять «Риголетто». Нас было только два исполнителя партии Герцога – я и В. П. Мирсков. Но он вместе с бригадой Корфа и Рудина оказался в плену, и я остался единственным Герцогом. Прежде всего, я должен был поехать к семье. О сдаче Орла было сообщено по радио, а бедная моя жена, вероятно, сходила с ума, не имея от меня никаких вестей. Меня отпустили на три дня, сказав, что 16 октября в одиннадцать утра оркестровая репетиция «Риголетто». Ехать надо было до станции Петушки, а там – пешком 25 километров! Но – как молоды мы были!.. Семью я повидал и как дисциплинированный человек 15 октября поздним вечером явился в Петушки, откуда шли в Москву пригородные поезда Горьковской дороги. Купил билет и сел в вагон. Но поезд подозрительно долго не трогается. Наконец объявили, что на Москву поезда отменили. Как, что – ничего неизвестно. Около шести утра из Москвы пришёл поезд, а с ним известие, что началась эвакуация, и по железнодорожным веткам, ведущим к столице, движение приостановлено.
Долго раздумывал я на станции. Вдруг в зал ожидания входят представители Комитета по делам искусств (тогда еще не было Министерства культуры), приехавшие на этом утреннем поезде. Я к ним. Они говорят, что Театр Станиславского и Немировича-Данченко эвакуируется в Ашхабад и что мне надлежит забрать семью и ехать в Туркмению. Начальник управления музыкальных учреждений Месхетели здесь же дал мне документ, удостоверяющий, что заслуженный артист Орфёнов А. И. с семьей направляется в Ашхабад, в чём мне оказывать всяческую помощь дорогой. Что делать?
Пошёл в обратный путь к семье – 25 км – поговорить с женой и подготовить её к поездке в Ашхабад. Жена в смятении, все вещи в Москве. Мы решили, что я должен пробраться в Москву, забрать детские вещи и вернуться, чтобы уже вместе с семьей ехать в Ашхабад. Эти несчастные 140 километров на попутном грузовике по шоссе Энтузиастов я добирался навстречу эвакуирующейся Москве целый день.
Когда я вошёл в театр, меня стали качать. Коллектив был в полном отчаянье. Решение об эвакуации в Туркмению, оказывается, было весьма странным. Оно касалось только девятнадцати народных и заслуженных артистов, так как Ашхабад отказался принять весь коллектив более чем в 200 человек. Этой компромиссной мерой хотели сохранить «золотой фонд» театра. Но что такое девятнадцать, пусть даже самых лучших представителей театра? Это в лучшем случае концертная бригада, а не театр. Зачем же тогда ехать так далеко, когда наша прямая обязанность – обслуживать фронт, армию!
Инициативные люди во главе с парторгом театра А. Р. Томским добились свидания с А. Н. Косыгиным, который был тогда заместителем председателя Совнаркома. Он принял группу, в которую входили М. Л. Мельтцер, М. С. Гольдина, Н. Ф. Кемарская, Г. М. Бушуев и И. М. Туманов. Наша депутация просила о том, чтобы остаться в Москве и обслуживать армию, а уж если отступать – отступили бы вместе с частями Красной армии. Косыгин поддержал это предложение, сказав, чтобы театр спокойно работал. «Но уж если придется вас эвакуировать, – сказал он, – то повезём вас в мягких вагонах». Образовался совершенно новый коллектив, так как часть работников всё-таки уехала в Ашхабад. Директором стал И. М. Туманов, главным режиссёром – П. А. Марков, главным дирижёром – А. В. Алевладов, главным хормейстером – А. С. Степанов.
Началась фронтовая жизнь театра. Ежедневно шли спектакли, которые начинались в 12 часов дня – самое удобное время, потому что до пяти вечера налёты и тревоги бывали редко. В зале сидели солдаты и офицеры, чаще всего в шинелях – театр не отапливался, и на сцене, и за кулисами температура часто опускалась до трёх градусов тепла. Холодно было раздеваться донага, чтобы одеть театральные костюмы. Помню один из спектаклей «Риголетто», когда я одевал трико Герцога почти при нулевой температуре. Но артисты вели себя так, как этого требовало действие: декольтированные платья у дам, балетные артисты вообще полуголые. В конце концов, я заболел эксудитивным плевритом.
Бывало и так, что спектакль начинался, но объявляли тревогу. В моём дневнике осталась запись: «28 октября начался „Евгений Онегин“. После „Ларинского бала“ объявили воздушную тревогу. Спектакль был перенесён на 30 октября. Только начали спектакль 30-го, как вновь тревога. Спектакль был перенесён на 2 ноября, и тогда благополучно доиграли от начала до конца». Часто прямо в костюме и гриме мы направлялись дежурить к местам обороны – пожарным крышам. У меня сохранился снимок в костюме графа Альмавивы с брандспойтом в руке (фото Е. Явно).
Параллельно со спектаклями шли ежевечерние концерты, в том числе и на переднем крае обороны (части, расположенные в Солнечногорске, Химках, Кубинке, обслуживались артистами нашего театра). Кроме этого, обслуживались госпитали, расположенные в Москве. Часто мы выступали в Институте нейрохирургии имени Н. Бурденко. Концерты проходили в сложных условиях. Песни Великой Отечественной родились позднее. А что нам было петь на тему дня? «Смелого пуля боится, смелого штык не берёт»? Тогда получится, что все раненые – трусы. Хорошо, что у меня в репертуаре нашлись «Песня о Москве» Тихона Хренникова, которую я озвучивал в фильме «Свинарка и пастух», и «Москва майская» («Кипучая, могучая»), да ещё несколько народных русских и украинских песен – так, что я был в более выгодных условиях, чем остальные артисты. Никогда не забуду одного концерта, который мы давали для Московской Коммунистической дивизии. Коммунисты объединились в самые решающие дни обороны Москвы, чтобы стоять насмерть. Посреди концерта объявили перерыв – будет трансляция торжественного заседания в связи с 24-й годовщиной Великого Октября. Теперь уже раскрыт секрет, что это заседание шло на станции метро «Маяковская». А тогда мы не знали и никак не могли догадаться, где заседание. Но то, что оно идёт в Москве, как и в обычные годы, вселяло оптимизм и веру в победу. «Враг будет разбит, победа будет за нами!» – эти слова, когда фашисты находились в нескольких десятках километров от Москвы, очень помогали и фронту, и тылу. Несколько месяцев спустя я встретил комиссара этой дивизии. Мы стояли около ЦДРИ и вспоминали этих замечательных воинов. Он, заикаясь после тяжелой контузии, рассказывал, что коммунисты Москвы сдержали слово и не пустили врага к Москве. Почти все они остались на поле боя, кроме нескольких человек – раненых и попавших в госпиталь.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































