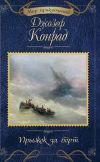Текст книги "Хаос и симметрия. От Уайльда до наших дней"
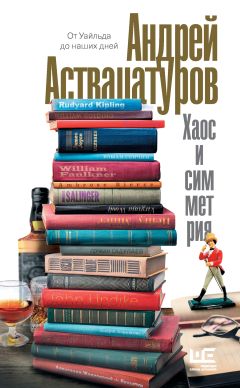
Автор книги: Андрей Аствацатуров
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Обратимся теперь к само́й материи текста. Подобно тому как поглощаются хаосом непрочные форпосты цивилизации (островки разума), в повести растворяются готовые модели и опоры, которые обычно предлагает читателю литература. Я имею в виду в первую очередь фабулу и слово. Марлоу принадлежит к категории ночных рассказчиков, а не дневных. Свою историю он начинает сразу же после заката, а заканчивает уже ночью в глубокой темноте. Дневной автор неизменно бодр, энергичен и рационален. Его рассудок великолепно контролирует фантазию, сюжетно направляя ее поток в “адекватное русло”. Дневной автор – страж порядка, аполлонический созидатель такого космоса, где каждая звезда, каждая планета и каждое произнесенное слово – на своем месте.
Иное дело – автор ночной. Он весь во власти лихорадочной фантазии, полусна, сбрасывающего оковы рассудка. Бессознательное являет ему уже не упорядоченный космос, а дикий первородный хаос, поток нерасчлененных форм и одновременно утопическое будущее. Романтические герои (Прометей П. Б. Шелли) нередко в своих снах и полуснах видят фантастическую явь грядущих эпох. Именно таков Марлоу, с тем лишь отличием от героев Шелли, что ночной мир предлагает ему не розовую романтическую утопию, а кошмарную картину Апокалипсиса, крушения европейского сознания и самой Европы. Марлоу как ночной автор не в состоянии держать форму и строго организовывать свою фантазию в привычный для его слушателей сюжет. Пожалуй, сейчас, в XXI веке, памятуя о формальной эквилибристике века двадцатого, я не смогу точно определить, что такое “привычный сюжет”. Но если мысленно вернуться к концу XIX века, когда была опубликована повесть Конрада, то, скорее всего, речь могла бы идти о тексте, где есть строгая временна́я последовательность, есть цепь причин и следствий и, наконец, достойная всякой профессиональной литературы триада: завязка – кульминация – развязка.
Триада вполне соблюдена, разве что только кульминация непривычно растянута. Но по мере развертывания рассказа фабульность, порядок начинают таять. Иногда нарушается временна́я последовательность, и рассказчик совершает вылазки в будущее. Исчезает четкая причинно-следственная обусловленность эпизодов. И текст постепенно превращается в тягучую магму, в поток непрерывно сменяющих друг друга впечатлений, диалогов, картинок, запахов, звуков, рассуждений. Это движение выглядит абсолютно непредсказуемым, чудовищно произвольным, спонтанным. Текст теперь не знает и ничего не хочет знать о каких-то формальных правилах. Возникает потрясающее совпадение формальных поисков и проблематики. Форма повествования, поток, становление соответствуют идее иррациональной воли, которую обнаруживает Марлоу по мере увлечения собственным рассказом в самом себе. Структурной опорой текста становится не событийность, а система лейтмотивов, образов, повторяющихся в разных контекстах и обрастающих новыми смыслами. Это река, вода, лес (заросли), туман (мрак), грязь.
Растаявшее слово и символыЭффект таяния, постепенного растворения читатель, возможно, ощутит, проследив за теми метаморфозами, которые происходят с конрадовским словом. С самого начала Марлоу как-то неуютно в мире готовых, чужих слов, взятых напрокат названий и имен. Он им не доверяет и старательно избегает обозначать мир так, как это принято. Лондон, Брюссель, Африка, Конго остаются в его рассказе безымянными. Равно как и все действующие лица, за исключением самого главного – Курца. Возможно, люди лишены имен, потому что они, дикари и европейцы, участники чудовищных коллективных проектов, их недостойны? А моря, и реки, и континенты – потому, что противятся их рациональному освоению и обозначению? В любом случае в апокалиптическом пространстве так и должно быть – безымянные люди, живущие на безымянной земле.
Марлоу даже не прочь трагически посмеяться над нелепыми попытками европейцев обозначить реальность:
Every day the coast looked the same, as though we had not moved; but we passed various places – trading places – with names like Gran’ Bassam, Little Popo; names that seemed to belong to some sordid farce acted in front of a sinister back-cloth.
Каждый день мы видели все тот же берег, словно стояли на одном месте, но позади осталось немало портов – торговые станции – с такими названиями, как Большой Бассам или Маленький Попо; эти имена, казалось, взяты были из жалкого фарса, разыгрывавшегося на фоне мрачного занавеса.
Обозначение, наименование в данном случае означает колонизацию. Стало быть, слово так же погибнет, так же будет поглощено зарослями хаоса, как и любой европейский форпост на диком континенте. Оно случайно, неуместно, не укоренено в основании жизни. Какое слово? Слово, оказавшееся волею истории на службе у разума, который решительно никакого права не имеет себе его присваивать. Впрочем, до сюрреалистической революции, освободившей слово, еще почти два десятилетия. А Марлоу, недовольный словом, все-таки остается в пределах литературы. Он перебирает слова, перебирает словами, осознавая, что они вряд ли передадут то, что ему довелось испытать. “Do you see the story? Do you see anything?” – “Видите ли вы этот рассказ? Видите ли вы хоть что-нибудь?” – тщетно допытывается Марлоу у своих слушателей.
Марлоу отваживается на путешествие к основанию слов, к началу всякой речи, к музыке, молитве, к молчанию. Приступив к рассказу, избегая названий, он пускает в ход многослойные символы. Змея-река (Конго), крышка гроба (Брюссель), парки, прядущие нить судьбы (женщины, служащие в конторе). Тотчас же появляются и другие, уже названные мною: лес, туман, солнце, грязь, тишина. Символизация, в принципе, таит в себе много опасностей. Символ, свернутый миф, заключает в себе культурную память, вековое знание. Использование символа часто приводит к подмене острого восприятия, слухового ощущения – знанием. Великих символистов конца XIX века современники, те, кто “без божества, без вдохновенья”, обвиняли в том, что они пишут о том, что знают, а не о том, что видят. Марлоу избегает этой опасности. Символы в его рассказе возникают сначала как конкретные земные вещи, элементы ландшафта. А через какое-то время появляются в тексте как составляющие метафор и сравнений, описывающих состояние персонажа.
Например, грязь, которую видит Марлоу на станции, вполне зрима и осязаема:
It was on a back water surrounded by scrub and forest, with a pretty border of smelly mud on one side, and on the three others enclosed by a crazy fence of rushes.
Она расположена была у заводи, окруженной кустарником и лесом; станция была обнесена с трех сторон старой изгородью из тростника, а с одной стороны тянулась полоса вонючей грязи.
Это упоминание грязи неожиданно откликается в другом месте повести, где рассказчик беседует с одним из агентов:
I let him run on, this papier-mache Mephistopheles, and it seemed to me that if I tried I could poke my forefinger through him, and would find nothing inside but a little loose dirt, maybe.
Я дал выговориться этому Мефистофелю из папье-маше, и мне чудилось, что, если б я попробовал проткнуть его пальцем, внутри у него не было ничего, кроме жидкой грязи.
Здесь же Марлоу вновь упоминает грязь, причем не вполне понятно, в прямом значении этого слова или в переносном:
The smell of mud, of primeval mud <…> was in my nostrils.
Запах грязи – первобытной грязи! – щекотал мне ноздри.
Слова, обозначающие грязь, заключают в себе одновременно предметный и символический смысл. Эти смыслы объединяются в третьем примере и прочитываются следующим образом: грязь есть хаос, первооснова жизни. Грязь всегда первобытна. Она (первобытное начало) заключена в человеке (пример с агентом) и готова в любой момент прорвать оболочку цивилизованного разума, которая призрачна и непрочна. Заметим, что Конрад во всех случаях не эксплуатирует одно слово, а старается подобрать максимальное количество синонимов, растягивая сетку наименований. Грязь обозначается в тексте как “mud” и “dirt”. Разные слова вырастают из общей коллективной памяти и, выстраиваясь в один синонимический ряд, нагружаются глубинным смыслом. Символическое значение растворяет в себе значение лексическое, случайное, немотивированное. Это соответствует постепенному движению Марлоу к глубине собственного “Я”, к потоку мировой воли. Слова обретают существование вещей. Они становятся плотными, предметными, объемными.
I listened, I listened on the watch for the sentence, for the word, that would give me the clue to the faint uneasiness inspired by this narrative that seemed to shape itself without human lips in the heavy night-air of the river.
Я слушал, слушал, подстерегая фразу или слово, которое разъяснило бы мне смутное ощущение беспокойства, вызванное этим рассказом. И слова, казалось, не срывались с губ человека, а падали из тяжелого ночного воздуха, нависшего над рекой.
В кульминационные моменты, когда происходит соприкосновение с чудовищным, речь Марлоу прерывается, и слово окончательно тает, растворившись в молчании, откуда оно когда-то появилось.
Воцаряется жуткая тишина, и открывается мировой хаос, таящийся в вещах, в человеческой душе и в великом искусстве слов.
Хаос или порядок?
О романе Джеймса Джойса “Улисс” (глава “Лестригоны”)
"Улисс” (1921) сочинялся Джеймсом Джойсом долгих семь лет и, хотя являлся миру дозированно, по главам, стал литературной сенсацией еще задолго до своей окончательной публикации. И тотчас же снискал себе репутацию очень сложной и путаной книги. Вдобавок непристойной, причем настолько, что ее запретили во всех англоязычных странах. Цензурные ограничения, как известно, имеют свойство подогревать любопытство, чувство сильное, но низкое и кратковременное. Оно быстро вспыхивает и столь же быстро угасает. С “Улиссом”, во всяком случае, дела обстояли именно так. Несмотря на восторженные отклики одних авторитетов и злопыхательские других, широкую публику роман оттолкнул, явив истории страннейший феномен произведения, о котором все говорят, но которое никто не читает.
Что, в общем-то, и неудивительно. Вместо привычного сюжета здесь монотонная чехарда образов, диалогов, цитат, глубокомысленных рассуждений, перемежающихся натуралистическими подробностями. И еще – маловразумительный поток сознания, вкупе с увечными, обрубленными фразами, где оскорбительно не соблюдаются элементарные правила синтаксиса, грамматики, а порой даже орфографии. Вот, к примеру, как начинается 11-я глава романа (“Сирены”):
С этой главой, кстати, произошел конфуз. Джойс отправил ее по почте, и бдительный цензор, перлюстрировавший корреспонденцию, решил, что перед ним какой-то тайный шифр, возможно шпионский. Письмо было задержано и предъявлено для выяснения местному критику. Тот, прочитав “Сирены”, заверил цензора, что это не шифр, а проза, притом весьма изысканная. Цензор удовлетворился и разрешил письму уйти по назначению.
“Улисс” построен так, что ты теряешь нить повествования, путаешься в мелких подробностях, которые краткосрочная память не удерживает. Это – сущий ад для читателей. И рай для филологов, особенно тех, кто принадлежит к племени старательных комментаторов. Сиди, разбирайся, анализируй, пиши статьи, монографии. Джойс надолго обеспечил работой несколько поколений гуманитариев. Более того, он облегчил им работу, составив специальные схемы и таблицы. Он охотно давал комментарии по поводу романа, разъяснял своим друзьям значение тех или иных образов, указывал на скрытые в романе цитаты, словно специально готовил почву для будущих исследований.
И они не заставили себя ждать. Уже при жизни Джойса о нем в большом количестве сочинялись и статьи, и монографии. Джойсоведение ширилось, наступало, вовлекало в свою орбиту все больше и больше филологов, в какой-то момент даже обзавелось собственным журналом “James Joyce Quarterly”. Однако к восьмидесятым годам прошлого века всё утихомирилось. Обстоятельная биография Ричарда Эллманна “Джеймс Джойс”, удостоенная двух престижных премий, и комментарии Дона Гиффорда к книгам великого мастера поставили в джойсоведении жирную точку, наподобие той, которую сам Джойс поставил в “Улиссе” после 17-й главы. Она в его случае означала, что силлогизм (таким он видел свой роман) разрешен, что доказательства предъявлены и теперь в качестве бонуса читателю – эпилог, солилоквий Молли Блум, полный альковных откровений.
С исследованиями текстов и биографии Джойса случилось нечто похожее. Наступила пора эпилога. Все было завершено, опубликовано, откомментировано, разжевано и переварено. Сменилось несколько поколений джойсоведов. Их армия заметно поредела, хотя по-прежнему пополнялась новобранцами, – эпилог еще не завершился. Оставались неучтенные записки, заметки, свежеобнаруженные письма Джойса к жене – они, впрочем, оказались малоинтересными, слишком личными и порнографическими. Оставалось еще слабо изученное окружение Джойса. Оставались тексты, в отношении которых у джойсоведов так и не сложился интерпретационный консенсус: сборник рассказов “Дублицы”, роман “Портрет художника в юности”, пьеса “Изгнанники” – всеобщий интерес к “Улиссу” и к энигматичным “Поминкам по Финнегану” отодвинул их в тень. Но к началу XXI века джойсоведение, кажется, окончательно себя исчерпало и неожиданно оказалось в ситуации кризиса, причем особого рода: когда за бессчетными деталями исчезает общее представление о художнике. У джойсоведов последнего поколения есть всё: тексты, многократно проанализированные, факты, архивы, теории. Но нет главного, того, что отличало первопроходцев, – нет энергии, напора, нет вдохновения и, главное, желания объяснять, зачем все это случилось в начале прошлого века и как нам теперь, в веке нынешнем, правильно обращаться с “Улиссом”.
Открывая книгу, мы жаждем удовольствия эстетического. А не научного, которое всегда испытывает дотошный аналитик. “Улисс” требует невероятных интеллектуальных усилий, требует обращения к комментариям и, видимо, никогда не наградит нас взамен удовольствием от просто прочтения текста. Слишком уж много времени мы провели в рассудочном неудовольствии, в изматывающей попытке разобраться, что тут, собственно, происходит. И все же эстетическое удовольствие здесь возможно. Более того, это удовольствие может сделаться утонченным, ренессансно соединяющим вечно непримиримые сферы: интеллект и чувство.
Ответы на вопрос, зачем Джойс все это изложил таким странным способом, когда-то уже были даны. И даже сейчас они кажутся вполне внятными. Сложность “Улисса”, как и других модернистских текстов его времени, бросается в глаза и резко контрастирует с простотой сочинений, относящихся к предыдущему реалистическому времени. В литературе XIX века все было вроде бы несложно, совсем как в жизни. Время измерялось минутами, пространство – милями. Сознание человека – мыслями, выстроившимися последовательно и логично. Понятны были чувства, мотивы поступков, переходящие в сюжетность, иногда даже инригующую и замысловатую. Но в начале ХХ века мир в глазах людей теряет свою простоту и понятность. Пространство оказывается куда многомернее, чем виделось прежде. Время уже плохо напоминает хронометр, отмеряющий минуты, и превращается в непрерывный поток. Да и содержание человека становится иным. Движение мыслей и чувств, некогда подталкивавшее сюжет, теперь оказывается следствием более глубоких, подспудных процессов, архаических, бессознательных, безъязыких. Сами сюжеты уже не признаются смыслообразующими и нередко оцениваются как нелепые условные схемы, обедняющие представление о жизни, текучей и всегда изменчивой. Сюжеты возвращаются в книги модернистов, но уже раскисшими, вялыми, едва ли способными организовать текст, который теперь занят не интригами, не внешними эффектами, а поиском собственных оснований.
Именно таков “Улисс” Джеймса Джойса. Это не сюжет, не интрига, а гигантская конструкция, предъявляющая читателю свои внутренние механизмы. Это машина, которая движется за счет того, что непрерывно себя разбирает, анализирует собственные истоки, открывает в цитатной череде тексты, пробудившие ее к жизни, и стоящие за этими текстами другие тексты. И так до бесконечности, проникая сквозь толщу Нового времени к Средним векам, затем – к Античности и, наконец, к архаике, к древним мифам и ритуалам. Возможно, ритуал и есть начало всего, первопричина культуры? Но нет. Ритуал для Джойса – всего лишь ультрасовременная научная конструкция, придуманная этнографами и антропологами. И, протиснувшись сквозь пласты тысячелетий, мы выныриваем в современность, но лишь затем, чтобы снова начать погружение: машина под названием “Улисс” вот уже сто лет работает бесперебойно. И тогда нам открывается горькая истина: у культуры нет никаких оснований. Сегодняшний день рожден прошлым, которое, в свою очередь, сочиняется сегодня. Настоящее неодолимо. Единственное, что нас спасает, – вдохновенная игра, художественная, интеллектуальная, демонстрирующая нам, как якобы рождалась эта картина, та, что сейчас у нас перед глазами, как рождалась наша речь, современный способ изъясняться. Мы научились видеть, говорить, убеждает нас Джойс, благодаря Гомеру, Вергилию, Данте, Шекспиру, Гёте. Их взгляд сохранился в нашей оптике, их следы отпечатались в нашей речи в виде цитат, слов, образов. Пожалуй, здесь и лежит объяснение сложности “Улисса”, его непрерывной игры слов и цитатности, в которую нас погружает Джойс.
* * *
Сюжет романа вызывающе прост. Обычный день (19 июня 1904 года) из жизни самого обычного человека, дублинского рекламного агента Леопольда Блума. Он просыпается в своей квартире на Экклс-стрит, 7, завтракает, идет в лавку, посещает общественные бани, едет на похороны старого приятеля, заходит в редакцию газеты “Фримен”, потом в трактир Дэви Берна – перекусить, покупает своей жене книгу, сидит в баре отеля “Ормнод”, затем – в кабачке Барни Кирнана, где становится объектом инвектив ирландского националиста, после оказывается на городском пляже и т. д., а в конце, подобно Одиссею, возвращается домой к своей Пенелопе, жене Молли. Всё обычно. Заурядный день, разве что омраченный для Блума догадкой, что жена ему изменяет.
Этот сюжет и микроистории, его составляющие, обнаруживают в “Улиссе” при помощи вкрапленных цитат множество родственных историй и сюжетных схем из предшествующей литературы. Прежде всего – это путешествие гомеровского Улисса (Одиссея), давшее роману Джойса заглавие. Сам Леопольд Блум помимо реального прототипа, некогда проживавшего в Дублине, как показывает текст романа, имеет бесчисленное количество литературных прообразов, которые в нем открываются. Тут Эней, Христос, Данте, Гамлет, Дон Жуан, Робинзон Крузо, старый мореход С. Т. Кольриджа, Зигфрид Рихарда Вагнера, доисторический жрец и даже умирающий (воскресающий) бог растительности из книги антрополога Джеймса Джорджа Фрэзера “Золотая ветвь”.
Я уже отмечал очевидную сложность “Улисса”, затрудняющую чтение, – нагромождение образов, цитат, рассуждений, часто без традиционных логических переходов в духе “он сказал”, “она подумала” и иногда – без знаков препинания. Взгляд читателя сбивается, путается. Короткая память не удерживает слово, как бы случайно оброненное в начале романа и эхом отозвавшееся в середине. Все рассыпается, как горох по полу. Дорожные карты, таблицы соответствий, составленные Джойсом, комментарии, написанные Доном Гиффордом и Сергеем Хоружим, помогают не слишком. От понимания того, что “Улисс” – современная версия “Одиссеи”, что каждый персонаж “Улисса” соответствует гомеровскому персонажу, а каждая глава – гомеровской песни, тоже легче не становится. Ощущение хаоса, разобщенности предложений, абзацев и глав (они написаны в разных техниках) все равно остается.
Видимо, разобрав до основания литературную вселенную, Джойс так и не удосужился ее собрать, что само по себе странно. Ведь не мог же этот великий мастер забыть заветы Аристотеля, забыть, что искусство – прежде всего синтез. Сторонники традиционных реалистических методов удрученно разводили руками. Герберт Уэллс, одобривший в свое время “Портрет художника в юности”, даже написал автору “Улисса” резкое письмо, уведомив, что теперь их пути в литературе расходятся. Но высказывались и другие мнения о том, что необъятная панорама хаоса, представленная в “Улиссе”, – слепок сознания европейца рубежа веков, который утратил религиозное чувство, сводившее воедино всё и вся, и вместе с ним утратил целостность восприятия жизни, чувство истории. Европеец окончательно забыл символические смыслы, мерцавшие в предметах, и предметы сделались для него обычными предметами обихода, функциями. Именно такими вещи и события предстают в сознании Леопольда Блума. Разделенными, обособленными, пустыми знаками. Занятно, что Блум много чего знает, даже подозрительно много для обывателя, строго говоря, почти все, что может знать образованный европеец, – от популярной медицины до опер Рихарда Вагнера. Блум – all-round man, как определит его один из персонажей романа, то есть человек “знающий и культурный”, или, говоря словами гомеровского эпоса, “обратившийся ко многому”, много повидавший и много испытавший, каким был его прототип Улисс.
Это совпадение не случайно. Джойс ведь сделал Улисса основным литературным архетипом, потому что видел его фигурой цельной, способной собрать распавшийся мир. Улисс у Гомера выступает во всевозможных ролях: он – воин, участник троянского похода, он – царь Итаки, он – полунищий бродяга, скитающийся по морям, он – отец Телемака, сын Лаэрта, муж Пенелопы, любовник нимфы Калипсо. Блуму отведены нарочито похожие функции и связи с миром, но они скорее потенциальны, чем реальны; они ослаблены и намечены пунктирно. Блум – гражданин Ирландии и при этом не настоящий ирландец. Он – еврей, и многие в Дублине воспринимают его как чужака. Однако он и не еврей в полном смысле слова – с иудейскими традициями, с его подлинной родиной (Венгрия) и родиной исторической (Палестина) его ничего не связывает. Блум – отец, но и не совсем отец: его сын умер во младенчестве, а дочь Милли переехала в другой город и отдалилась от него. Блум – сын, часто думающий о своем отце, но его отец давно умер. Он вроде бы муж Молли, но сексуальных отношений с ней у него нет; более того – жена ему изменяет. Он любовник Марты Клиффорд, но любовник только по переписке; живьем свою эпистолярную любовницу Блум ни разу не видел. Роли, обеспечивающие целостность взгляда на мир, возможность его собрать, лишь обозначены, но не выполнены. И важнейшая задача, стоящая перед Блумом, – их осуществить, свести распадающийся перед его глазами мир в единое целое. Но как это сделать, ежели сознание, чувство, мысли этому энергично противятся? Видимо, они никудышные помощники в подобном деле, и перспектива синтеза лежит глубже – в сфере бессознательного, в условной архаике, где царствует нерасторжимый миф и ритуал, в зоне, которая предшествует миру чувств и мыслей, но ими подспудно руководит.
Джойс открывает эту область, используя хорошо проверенный ключ – тот же многотомный труд британского антрополога Дж. Дж. Фрэзера “Золотая ветвь”, где описываются ритуалы Осириса, Адониса, Диониса, многочисленные версии одной формулы – ритуалемы умирающего (воскресающего) бога растительности. Замечу мимоходом, что Джойса не сильно беспокоил вопрос о достоверности той или иной идеи, будь то теория Фрейда, Юнга, Вейнингера или Фрэзера. Фрейда и Юнга он, например, иронично именовал “австрийским шалтаем и швейцарским болтаем”, что, впрочем, не мешало ему активно использовать их идеи. Всякая научная или околонаучная концепция для него была лишь сильной фигурой в увлекательной литературной игре. И мысли, высказанные Фрэзером, не стали исключением.
Чтобы родился новый (сильный, плодородный) мир, старый мир нужно спровадить, разъять, ритуально убив и расчленив его заместителя-жертву. Ритуал возвращает жизнь к точке, где все берет свое начало, где все сакрально и все собирается: жрец, жертва, музыка, слово. Когда-то давно ритуал регулировал жизнь так же, как сейчас ее регулируют ежедневники. Джойс полагает, что в современной городской жизни, в ее заботах различаются древние ритуалы, и потому вся она в совокупности возводится к доисторической архаике. А вместе с ней и городские обитатели, оказывающиеся то в роли жрецов, то в роли жертв, то в роли умирающих (воскресающих) богов растительности.
Блум в романе постоянно ассоциируется с этим богом из книги Фрэзера. На это обстоятельство недвусмысленно указывает его настоящая фамилия (bloom – цветок, цвести) и фамилия выдуманная: письма к свой эпистолярной любовнице Марте Клиффорд он подписывает как Генри Флауэр (flower – цветок). Но куда важнее другое. В каждой главе, произведя какое-то действие, Блум совершает ритуал, то есть собирает мир воедино, правда, на какое-то мгновение, чтобы в следующее тотчас же все растерять. Сам персонаж, разумеется, толком ничего не осознаёт – в его представлении, да и в нашем, читательском, это самые обычные, ничем не примечательные поступки. Их вопиющая обыденность – признак едкой иронии, призванной подчеркнуть, что авторский анализ не следует воспринимать всерьез, что здесь царство здорового смеха и безудержной литературной игры.
* * *
Я позволю себе остановиться на одном подобном эпизоде из 8-й главы романа, “Лестригоны”, и попытаюсь показать, как собирается текст Джойса. Но сперва – одно предварительное замечание. В этом эпизоде, как и во всех главах романа, разворачивается поток сознания Блума, включающий: 1) реакцию Блума на окружающие вещи и события; 2) воспоминания и цитаты, как бы случайно возникающие в его голове; 3) заглавную мысль, к которой он постоянно возвращается, – измена жены.
Это лишь внешний план. Самое существенное здесь – скрытые бессознательные мотивы, направляющие мысли и переживания персонажа и определяющие движение текста. С ними мы и будем разбираться?
Внешне событийная картина вполне проста, реалистична и даже гиперреалистична. Блум заходит на мост О’Коннелла (Джойс воссоздает Дублин с точностью топографа), смотрит на баржи, плывущие по Лиффи (река, на которой стоит Дублин), наблюдает за чайками. Он подходит к лотку старушки, торгующей яблоками и сластями, покупает пару пирожков, разламывает их на кусочки, бросает в Лиффи и видит, как чайки их подбирают. Потом Блум начинает размышлять, довольно хаотично, как водится у Джойса, о морских птицах, вернее, о том, каковы они на вкус. Мясо морских птиц, рассуждает Блум, отдает рыбой, видно, потому, что они питаются одной рыбой. Эти глубокомысленные наблюдения переносятся на других птиц, на животных и на людей:
Откормить индейку скажем каштанами у нее будет и вкус такой. Ешь свинину сам как свинья. А почему тогда рыба из соленой воды сама не соленая? Как же так?
В поисках ответа на свой вопрос Блум опять начинает разглядывать реку под мостом, видит барку, облепленную рекламными объявлениями, сдержанно одобряет идею размещения рекламы на ней и начинает философски размышлять о том, можно ли вообще владеть водой.
Недурная идея. Интересно платит ли он за это городу. А как вообще можно владеть водой? Она никогда не та же вечно течет струится в потоке ищет в потоке жизни наш взгляд. Потому что и жизнь поток.
Затем Блум вспоминает рекламные ухищрения доктора-шарлатана, обещавшего вылечить незадачливых любовников от триппера, и, наконец, его размышления прерывает тревожное чувство…
А вдруг у него…
Ох!
А если?
Нет… Нет.
Да нет. Не поверю. Уж он не стал бы?
Нет, нет.
Если прочитать текст на символическом, ритуальном уровне, легко убедиться, что этот внешне хаотичный материал на самом деле строго упорядочен. Действие эпизода происходит на мосту – здесь Блум кормит чаек и здесь же предается своим нехитрым мыслям. Мост, как известно, устойчивый символ, фигурирующий в различных мифологиях и текстах. У Амборза Бирса в рассказе “Случай на мосту через Совиный ручей” мост – иронический знак перехода из мира земного в мир иной – злая насмешка над плантатором Пейтоном Факуэром, которому предстоит на этом мосту быть повешенным и отправиться на тот свет. У Генри Миллера, так же как и у Фридриха Ницше, мост – символ изменчивой, становящейся человеческой природы, того, что в ней нужно любить и взращивать. “В человеке, – громогласно объявляет Заратустра, – важно то, что он – мост, а не цель: в человеке можно любить только то, что он – переход и гибель”. У Джойса мост, скорее всего, точка всеобщей связи, земного и небесного, воды и суши, духа и тела, точка сборки, словом, самое подходящее место для того, чтобы осуществить ритуал. И Блум его неосознанно со[9]9
Перевод Ю. Антоновского.
[Закрыть] вершает, творит жертвоприношение, символически собирая разорванный мир в единое целое. Он выступает в роли жреца, а в качестве пародийной жертвы здесь используются пирожки, которые Блум жречески разрывает и которые подбирают чайки, пародийные посредники между богами и людьми. Став на мгновение жрецом, Блум тотчас же ощущает, как это обычно происходит в ритуале, единение со всеми его участниками. В данном случае это чайки:
Явственно ощущая их пронырливую жадность, он отряхнул мелкие крошки с ладоней. Небось не ждали такого. Манна небесная.
Манна, упомянутая Джойсом, усиливает ситуацию, отождествляя Блума-жреца с Богом, утоляющим голод страждущих иудеев. Блум на протяжении всего романа неоднократно отождествляется с иудейским Богом и с Моисеем.
Мысли, посещающие в этот момент Блума, под стать его ритуальным манипуляциям. Рассуждая о вкусе морской птицы, о физической связи пищи и организма (“Откормить индейку скажем каштанами у нее будет и вкус такой. Ешь свинину сам как свинья”), Блум тем самым устанавливает связь всех жизненных форм (людей, животных, птиц) и неосознанно осуществляет принцип симпатической магии, о которой писал Фрэзер.
А почему тогда рыба из соленой воды сама не соленая? Как же так?
Рыба, традиционный символ плодородия, появляется в романе в сознании Блума, когда он совершает те или иные ритуальные действия. Возникающий у Блума бытовой вопрос на самом деле – вопрос о нарушении закона магии, о разрушении единства мира, об изъятости из жизни. Ответ на него Блум получает, еще раз взглянув на реку (поток жизни) и увидев баржу с рекламным объявлением:
ДЖ. КАЙНОУ
11 ШИЛЛИНГОВ
БРЮКИ.
Недурная идея. Интересно платит ли он за это городу.