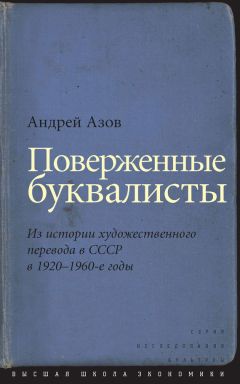
Автор книги: Андрей Азов
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
После статьи Елистратовой в «Культуре и жизни» о «Старой Англии» и «Диккенсе» Ланна он, по словам Н.М. Любимова, «как романист и эссеист кончил свое существование». По-видимому, после статей Кашкина в «Литературной газете» и «Иностранных языках в школе» Ланн должен был также кончить свое существование как переводчик и редактор. В Гослитиздате, однако, от работы его не отстранили, и он продолжал заниматься изданием Диккенса и Смоллета. Тем не менее издательство попросило нескольких специалистов отрецензировать «Посмертные записки Пиквикского клуба». В архиве Е.Л. Ланна хранятся две такие рецензии: одна из них принадлежит историку английской литературы Игорю Максимилиановичу Катарскому, вторая – переводчику Николаю Михайловичу Любимову. Развернутый отзыв Катарского, написанный в январе 1953 г., поддерживает выводы И.А. Кашкина (при том что посвящен исключительно технической, переводческой стороне вопроса и не содержит каких-либо идеологических обвинений) и оканчивается так:
Перевод «Пикквикского клуба» (Ланна и Кривцовой) не может быть признан удовлетворительным. Ни общетеоретические посылки переводчиков, ни творческая их практика не дают права считать, что советский читатель может знакомиться с переводом Диккенса в настоящем виде.
Формально точное, калькирующее воспроизведение чужеязычной лексики, фонетики, рабское воспроизведение строя иностранного языка приводит к тому, что перевод засоряется неясными словами, искаженно передающими смысл подлинника, никак не ассоциирующимися с уже знакомыми русскому читателю словами и понятиями. Перевод становится трудным, книжным, часто неудобочитаемым. Менее уязвимыми оказываются некоторые главы, содержащие вставные новеллы, тогда как главы юмористического и сатирического характера (за исключением, пожалуй, пародийных глав, воспроизводящих канцелярский стиль, как гл. 1), лирического характера не воспроизведены полноценно в этом переводе.
Сомневаюсь, что перевод Ланна можно превратить в полноценный путем редактирования. Этого мало. Исходные принципы перевода ошибочны. Роман нужно переводить заново, сохранив то здоровое и верное, чего удалось достичь ряду переводчиков «Пикквикского клуба», в том числе и Е. Ланну [РГАЛИ, ф. 2210, on. 1, д. 355, л. 38].
Отзыв Н.М. Любимова носил прямо противоположный характер. Поскольку он очень краток – и в то же время очень ярок, – воспроизвожу его здесь целиком.
ГЛАВНОМУ РЕДАКТОРУ ГОСЛИТИЗДАТА
Тов. Пузикову А.И.
В конце прошлого года я по просьбе Зав. отделом иностранной литературы Гослитиздата тов. Немчиновой Н.И. перечитал перевод «Пиквикского клуба», принадлежащий А.В. Кривцовой и Е.Л. Ланну, и в письменном виде изложил ей те выводы, к которым я пришел.
Выводы эти были в основном таковы.
Перевод «Пиквикского клуба» в окончательном его варианте представляет собой перевод абсолютно полноценный, отвечающий требованиям советского переводческого искусства, т. е. требованиям точности не буквальной, я художественной.
По моему мнению, читатели воспримут этот перевод как подлинно художественное произведение, написанное отличным русским языком и вместе с тем бережно сохраняющее английский бытовой колорит. По этому переводу читатели смогут составить себе отчетливое представление о богатстве и своеобразии языка Диккенса и о сложности и разветвленности применяемых им синтаксических форм.
Перевод Кривцовой и Ланна пронизан тонким и лукавым юмором, юмором именно диккенсовским, не всегда бьющим в лоб, часто скрывающимся за изысканными оборотами речи. И этот лукавый юмор, и мягкая лирика, и обличительный пафос, – все эти стихии нашли себе достаточно яркое выражение в переводе.
В особую заслугу переводчикам я бы поставил выпуклость речевых характеристик. Стоит сравнить хотя бы уморительную «телеграфную» речь Джингля и неторопливую речь Уэллера-младшего, уснащенную множеством присловий, поговорок и метких в своей кажущейся неожиданности сравнений. Попутно отмечу принципиальную правильность того пути, по которому в данном случае пошли переводчики: они чередуют сами собой напрашивающиеся во многих местах русские эквиваленты пословиц с воссозданием некоторых английских идиомов, причем этим английским поговоркам придается русское ритмикосинтаксическое обличье.
Перечитывая этот перевод, я одновременно делал на полях замечания, и делал я их не выборочно: я замечал буквально всё, что представлялось мне по тем или иным соображениям подлежащим замене. Замечаний этих на весь роман набралось очень немного, и подавляющее их большинство касалось стилистических частностей. Словом, такого рода замечания возникают при чтении любого очень хорошего перевода (в конечном счете, любого другого произведения), и сводятся они к регистрации случайных отклонений от тех или иных правильных принципов, которые избрали сами переводчики. По просьбе А.В. Кривцовой и Е.Л. Ланна я эти свои заметки и пожелания передал им, и, насколько мне известно, они их использовали.
Недавно Отдел иностранной литературы Гослитиздата обратился ко мне с предложением взять на себя редактуру этого перевода, но от этого предложения я решительно отказываюсь по той причине, что перевод Кривцовой и Ланна, на мой взгляд, в особой «внешней» редактуре не нуждается. «Внимательный издательский редактор без труда обнаружит те немногие и маловажные “опечатки”, которые, быть может, еще остались в тексте», – писал я в своей краткой рецензии и повторяю и теперь. Я уже обратил внимание переводчиков на все те слова и фразы, которые почему-либо вызывали у меня сомнения, и к сделанной работе ничего прибавить не могу. Перевод Кривцовой и Ланна – перевод мастерской и дополнительная его редактура, с моей точки зрения, вызвала бы только непроизводительную затрату государственных средств.
28 VII. 53 г. Н. Любимов
[Там же, л. 39–40].
Судя по тому, что Ланн продолжал работать над Диккенсом и в 30-томное собрание сочинений Диккенса вошли «Посмертные записки Пиквикского клуба» в переводе его и Кривцовой, точка зрения Любимова и всех, кто ее разделял, в конце концов возобладала.
2. Борьба с Георгием Шенгели
2.1. Первые этапыВ борьбе с Георгием Шенгели использовался его перевод романа в стихах Байрона «Дон Жуан» – перевод, по словам критики, антиреалистический, формалистический, буквалистический. Борьба эта началась на рубеже 1940-х и 1950-х годов, и самым ярким, завершающим ее этапом стало появление в «Новом мире» статей И.А. Кашкина «Удачи, полуудачи и неудачи» и «Традиция и эпигонство» (1952 г.).
Перевод «Дон Жуана» был закончен в 1943 г. Шенгели сдал рукопись в издательство, где с ней ознакомились рецензенты: сначала А.К. Дживелегов, затем М.Д. Заблудовский – оба, как вспоминает Шенгели, дали положительные отзывы на перевод. Примечательны при этом слова Заблудовского: «…самое ценное и самое главное в переводе Шенгели – его точность, причем точность, достигнутая не закланием русского языка, русского стиха или здравого смысла, а путем тщательных изысканий наиболее адекватных образов, наиболее подходящих эквивалентов». В конце 1946 г. перевод «Дон Жуана» был подписан к печати, в конце 1947 г. книга поступила в продажу.
Шенгели вспоминает о благодарственных читательских отзывах (см. Приложения Б и В). Среди хваливших перевод были Всеволод Рождественский, Вера Инбер, Борис Пастернак (звонивший ночью сообщить, что не может оторваться от книги) и даже ученик и «соперник» Шенгели по переводам Байрона
Вильгельм Левик (который сказал, что не представлял себе возможности достичь такого класса точности)[81]81
К этому перечню собратьев Шенгели по перу, одобривших его перевод, можно добавить имя Анны Ахматовой, которая уже позже, после смерти Шенгели, писала его вдове, Нине Леонтьевне Манухиной-Шенгели 25 октября 1956 г.: «На днях перечитывала его “Дон-Жуана”. Какая огромная и благородная работа!» [Ахматова, 2003, с. 149].
Интересное свидетельство чуть ранее оставила Л.К. Чуковская (запись от 21 января 1955 г.):
Вчера была у Анны Андреевны. И очень огорчилась.
Ею.
Приехала Эмма Григорьевна <Герштейн>, мы все пили чай у Нины Антоновны <Олыневской>. Нина или Эмма, не помню, как-то небрежно отозвались о шенгелиевском переводе «Дон Жуана». Анна Андреевна рассердилась. И произнесла речь – столь же гневную, сколь несправедливую:
– Кто сказал, что байроновский «Дон Жуан» хорош? А все кричат: «Шенгели перевел неблагозвучно». Я читала подлинник сорок раз – это плохая, даже безобразная вещь – и Шенгели здесь ни при чем. Байрон эпатировал читателей и нарочно сделал вещь неблагозвучной. К тому же постельные мерзости – во множестве. При чем тут Шенгели? У Байрона там только и есть хорошего, что одно лирическое отступление.
Я знаю английский слишком слабо и судить о качестве байроновских стихов не могу. Не могу почувствовать, эпатировал ли он, не эпатировал. Но на мой слух Шенгели плох безмерно, у него «Дон Жуан» вообще не стихи, а корявая проза. И не только «Дон Жуан».
Я сказала это Анне Андреевне, но она не вняла и продолжала бранить тех, кто бранит Шенгели…
Непонятно и неприятно [2007, с. 114–115].
Другая подруга Ахматовой, Н.А. Роскина, скептически относится к ее отзывам о переводе «Дон Жуана»: «Перевод Шенгели, мне кажется, Ахматовой не мог нравиться, но она была очень корректна в отношении людей, которые были к ней добры, а Шенгели охотно оказывали ей гостеприимство. Она и живала у них в Москве, а ведь это было не так легко – принимать Ахматову» [1989, с. 95].
[Закрыть].
Неприятности начались с марта 1948 г. Переводчик и друг Г.А. Шенгели Эзра Ефимович Левонтин 11 марта выступил на собрании секции переводчиков с докладом о переводе «Дон Жуана». «Он меня заинтересовал с первых строф, – вспоминал потом Левонтин. – Я просидел несколько недель, сравнивая перевод Шенгели с подлинником, и убедился, что, невзирая на возражения, которые вызывают отдельные места… русский читатель впервые получил перевод, раскрывающий самое существо, самую природу гениального байронова творения. И я принял предложение сделать об этом в ЦДЛ обширный доклад (и сделал его), а затем, переработав доклад в статью, напечатал ее в журнале “Советская книга”» [РГАЛИ, ф. 2861, on. 1, д. 285, л. 47].
Левонтин был не слишком подходящей кандидатурой для докладчика. Вряд ли последующая судьба Шенгели сильно изменилась бы от другого доклада, но доклад Левонтина – как и его последующая статья, которая вышла в мартовском же номере «Советской книги» [Левонтин, 1948] и стала единственным голосом в массовой печати, прозвучавшим в поддержку перевода Шенгели, – был довольно сумбурным и неубедительным. Обратим внимание, однако, на две важные особенности этого доклада. Во-первых, Левонтин, сильно опиравшийся на послесловие самого Шенгели к переводу «Дон Жуана», где тот излагал принципы своего перевода, не понял (или сделал вид, что не понял) фразу «принцип функционального подобия». Как мы помним (см. выше, с. 91), принцип функционального подобия, по Шенгели, – это принцип, на котором основывается выбор того или иного стихотворного размера для перевода. Левонтин же, рассказывая о том, какую едкую сатиру пишет Байрон на аристократию вообще и на правящую верхушку Англии в частности и какие приемы он для этого использует, толкует функциональное подобие как соответствие стилистических приемов переводчика байроновским приемам. «Мне представляется, что Шенгели всякий раз ставил пред собой вопрос: для чего Байрон ввел тот или иной прием, – говорит Левонтин. – И лишь ответив себе на этот вопрос, переводчик искал того, что он в своем послесловии называет “функциональным подобием” подлинника. Огромный переводческий опыт, превосходное владение техникой русского стиха обычно помогали переводчику отыскать должное “функциональное подобие”» [РГАЛИ, ф. 2861, on. 1, д. 310, л. 9]. Ровно такое же непонимание шенгелевского «принципа функционального подобия» обнаружит и И.А. Кашкин в последующей критике.
Вторая важная особенность доклада Левонтина состояла в его сильной идеологизированности. Именно Левонтин первым завел разговор о том, как «адэкватно» передан образ Суворова в переводе Шенгели в отличие от прошлых переводов, которые искажали этот образ:
Образ Суворова едва ли не самый вдохновенный в романе. Всегда: и в момент своего незаметного появления под Измаилом и во время бесед с Джонсоном и Жуаном, и во время обучения солдат, Суворов прост и велик.
Для раскрытия образа Суворова, для описания подготовки к штурму Измаила и самого штурма, Байрон привлек совершенно особый словарь и стиль. Точные описания диспозиций и военных аттрибутов, диалог, лапидарно точные суворовские фразы, неожиданная шутка, – все это повлекло за собою привлечение особой, специфической для характеристики Суворова лексики.
Хотя в нашу задачу и не входит сравнительная характеристика переводов «Жуана», но я не могу удержаться, чтобы не сказать, что прежние переводчики показали в русском тексте «Жуана» ходульного, торжественного, парадно-величественного военоначальника.
Это искажало подлинник и что не менее важно для русского читателя, искажало действительный облик наиболее ценимого в русской истории полководца.
Шенгели правильно поступил, что с максимальной полнотой воспроизвел и протокольную точность байроновских военных описаний, сохранив их нарочитую сухость, и язык приказов, и бытовые детали, вроде того, что у приехавшего с казаком к Измаилу Суворова было на двоих три рубашки, или что Суворов обучал солдат-калмыков, скинув мундир и т. п. [РГАЛИ, ф. 2861, on. 1, д. 310, л. 506-6].
Зная, что последует дальше, трудно удержаться от ощущения, что именно Левонтин, сам того не желая, подкинул позднейшим критикам мысль обратить внимание на образ Суворова и на то, как передан в переводе Шенгели «действительный облик наиболее ценимого в русской истории полководца». Это тем более вероятно, что И.А. Кашкин, тот самый критик, который в итоге и прибег к аргументу искаженного образа Суворова, писал вначале опровержение именно на статью Левонтина.
«Все что произошло впоследствии, – вспоминал Левонтин, – я не могу назвать критическим спором со мной, критическим рассмотрением работы Шенгели с иных позиций, противоположным моим (что было бы закономерно). Это была свистопляска» [РГАЛИ, ф. 2861, on. 1, д. 285, л. 47].
Но прежде чем перейти к самой «свистопляске», скажу несколько слов о подготовке к ней. В архиве И.А. Кашкина сохранился машинописный черновик статьи, над которой он, видимо, принялся работать довольно скоро после выступления Левонтина. Черновик условно помечен архивистами 1949 г., но в любом случае написан не позже ноября 1950 г., когда происходило заседание бюро секции переводчиков зарубежных литератур Союза писателей (отдельные фразы из черновика практически без изменения повторяются в выступлении Кашкина на этом собрании). Направлена статья против перевода Шенгели, но в гораздо большей степени – против положительной рецензии Левонтина, которого Кашкин тут же ловит на неуклюжих формулировках, например:
Однако, позволительно спросить, как понимает Левонтин позиции советской школы художественного перевода, и что он считает правильным в позициях переводчика «Дон Жуана».
«Главной его [Шенгели] целью было воспроизвести искрометную байроновскую иронию, беспощадный байроновский сарказм. Одним из средств для достижения этой цели является сохранение октавы подлинника» [108].
Читаешь и сразу же возникает вопрос – с каких это пор советская школа художественного перевода учит передавать иронию и сарказм только октавами, да при том еще непременно шестистопными, вместо пятистопных у Байрона. Но это только между прочим [РГАЛИ, ф. 2854, on. 1, д. 39, л. 1–2].
Уже в этой, черновой, статье 1949–1950 г. в противовес похвале Левонтина об «адекватной» передаче образа Суворова развивается тот самый тезис об искажении образа Суворова, который затем так тяжело ударит по Шенгели.
«Вот как представлен переводчиком образ Суворова, – пишет Кашкин. – Простите, если при цитировании я невольно оскорблю ваш слух» [Там же, л. 2]. И далее, «не вдаваясь в сравнительный анализ, который завел бы нас очень далеко» [Там же, л. 8], он выписывает из 7-й и 8-й песни строфы, содержащие слова, способные бросить тень либо на самого Суворова, либо на русские войска, и заключает:
Переводчик может в пределах допускаемых правильно понятой, а не технологической или механистической, точностью придать образу тот или иной оттенок. Он может дать точное тождество, но может эмоционально сдвинуть образ в любую сторону. Так вот тут подчеркнута снисходительная уничижительная интонация, причем смакуется именно этот эстетский, гурманский привкус ложной экзотики.
А разве советская школа перевода учит оскорблять советского читателя, сохраняя искаженный образ великого полководца[82]82
Потрясающие слова! Вчитаемся еще раз: «разве советская школа перевода учит оскорблять советского читателя, сохраняя искаженный образ великого полководца?».
[Закрыть], или что еще хуже – искажая его по собственной инициативе? Так вот и требовалось от автора статьи – не напускать словесного тумана, а прямо и честно, без всяких реверансов, сказать переводчику то, что есть на самом деле.Разве такому издевательскому искажению и фальсификации подлинника учит советская школа перевода? Разве она учит эстетскому любованию экзотикой? [Там же, л. 8–9].
«Свистопляска» началась на собрании секции переводчиков зарубежных литератур Союза писателей в ноябре 1950 г., причем началась настолько внезапно и настолько бурно, что это нашло отражение в воспоминаниях Левонтина и Шенгели. У Левонтина читаем:
Помню, что какая то гражданка (фамилию не помню и более я никогда ее нигде не встречал) грозно поставила Шенгели на вид, что он своим переводом «принизил» Суворова. Ее спросили: «А как в подлиннике?» – «Мне нет дела до подлинника», – возмущенно ответила критикесса [РГАЛИ, ф. 2861, on. 1, д. 285, л. 47].
Шенгели вспоминает подробнее:
Спустя два с лишним года[83]83
Имеется в виду, спустя два с лишним года после мартовского собрания 1948 г., на котором Левонтин зачитывал доклад о «Дон Жуане».
[Закрыть], на собрании переводчиков, посвященном общим вопросам перевода, выступила некая Егорова[84]84
Это всё та же Елизавета Егорова, уже знакомая нам по гневным репликам в адрес Еумилева, Чуковского, Федорова и Ланна. Она же в неопубликованной статье, предназначенной для «Нового мира» (10 октября 1951 г.), посвятила довольно большую часть «Дон Жуану» Шенгели, предъявляя переводчику те же обвинения, которые потом появятся в статьях Кашкина, в частности:
Отметим прежде всего, что эти строфы о Суворове и русских солдатах оскорбительны для национального достоинства русского народа. Образ великого русского полководца профанируется в переводе Шенгели вопреки Байрону…
Как темей синтаксис у Шенгели, какие он допускает грамматические ошибки, какое обнаруживает равнодушие к языку, его чистоте, ясности, правильности и звучности!..
Шенгели как будто бы отступает от формалистических принципов. Он даже переводит «Дон Жуана» не пятистопным, а шестистопным ямбом. Но заполняет он свой шестистопник по тому же формалистическому методу, что и Фет, нимало не заботясь о том, что же остается от Байрона в его корявых, наспех сколоченных в октавы стихах. В переводе Шенгели, как и в переводе Фета, можно найти хорошие стихи, но они тонут в груде словесного «мусора» [РГАЛИ, ф. 1702, он. 4, д. 1336, л. 34–35].
[Закрыть], бывший редактор Детгиза (чей путь из Детгиза отнюдь не был устлан фиалками), и, поговорив о том, о сем, обрушилась на мой перевод с вопросом об ИОС[85]85
Этой аббревиатурой Шенгели обозначает постоянно повторяющуюся формулировку критиков – «искажение образа Суворова».
[Закрыть]. – «А как в оригинале?» – спросил кто то с места. На это гр. Егорова дала классический ответ: «Мне нет дела до оригинала!» [РГАЛИ, ф. 2861, on. 1, д. 98, л. 120].
В ответном слове (а судя по этому ответу – см. Приложение Б, – на собрании секции переводчиков обсуждалось лишь несколько строф из 7-й и 8-й песни «Дон Жуана», где описывается взятие Измаила и фигурирует Суворов) Шенгели сравнил проблемные строфы с оригиналом и с предыдущими переводами (русскими и французским), обращая внимание на насмешки над русской армией и над Суворовым в частности. «Я утверждаю, – заключил он, – что буквально все эти места, оскорбляющие Суворова, присущи оригиналу».
Во время своего выступления Шенгели сделал еще два важных заявления. Он сказал, что «почти закончил свою переводческую программу» и, по всей вероятности, ни за какие другие крупные переводы теперь не возьмется. А в конце своего выступления заявил: «Так как я не встречал в моей работе ни малейшего внимания со стороны секции как организации, ни малейшего намерения со мной поговорить дружески… то я считаю, что я совершенно не нужен больше секции и прошу Бюро принять мое заявление о выходе из секции». Фактически это означало, что Шенгели оставляет поле соперничающему лагерю, что он не собирается бороться, что он не конкурент, с которым придется делить издательские заказы.
И тем не менее в 1952 г. в журнале «Новый мир», сначала в февральском, а затем в декабрьском номере, Кашкин публикует две статьи, направленные против «Дон Жуана» Шенгели.
2.2. Статьи в «Новом мире»Язы́ка нашего небесна красота
Не будет никогда попранна от скота.
М.В. Ломоносов – В.К. Тредиаковскому
В февральском номере «Нового мира» за 1952 г. появилась небольшая рецензия Кашкина на однотомник избранных произведений Байрона (Дж. Г. Байрон. Избранное. М.; Л., 1951). Рецензия называлась «Удачи, полуудачи и неудачи». К удачам был отнесен сам факт издания однотомника и содержащиеся в нем переводы Маршака и Левика, к полуудачам – несколько других переводов, в частности «неровный» перевод «Корсара» А. Оношкович-Яцыной[86]86
Еще один штрих, указывающий на несовместимость эстетических позиций Кашкина и Шенгели: в послесловии к своим переводам поэм Байрона Шенгели, напротив, хвалил перевод «Корсара» Оношкович-Яцыной.
[Закрыть], к «неудачам» – «Дон Жуан» Шенгели. Рецензируемый однотомник Байрона вышел уже после того, как на собрании секции переводчиков прозвучало обвинение в искажении образа Суворова, поэтому 7-ю и 8-ю песни, где действует Суворов, в сборник не включили, но и тем, что включили, Кашкин был недоволен. Впрочем, претензии к переводу выражены бегло и невнятно: выписаны несколько строф, в которых выделены неудачные, с точки зрения критика, обороты: «крещенный в тигле злата», «некий отрадный знак», «не было вовеки, кого так ввергла бы в отчаянье беда, как этих», «меткая рука» «борт почти ломая хрупкий», «бот подвигался еле» и проч. (в чем неудачность выделенных оборотов – не поясняется), выписаны и обруганы – вне всякого контекста – два шенгелевских каламбура: «брык проливу пик» и «за что скопцами звать скупцов» (почему обруганы – не поясняется). Приговор:
Г. Шенгели подошёл к переводу «Дон Жуана» с тяжеловесной и туманной лексикой символизма, подошёл отягчённый свойственным ещё формалистам количественным, буквалистским методом, разделяя вредную иллюзию, будто в угоду мнимой полноте и точности текста и требованиям догматической версификации можно допускать любые нарушения законов русского языка [1952а, с. 268].
Гораздо более основательной, обстоятельной, продуманной и аргументированной стала вторая статья Кашкина «Традиция и эпигонство», помещенная в «Новом мире» в декабре 1952 г. [Кашкин, 1952в]. Претензии, предъявляемые к переводу Шенгели (и разбросанные по статье довольно прихотливым образом), во многом повторяют претензии к переводам Ланна: это и затрудненный синтаксис[87]87
Для иллюстрации приводится пара строф, из которых одну (39-я строфа 9-й песни) несложно понять после второго-третьего прочтения, зато другая (2-я строфа 11-й песни, переводом которой Шенгели, по-видимому, особенно гордился, так как в послесловии к «Дон Жуану» сообщил о том, как справился с заложенным в эту строфу каламбуром), действительно, сколько ее ни перечитывай, остается туманной – впрочем, и в оригинале она отнюдь не так проста, как пишет о ней Кашкин.
Из других замечаний этой группы совершенно неубедительно смотрится, например, такое: «Перевод Г. Шенгели нельзя цитировать без риска попасть впросак. Так, например, те, кто многократно цитировал строки: “Я камни научу искусству мятежа! Убийству деспотов!” – не замечают того, что в переводе получается двусмысленность. Ведь даже и при просторном шестистопнике из-за напряжённой и неловкой расстановки слов выходит, что Байрон будто бы собирается камни научить искусству мятежа, а деспотов – убийству». Комична сама история этого замечания: в черновой редакции статьи Кашкин, наоборот, хвалит Шенгели за эту строку, говоря, что она выполнена «более четко и энергично», чем в дореволюционном переводе [РГАЛИ, ф. 1702, оп. 4, д. 1429, л. 4]. Но на полях появляется синяя карандашная пометка редактора «Нового мира»: «Это очень плохо, выходит, что он хочет научить деспотов убивать», – и вот уже строка, которую при имевшейся пунктуации совершенно невозможно прочесть так, как прочитал ее редактор «Нового мира», объявляется двусмысленной.
[Закрыть], и любые лексические отклонения от повседневной нормы: будь то церковнославянизмы, иноязычные заимствования («скимитары», «фибулы», «бравуры», «максимы», «бомбазин»), неологизмы («крушенцы», «злец», «курчавец», «отменно-пунктуально», «неразрывно-цельно», «безоблачно-лазурно») или сниженный воровской язык[88]88
Недавно этот эпизод привлекался в качестве иллюстрации в статье Д.М. Бузаджи «Разумный консерватизм» (Мосты. 2010. № 2. С. 56–57). Выписав строфу, осужденную Кашкиным:
Он парня знатного и смелого притомСпровадил в гроб, – и где былая слава ныне?Кто «стенку» вел в бою отважнее, чем Том?Кто мог смелей бузить в обжорке иль в «малине»?Колпачить «фрайеров»? Пускай шпики кругом,Кто «бимборы» срывал так ловко с каждой «дыни»,Кто с черноглазою марухой Салли былГалантереей столь, шикозен, клёв и мил, Бузаджи комментирует: «Трудно поверить, что это написано 60 с лишним лет назад: такие стилистически нелепые (или постмодернистские – как кому нравится) обороты, как “клёв и мил”, кажутся порождением наших дней. “Так вместо многокрасочного языка Байрона получается в переводе клочковатость, неустоявшаяся, ничем не объединённая языковая смесь”, – писал об этом переводе И.А. Кашкин». Однако, во-первых, вывод Кашкина здесь вырывается из контекста: в блатной строфе он ничего аномального, помимо того что она написана блатным языком («любование доморощенной “блатной музыкой”»), не находил; во-вторых, Кашкин был против блатного языка в принципе («Переводчик, по-видимому, хочет, чтобы русский язык был “галантереей, шикозен, клёв и мил”, как его по-одесскому блатная октава», – писал он в черновой статье 1949–1950 гг. и продолжал там же: «Является ли 100 %-ная южно-русская “блатная музыка” функциональным подобием иноязычного жаргона?» [РГАЛИ, ф. 2854, on. 1, д. 39, л. 16, 17]), и, наконец, в-третьих, вся использованная в этой строфе лексика – синхронна: она, по свидетельству Шенгели, позаимствована «в специальном словаре, изданном в 1927 г. Московским уголовным розыском».
[Закрыть].
В упрек переводчику ставится передача байроновских каламбуров, говорящих имен и намеренно искаженных имен русских персонажей («псевдоанглийское преломление русских имен в их обратном переводе воспринимается как издевательство над русскими именами и русским языком»), а также замена байроновского пятистопного ямба на шестистопный. Но главное, переводчику вменяется в вину искажение образа Суворова: этому обвинению – самому тяжелому, самому страшному, политически самому опасному – отводится около четверти, если не треть статьи. Всё это пересыпано общими оценочными характеристиками переводческого метода Шенгели: он называется формальным («при формальном подходе и стремлении передать все мелочи часто ускользает главное, зато набегает лишнее», «мнимо точный в формальных мелочах перевод Г. Шенгели неверен в главном»), натуралистическим («“функциональное подобие” в переводе Г. Шенгели – это натурализм количественного метода»), идеалистическим («в переводческом методе Шенгели сказываются пережитки идеалистической эстетики») и буквалистским («это – если уже так необходим ярлык – эклектический буквализм, появившийся на основе принципиально ложного подхода к переводу»).
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































