Читать книгу "Прочтение Набокова. Изыскания и материалы"
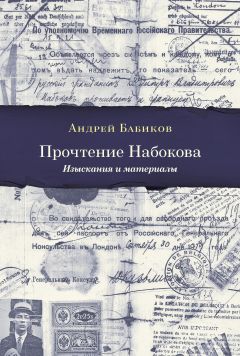
Автор книги: Андрей Бабиков
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Гл. 6, строфа XLVI:
Гл. 7, строфа LV (курсив Пушкина):
Пою приятеля младого
И множество его причуд.
Благослови мой долгий труд,
О ты, эпическая муза!
И, верный посох мне вручив,
Не дай блуждать мне вкось и вкрив.
Довольно. С плеч долой обуза!
УП, 63:
И это все. Довольно, звуки,
довольно, муза. До разлуки
прошу я только вот о чем:
летя как ласточка, то ниже,
то в вышине, найди, найди же
простое слово в мире сем,
всегда понять тебя готовом;
и да не будет этим словом
ни моль бичуема, ни ржа;
мгновеньем всяким дорожа,
благослови его движенье,
ему застыть не повели;
почувствуй нежное вращенье
чуть накренившейся земли.
Говоря, что «простым словом» не должно бичевать «ни моль, ни ржу», т. е. презираемые поэтами обиходные частности жизни, и перефразируя евангельское: «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют» (Мф. 6:19–20)[51]51
Тот же библейский отзвук возникает у Набокова в конце стихотворения Гумберта Гумберта в русском переводе «Лолиты» (Ч. II, гл. 25): «Икар мой хромает, Долорес Гейз, / Путь последний тяжел. Уже поздно. / Скоро свалят меня в придорожный бурьян, / А все прочее ржа и рой звездный» (Набоков В. Лолита. New York: Phaedra, 1967. С. 237).
[Закрыть], Набоков утверждает ценность мимолетных впечатлений, «мгновений всяких», сохраненных им в памяти и воссозданных в строках УП, а кроме того, напоминает о том, что и роман Пушкина журнальные критики бранили за «простой слог» и изображение «низких» предметов.
Исходя из приведенных сопоставлений, можно заключить, что УП построена на основе многочисленных реминисценций и заимствований из ЕО, мастерски вплетенных в ее ткань. Но этим обращение Набокова в УП к роману Пушкина не исчерпывается. Помимо ЕО, он принимал во внимание и другие произведения, связанные с ним онегинской или близкой ей строфой и тематическим рядом, как, например, «Бал» Боратынского. Приведем два наиболее показательных примера (параллели отмечены курсивом).
«Бал»:
Умолк. Бессмысленно глядела
Она на друга своего,
Как будто повести его
Еще вполне не разумела <…>
Вдруг содрогнулася лицом <…>
«Что, что с тобою, друг бесценный?» —
Вскричал Арсений. Слух его
Внял только вздох полустесненный.
«Друг милый, что ты?» – «Ничего»[52]52
Баратынский Е. А. Полное собрание стихотворений (Б-ка поэта. Большая серия, 3-е изд.) Л., 1989. С. 259. Мы используем ныне принятое написание фамилии поэта.
[Закрыть].
УП, 41:
Перевернула лист журнала
и взгляд как будто задержала,
но взгляд был темен и тягуч:
она не видела страницы…
вдруг из-под дрогнувшей ресницы
блестящий вылупился луч,
и по щеке румяно-смуглой,
играя, покатился круглый
алмаз. «О чем же вы, о чем,
скажите мне?» Она плечом
пожала <…>
и тихим смехом вздулось горло:
«сама не знаю, милый мой…»
Набоков использует то же неблагозвучное сочетание «вдруг—дрог» в подобной же сцене романтического томления героини, замеченного героем, указывая таким образом на пятикратное повторение этого сочетания в строфе Боратынского. Так же иронично окрашено у Набокова повторение «О чем же вы, о чем», соответствующее страстному вопрошанию Арсения, и здесь же возникает поэтическое клише XIX века – сравнение слезы возлюбленной с алмазом. Выбор неудачной, типично романтической строфы из «Бала» в качестве объекта для пародии иллюстрирует программное утверждение в строфе 10-й УП: «Да простится / неромантичности моей, – / мне розы мраморные Китса / всех бутафорских бурь милей». Общий источник для «Бала» и УП находим в ЕО (Гл. 6, строфа XIX), ср.:
Но поздно; время ехать. Сжалось
В нем сердце, полное тоской;
Прощаясь с девой молодой,
Оно как будто разрывалось.
Она глядит ему в лицо.
«Что с вами?» – Так. – И на крыльцо.
(Заметим, что у Набокова, как и у Боратынского, в отличие от Пушкина, вопрос задает герой.)
Другой набоковский источник из произведений онегинской традиции – комическая поэма Лермонтова «Тамбовская казначейша» (1838). Поэма начинается с описания Тамбова и сетования на его скуку. Виолета в 1-й строфе УП замечает: «Наш город скучен», затем в 4-й строфе герой начинает описание Кембриджа. У Лермонтова после стиха «Короче, славный городок» следует замечание «Но скука, скука, Боже правый» (2), а в УП герой задается вопросом: «Неужто скучен в самом деле / студентов древний городок?» (3). В описании Тамбова упоминаются «три улицы прямые», два трактира – «Московский» и «Берлин» (1), а в набоковском описании Кембриджа – «улочки кривые» и трактир «Синего Быка» (7). Тамбов выбран Лермонтовым как обычный русский город, и такой же городок вспоминается герою УП: «когда, изгнанника печаля, / шел снег, как в русском городке» (5), что также можно принять за аллюзию на «Тамбовскую казначейшу», действие которой происходит зимой.
Еще заметнее в УП отсылки к поэме Вячеслава Иванова «Младенчество» (1918), состоящей из 48 онегинских или, как пишет во вступлении поэт, «заветных» строф. В ней находим примечательные совпадения (выделены курсивом) в описании чувств героя:
«Младенчество», строфа XXI:
<…> У окон, в замкнутом покое,
В пространство темно-голубое
Уйдя душой, как в некий сон,
Далече осязали – звон…
Они прислушивались. Тщетно
Ловил я звучную волну:
Всколеблет что-то тишину —
И вновь умолкнет безответно…
Но с той поры я чтить привык
Святой безмолвия язык[53]53
Иванов В. И. Собр. соч.: В 4 т. / Под ред. Д. В. Иванова и О. Дешарт. Брюссель: Foyer oriental chrétien. 1971. Т. 1. С. 241.
[Закрыть].
УП, 29–30:
Открыв окно, курантам внемлю:
перекрестили на ночь землю
святые ноты четвертей,
и бьют часы на башне дальней…
<…> Вслушиваюсь я, —
Умолкло все. Душа моя
уже к безмолвию привыкла, —
как вдруг со смехом громовым
взмывает ветер мотоцикла…
<…> С тех пор душой живу я шире:
в те годы понял я, что в мире
пред Богом звуки все равны.
Заимствование в этом случае носит неявный полемичный характер: «святому безмолвию», вслушивание в которое предполагает у Иванова религиозно-мистическую подоплеку, Набоков противопоставляет жадную «всеядность», «смесь хмельную старины» и «настоящего живого» (30). Оттого-то и звучит у него «смех громовой мотоцикла», отражающий ведущий принцип самой поэтики УП, в которой на столетнюю онегинскую форму накладывается образный и звуковой строй поэзии двадцатого века: как «простым словом» не должно бичевать ни моль, ни ржу, так и «пред Богом звуки все равны». Вместе с тем Набоков, как кажется, мог упрекнуть Вяч. Иванова в том, что тот не всегда ищет «простое слово в мире сем», как, например, в следующем месте, где и он и Набоков по-своему обыгрывают пушкинские строки:
ЕО, Гл. 7, строфа XXIV:
Созданье ада иль небес,
Сей ангел, сей надменный бес…
«Младенчество», строфа XLVII:
УП, 48:
<…> куда не вхож ни ангел плавный,
ни изворотливейший бес.
Из приведенных примеров следует, что, создавая УП, Набоков стремился в первую очередь не к условной «современности» и «новизне» самого стиха, а к безусловному согласию всех элементов своей эпической конструкции. Замечая при этом и подчеркивая ту значительную эволюцию, которую русская литература претерпела за сто лет, он исходил из оригинального целостного взгляда на роман Пушкина и на всю онегинскую традицию, с которой был хорошо знаком[55]55
Маловероятно, но не исключено, что ко времени сочинения УП Набоков был знаком с еще одним новым образчиком онегинской традиции, «романом в строфах» «Рояль Леандра» Игоря Северянина (см.: Кац Б. «Уж если настраивать лиру на пушкинский лад…» О возможном источнике «Университетской поэмы» Владимира Набокова-Сирина // Новое литературное обозрение. 1996. № 17. С. 279–295; его же: Прыжок Набокова (Шишкова) с трамплина романса // Шиповник. Историко-филологический сборник к 60-летию Романа Давидовича Тименчика. М.: Водолей, 2005. С. 125). Однако следует учесть следующее обстоятельство. Эти «непритязательные главы» правильными онегинскими строфами, но часто неуклюжими стихами Игорь Северянин написал в Эстонии в 1925 г.; печатались они (под названием «Lugne») в январе—феврале 1926 г. в девяти выпусках малодоступной Набокову варшавской газеты «За свободу!» (в письме к жене от 5 июля 1926 г. он писал: «А в варшавской газете „За свободу“ необычайно похвальный отзыв о моем выступленье на Вечере культуры (тоже постараюсь достать)»; 20 мая 1930 г. он просит жену «попробовать достать недавний № „За свободу“» – Набоков В. Письма к Вере. С. 145; 179). О том, что газетная публикация «романа» Северянина не вызвала большого интереса в эмиграции, говорит тот факт, что отдельным изданием он вышел только в 1935 г. в Бухаресте. Более вероятно, что Набоков читал написанную правильной онегинской строфой «сатирическую поэму» своего берлинского знакомого Лери (Клопотовского) «Онегин наших дней», вышедшую книжкой в издательстве Ольги Дьяковой (Берлин, 1922).
[Закрыть]. В этом сочинении середины 1920-х годов со всей определенностью выразились его взгляды на назначение эмигрантского поэта, призванного строго чтить и беречь русское слово ввиду происходящего с русской словесностью в метрополии, но не просто беречь, как антикварную ценность или картину старого мастера, а видеть в этой ценности источник собственного творчества, естественным продолжением которого оно является. С этих позиций в те годы Набоков оценивал современную русскую поэзию в своих рецензиях и обзорах; так, в 1929 году он писал об «Избранных стихах» Бунина следующее:
Стихи Бунина – лучшее, что было создано русской музой за несколько десятилетий. Когда-то, в громкие петербургские годы, их заглушало блестящее бряцание модных лир; но бесследно прошла эта поэтическая шумиха – развенчаны или забыты «слов кощунственные творцы», нам холодно от мертвых глыб брюсовских стихов, нестройным кажется нам тот бальмонтовский стих, что обманывал новой певучестью; и только дрожь одной лиры, особая дрожь, присущая бессмертной поэзии, волнует, как и прежде, волнует сильнее, чем прежде, – и странным кажется, что в те петербургские годы не всем был внятен, не всякую изумлял душу голос поэта, равного которому не было со времен Тютчева. Полагаю, впрочем, что и ныне среди так называемой «читающей публики» – особенно в той части ее, которая склонна видеть новое достижение в безграмотном бормотанье советского пиита, – стихи Бунина не в чести <…>[56]56
Набоков В. <Рец.> Ив. Бунин. Избранные стихи. Изд. «Совр. записки». Париж. 1929 // Набоков В. Собр. соч. русского периода. Т. 2. С. 672–673.
[Закрыть].
В середине 1950-х годов Глеб Струве, английский приятель Набокова и дельный его товарищ по берлинскому «Братству круглого стола», охарактеризовал эволюцию Набокова-поэта следующим образом: «Молодой Набоков не отдал обычной дани никаким модным увлечениям. <…> Набоков – интересный случай поэта, развивавшегося прочь от крайнего поэтического консерватизма в молодости, но, благодаря своей ранней выучке и дисциплине, твердо державшего своего Пегаса в узде и в самых смелых и неожиданных заскоках его»[57]57
Струве Г. П. Русская литература в изгнании. Изд. 3-е, испр. и доп. Париж; М.: YMCA-Press / Русский путь, 1996. С. 120; 122.
[Закрыть]. Другой товарищ Набокова по «Братству круглого стола», Владимир Кадашев, в своей рецензии на его сборник «Гроздь» очень точно описал его кредо поэта: «В дни, когда весь мир, все искусство охвачено бешеным устремлением к Дисгармонии, к Хаосу, – он хочет <…> воздвигнуть строгий и чистый, воздушный замок поэзии внутренне классической» (курсив Кадашева)[58]58
Вл.<адимир> Кад.<ашев> <Рец.> В. Сирин. Гроздь. Стихи. Из-во «Гамаюн». Берл. 1923. ст. 64 // Сегодня (Рига). № 44. 25 февраля 1923.
[Закрыть]. Набоков, разумеется, не был одинок в своем эмигрантском «неоклассицизме». Разделяя взгляды нового берлинского «Цеха поэтов» (1922), а позднее парижского «Перекрестка», восхищаясь Гумилевым, Буниным и Ходасевичем, сочиняя в 1923 году пятистопным ямбом трагедию в пяти актах, сближаясь с таким приверженцем «однотонных схем»[59]59
Бахрах А. По памяти, по записям. Литературные портреты. Париж, 1980. С. 163.
[Закрыть], как Владимир Корвин-Пиотровский[60]60
Е. Каннак, вспоминая Пиотровского, приводит характерный эпизод: «Приятели его порой дразнили: „Владимир Львович, почему такая верность четырехстопному ямбу? Ведь он и Пушкину, как вам известно, надоел“. Он отвечал не без высокомерия: „А я верен молодому Пушкину“» (Каннак Е. Верность. Воспоминания. Рассказы. Очерки. Paris, 1992. С. 246).
[Закрыть], он вынашивал свою философию отвержения историцизма и социального детерминизма, отметал модные концепции переоценки ценностей, эстетизма, «заката Европы» и нового варварства и создавал образ поэта-наследника, поэта-знатока и хранителя королевских сокровищ русской, а после перехода на английский язык – и всей европейской культуры.
В том же 1927 году, когда поэма Набокова была напечатана в Париже, Юрий Тынянов в статье «О литературной эволюции» заметил:
Если мы условимся в том, что эволюция есть изменение соотношения членов системы, т. е. изменение функций и формальных элементов, эволюция оказывается «сменой» систем. Смены эти носят от эпохи к эпохе то более медленный, то скачковый характер и не предполагают внезапного и полного обновления и замены формальных элементов, но они предполагают новую функцию этих формальных элементов. <…> каждое литературное направление в известный период ищет своих опорных пунктов в предшествующих системах – то, что можно назвать «традиционностью» (курсив Тынянова)[61]61
Тынянов Ю. Архаисты и новаторы. Л.: Прибой, 1929. С. 46–47.
[Закрыть].
Опыт Набокова с онегинской строфой и пушкинским ямбом мог бы послужить отличным материалом для этого положения Тынянова. Утверждая в УП вневременную плодотворность пушкинской поэзии и не боясь насмешек над своей «старомодной» приверженностью ей, Набоков, в сущности, повторяет то, о чем не раз писал в своих критических статьях и рецензиях 20-х годов, а позднее напишет в «Даре» (который завершит правильной онегинской строфой), – что лучших университетов для молодого русского поэта, чем великие образцы русской литературы, ему не найти, но что, вместе с тем, в литературе остается лишь то подлинное, индивидуальное достижение, которое, продолжая высокую традицию, привносит в нее нечто совершенно новое.

Примечание 2018 года
В тематическом и программном отношениях к УП близка небольшая поэма «Юность», первоначально названная «Школа». Написанная в Берлине в начале ноября 1923 года (уже сочинен рассказ «Удар крыла» и начата работа над «Трагедией господина Морна») и не опубликованная при жизни Набокова, она являет собой один из ранних опытов его поэтической авторефлексии, с еще по-юношески пылким изложением profession de foi, и открыто, декларативно, в отличие от УП, показывает связь его консервативной или неоклассической позиции с отвержением революционных событий и радикальных культурных преобразований в России.
Лирический герой «Юности» предстает в образе рыцаря древнего рода, противостоящего новомодной литературной нечисти, вырастающей в Советской России, откуда «ползут <…> гугнивые и склизкие» стихи, «полные неблагостного гула» (которому противополагается «благостный» «подвиг наш»), а сами советские поэты названы конокрадами (прозрачная аллюзия на стихотворение Есенина «Хулиган», 1920: «Только сам я разбойник и хам, / И по крови степной конокрад»). Написанные в пушкинском ключе и обращенные к Пушкину и его «живому завету», эти стихи (которые советский критик назвал бы «типично белогвардейскими» и «буржуйскими») не обладают сколько-нибудь значительными поэтическими достоинствами, но примечательны ранним изложением автобиографического материала, позднее использованного в первом романе Набокова «Машенька», а также вниманием молодого автора к композиции и структуре поэмы: в ней семнадцать строф по двенадцать строк в каждой; однако в первой и последней строфах – по одиннадцать строк, причем в первой строфе последняя строка остается холостой и рифма «подхватывается» в следующей строфе, а в последней строфе из-за смены системы рифмовки последняя строка рифмуется с предыдущей, замыкая тем самым и строфу, и всю сквозную рифмовку поэмы. Приведем две первые и четыре заключительные строфы по архивному тексту:
I
И в сотый раз я повторю: глухая,
унылая, квадратная тюрьма!..
Так, муза, так. Ты чувствуешь сама:
у нас, у нас, в гербах благоухая,
живут степей несмятые цветы,
у нас – сквозит в железных наших латах
ночь белая… Так чувствуешь и ты,
когда из края лет моих крылатых
порой ползут стихи – издалека, —
гугнивые и склизкие слегка,
и полные неблагостного гула.
II
В них скука есть мещанского разгула.
Бьет по глазам Пегаса – конокрад…
Ужель моей отчизне надоели
плащи и розы, Делия, дуэли,
и в Болдине священный листопад?
Одной октавой, низкой и певучей,
одним живым заветом дорожу.
Мне чужд соблазн развенчанных созвучий,
я к модному не склонен мятежу.
Такую вот люблю цезуру – зная,
что стих тогда – как плитка костяная:
налево два, направо три очка.
<…>
XIV
Мне снится снег на сизой шубке, снится
мне влажный смех слегка раскосых глаз.
Сон, милый сон, морозный и веселый;
я иногда не доезжал до школы,
на полпути слезал – и в должный час
проходишь ты по Серг[и]евской белой
и я к тебе чрез улицу иду.
Ах, – наше счастье зябкое сидело
на всех скамьях в Таврическом саду.
Сиял мороз. Когда ты целовала[,]
мне жаркой мутью душу обдавало,
а после – снег сиял еще синей.
XV
Немало грез я перегрезил с ней,
с той девочкой в пушистой шубке сизой.
Я школу пропускал и впопыхах
любили мы – и в утренних стихах
я звал ее Лаурой, Монна-Лизой [sic].
И где она? В серебряном саду
все так же спит на черных ветках иней,
гремят коньки по матовому льду
и небо веет тишиною синей.
Но где ж она? Не знаю, не пойму.
В последний раз, – в бушующем Крыму —
из хутора Полтавского – открытка…
XVI
Еще душа не дочитала свитка
эпических скитаний по чужим
краям, еще поют на перепутьях
колдуньи в соблазнительных лохмотьях[62]62
Возможно, описка, должно быть: лоскутьях.
[Закрыть] —
но конь летит и всадник недвижим.
Еще встает из грота потайного
обезумелый великан тоски,
чтоб сгорбиться и притаиться снова —
по мановенью рыцарской руки.
Да, рыцари… Вот щит, простой, железный,
вот подвиг наш – быть может, бесполезный,
но благостный, но светлый, но живой…
XVII
Вернемся мы! Над вольною Невой
какие будут царственные встречи!
Какой спокойный и счастливый смех, —
и отличаться будем мы от всех
благоуханной медленностью речи, —
да, – некою старинной простотой
речей, одежд и сдержанных движений,
затем, что шли мы строгою стопой,
в самих себе не зная поражений,
затем, что мы – в пыли чужих дорог,
все помнили, – затем, что с нами Бог…[63]63
The New York Public Library / Berg Collection / Vladimir Nabokov papers / Manuscript box. In: Album 14 (p. 26–38) / Iunost’. Holograph poem, unsigned. Поэма была впервые опубликована отдельным изданием: Набоков В. Юность / Публ., вступ. ст. М. Минской. СПб., 2016. К сожалению, публикатором, малознакомым, по-видимому, с дореформенным правописанием и собственно версификацией, текст поэмы был сильно искажен. Буква «ять» в словах «белая» дважды прочитана как «ы» (отсюда у публикатора не попадающие в размер «ночь былая» и «Сергиевской былой»), а в слове «ширме» прочитана как «ах» (отсюда – «на деревянных ширмах», тогда как у Набокова – «на деревянной ширме»); буква «ер» прочитывается публикатором иногда как «ерь» (отсюда «пламенеть» вместо «пламенеет», что рифмуется у Набокова с «умеет»); вследствие слабого знания набоковской лексики и непонимания содержания текста публикатор не смогла прочитать слово «гугнивые» и произвольно заменила его словом «пугливые»; слово «цезуру» поменяла на «цензуру», «щит» на «путь», «вот» на «ведь» (снова «ер» на конце превращается в «ерь»), и т. д. и т. п.
[Закрыть]
Продолжение следует
Неизвестные стихи Набокова под маркой «Василій Шишковъ»
Памяти Дмитрия Владимировича Набокова
1
В предпоследней, шестьдесят девятой книжке «Современных записок», вышедшей в Париже в июле 1939 года, когда до нападения Германии на Францию оставалось десять месяцев, так настойчиво повторяется тема конца (М. Алданов – «Начало конца», О. Фельтгейм – «Конец ссылки», Ю. Рапопорт – «Конец зарубежья»), что задним числом этот ряд сочинений в ре-миноре не кажется случайным «выбором редакции», и на их фоне даже в обычном, тонким курсивом набранном уверении «Продолжение следует» звучит скорее философская, а не конторско-бытовая нота. В той же тональности моцартовского «Реквиема» в этом номере лучшего эмигрантского журнала написан некролог Н. Берберовой «Памяти Ходасевича», умершего 14 июня в госпитале Бруссэ, очерк Сирина «О Ходасевиче» и стихи В. Шишкова «Поэты». Здесь обе линии – смутного предчувствия «конца всему» (из набросков ко второму тому «Дара»): эмигрантской литературе, мирной жизни, русской общности за рубежом, – и личной утраты: друга, гениального поэта, родственной души – естественным образом сходятся, образуя новую тему и по-новому окрашивая, как вечерние фонари обреченный к сносу дом, события тех предвоенных лет, в которых все связано: бессилие Лиги Наций, скверное питание, странности Drôle de querre, скудость гонораров, тревожные слухи. Написанные незадолго перед смертью Ходасевича и подписанные недавно взятым новым псевдонимом Василiй Шишковъ (только для стихов, для прозы указывался прежний адресат – В. Сиринъ), «Поэты» содержали удивительно ясный отчет о «положении дел», воздавали должное «потомку Пушкина по тютчевской линии» и открывали поэтическую тетрадь Набокова с чистой страницы. Вот эти девять строф, как они были опубликованы в журнале (но в современной орфографии)[64]64
Современные записки (Париж). Кн. LXIX. 1939. С. 214–215.
[Закрыть].
Поэты
Из комнаты в сени свеча переходит
и гаснет… плывет отпечаток в глазах,
пока очертаний своих не находит
беззвездная ночь в темно-синих ветвях.
Пора, мы уходим: еще молодые,
со списком еще не приснившихся снов,
с последним, чуть зримым сияньем России
на фосфорных рифмах последних стихов.
А мы ведь, поди, вдохновение знали,
нам жить бы, казалось, и книгам расти,
но музы безродные нас доконали, —
и ныне пора нам из мира уйти.
И не потому, что боимся обидеть
своею свободою добрых людей…
Нам просто пора, да и лучше не видеть
всего, что сокрыто от прочих очей:
не видеть всей муки и прелести мира,
окна в отдаленье, поймавшего луч,
лунатиков смирных в солдатских мундирах,
высокого неба, внимательных туч;
красы, укоризны; детей малолетних
играющих в прятки вокруг и внутри
уборной, кружащейся в сумерках летних;
красы, укоризны вечерней зари;
всего, что томит, обвивается, ранит:
рыданья рекламы на том берегу,
текучих ее изумрудов в тумане, —
всего, что сказать я уже не могу.
Сейчас переходим с порога мирского
в ту область… как хочешь ее назови:
пустыня ли, смерть, отрешенье от слова, —
а может быть проще: молчанье любви…
Молчанье далекой дороги тележной,
где в пене цветов колея не видна,
молчанье отчизны (любви безнадежной),
молчанье зарницы, молчанье зерна.
Василий Шишков
«Поэты» Набокова – тот редкий случай, когда стихи приобретают известность, далеко выходящую за пределы их литературного назначения. Они стоят особняком и среди других стихотворений поэтов-эмигрантов младшего поколения, и среди собственных стихотворений Набокова. Такому особому месту они во многом обязаны подписью и связанной с этой подписью историей. Для чего же Набокову понадобился этот «Василий Шишков», этот посредник между «В. Сириным» и «В. Набоковым» с отсутствующей и потому безупречной репутацией? Предлагаемое самим автором объяснение если и не передергивает колоду фактов, то во всяком случае выбрасывает козырем тот, что кажется далеко не самой высокой масти.
Впервые о цели этой мистификации Набоков рассказал десять лет спустя на публичном выступлении в Нью-Йорке. Чтение «Поэтов» он предварил следующим подробным пояснением:
Я теперь прочту три стихотворения, сочиненных мною в Париже в начале войны (курсив мой. – А. Б.). Первые два[65]65
«Поэты» и «Обращение» («Отвяжись, я тебя умоляю…»), печатавшееся впоследствии под названием «К России».
[Закрыть] появились в «Современных записках» за выдуманной подписью «Василий Шишков». Не могу удержаться, чтобы не объяснить причину этого скромного маскарада. В те годы я догадывался, почему проницательность влиятельнейшего зарубежного критика делалась до странности тусклой, когда он брался за мои стихи. Этот талантливый человек был известен тем, что личные чувства – соображения дружбы и расчет неприязни – руководили, увы, его пером. Мне показалось забавным испробовать на деле, будет ли он так же вяло отзываться о моих стихах, если не будет знать, что они мои. При содействии двух редакторов «Современных записок», дорогих и совершенно незабвенных Фондаминского и Руднева[66]66
И. И. Фондаминский погиб в Освенциме в 1942 г., В. В. Руднев умер во французском По в 1940 г.
[Закрыть], я прибегнул к этой маленькой хитрости, приписав мои стихи несуществующему Шишкову. Результат был блестящий. Критик восторженно отозвался о Шишкове в «Последних новостях» и чрезвычайно на меня обиделся, когда выяснилась правда[67]67
Цит. по: Набоков В. Заметки [для авторского вечера «Стихи и комментарии» 7 мая 1949 г. ] / Публ. Г. Глушанок // Владимир Набоков. Pro et contra. Антология. Т. 2 / Сост. Б. В. Аверин. СПб.: РХГИ, 2001. С. 136.
[Закрыть].
Здесь следует обратить внимание на одну важную оговорку и одно вопиющее умолчание: Набоков относит время написания «Поэтов» не к весне, а к осени 1939 года («в начале войны», которая, как известно, началась 1 сентября: «1939. Осенью грянула война», – пишет Набоков в набросках к продолжению «Дара») и не упоминает Ходасевича. Последнее обстоятельство позволяет ему совместить время публикации двух шишковских стихотворений, в действительности отделенных девятью месяцами, и назвать только одну, утилитарную, причину их появления – доказать предвзятость «влиятельнейшего критика». Много позже, в середине 1970-х годов, он назвал ту же причину публикации «Поэтов» в примечаниях к сборнику «Стихов», вышедшему уже после его смерти: «Это стихотворение <…> было написано с целью поймать в ловушку почтенного критика (Г. Адамович, «Последние новости»), который автоматически выражал недовольство по поводу всего, что я писал»[68]68
Набоков В. Стихи. Анн Арбор: Ардис, 1979. С. 319.
[Закрыть]. В этом лаконично-категоричном объяснении Набоков еще резче обостряет свое многолетнее противостояние с Георгием Адамовичем, чем то было в действительности, указывая уже не только на свои стихи как на объект его неприязненного внимания, а на все свои произведения. Наконец, еще один позднейший автокомментарий с любопытным хронологическим сдвигом находим в сборнике рассказов «Истребление тиранов» (1975), где в примечании к рассказу «Василий Шишков» Набоков приводит свой перевод «Поэтов» со следующим пояснением, перевожу:
Желая несколько развеять мрачность парижской жизни в конце 1939 года (шесть месяцев спустя я перекочевал в Америку), я как-то вздумал сыграть с самым известным эмигрантским критиком Георгием Адамовичем (который так же регулярно поносил мои сочинения, как я – стихи его учеников) в невинную игру, напечатав в одном из двух ведущих журналов стихотворение, подписанное моим новым псевдонимом, с тем чтобы узнать его мнение об этом свежем авторе в еженедельной литературной колонке, которую он вел в парижской газете «Последние новости» <…> Это стихотворение появилось в октябре или ноябре 1939 года, если память меня не подводит, в «Русских записках», и в своем критическом обзоре Адамович отозвался о нем с исключительным энтузиазмом (курсив мой)[69]69
Набоков В. Полное собрание рассказов. 3-е изд., уточн. СПб.: Азбука, 2016. С. 707–708.
[Закрыть].
В этом сообщении Набоков вновь относит время сочинения «Поэтов» к осени, а не к лету 1939 года и, словно нарочно путая следы, – к другому журналу (в котором он тоже печатался); кроме того, как и на том выступлении в Нью-Йорке в 1949 году, он ни словом не упоминает потустороннего корреспондента «Поэтов» – Владислава Ходасевича. К вящему недоумению следует отметить, что его оппонент почти три десятилетия спустя не только отлично помнил, когда появились «Поэты», но и косвенно связывал эти стихи с Ходасевичем (далее мы увидим, насколько в действительности прочна была эта связь). В 1965 году Адамович писал А. Бахраху: «А насчет того, что у Набокова есть строчки, которых не написать бы Ходасевичу: у него были стихи в „Современных Записках“, еще до войны, где что-то было о „фосфорных рифмах последних стихов“ <…>. Меня это стихотворение поразило, я о нем написал в „Последних новостях“, спрашивая и недоумевая <…> и не зная, что это Набоков. Конечно, в целом Ходасевич больше поэт, чем он. Но у Набокова есть pointes, идущие дальше, по общей, большей талантливости его натуры»[70]70
Классик без ретуши. Литературный мир о творчестве Владимира Набокова / Сост. Н. Г. Мельникова, О. А. Коростелева. М.: Новое литературное обозрение, 2000. С. 622–623.
[Закрыть].
Набоков завершает свое примечание к рассказу «Василий Шишков» и всю историю литературной вражды с Адамовичем ироничной эпитафией (Адамович умер в 1972 году): «Я встречал его всего дважды, мимоходом; по случаю его недавней кончины многие старые литераторы превозносили его доброту и проницательность. В действительности в его жизни были только две страсти: русская поэзия и французские матросы»[71]71
Набоков В. Полное собрание рассказов. С. 709.
[Закрыть].
Итак, в интерпретации Набокова события развивались следующим образом: осенью 1939 года он публикует «Поэтов» с целью проучить Адамовича, выражавшего недовольство по поводу его стихов / «всего»; попавшийся на крючок Адамович, восхищенный стихами Шишкова, вскоре выступает с хвалебной речью в «Последних новостях» – газете, в которой он вел свой критический отдел. В той же газете Набоков публикует саморазоблачительный рассказ «Василий Шишков» («в декабре 1939-го? Здесь я вновь не могу ручаться в точности», – признается Набоков в том же примечании[72]72
Там же.
[Закрыть]), поместив в него «критический разбор самого стихотворения и похвал Адамовича»[73]73
Набоков В. Стихи. С. 320. Ни «разбора» стихотворения, кроме одного замечания о слоге, ни «похвал Адамовича» в рассказе нет.
[Закрыть]. Затем вновь выступает Адамович, вынужденный оправдывать свой промах искусностью набоковской «подделки» под другого, одареннейшего поэта. Таким образом, Набоков сосредоточивает события, относящиеся к Шишкову, вокруг нескольких осенне-зимних месяцев 1939 года, связывая их с началом войны и концом русской эмигрантской литературы.
В действительности события развивались иначе. Вот их краткая хронология.
Согласно «Камер-фурьерскому журналу» Ходасевича, 21 мая, в воскресенье, Набоков приходит к нему на квартиру, но Ходасевич так плох, что не может его принять.
26 мая Ходасевича помещают в госпиталь.
29 мая Набоков посылает Рудневу «Поэтов» и сообщает о начале подготовки статьи о Ходасевиче: «Получив Ваше письмо, сразу раздобыл нужные книжонки для статьи и надеялся ее приготовить до отъезда в Лондон. <…> Чувствую себя перед Вами виноватым, посылаю Вам зато стихотворение. Было бы и приятно, и забавно, если бы Вы согласились его напечатать под тем псевдонимом, коим он[о] подписан[о]»[74]74
«Современные записки» (Париж, 1920–1940). Из архива редакции: В 4 т. / Под ред. О. Коростелева и М. Шрубы. М.: Новое литературное обозрение, 2014. Т. 4. С. 336–337. В 2012 г., когда мы опубликовали эту работу, нам еще не было известно приведенное письмо Набокова к Рудневу, из которого следует, что Набоков сочинил «Поэтов» не после, а незадолго до кончины Ходасевича. Однако, внеся соответствующие хронологические корректировки в настоящем издании, мы не меняем самого взгляда на замысел «Поэтов» и скрытое в них обращение Набокова к Ходасевичу. Как писал Андрей Седых, «Смерть Ходасевича <…> никого не поразила <…> друзья знали в последнее время, что дни прекрасного поэта <…> сочтены» (Седых А. Болезнь и смерть В. Ф. Ходасевича // Сегодня. 1939. 19 июня). Ср. в письме З. Гиппиус к Н. Берберовой (от 29 мая 1939 г.): «Хотела вам сейчас же ответить, милая Нина Николаевна, но тут сразу получились какие-то очень плохие вести о Вл.<адиславе> Фел.<ициановиче>, и мне подумалось, что м. б. вам сейчас не до моего письма? Как с ним теперь?» (Гиппиус З. Письма к Берберовой и Ходасевичу / Ed. by E. Freiberger Sheikholeslami. Ann Arbor: Ardis, 1978. С. 36).
[Закрыть].
До 21 июня Набоков закончил статью о Ходасевиче, что следует из его недатированного письма к Рудневу: «Мне очень совестно именно по поводу этой статьи говорить о гонораре (хотя профессиональная этика В. Ф. Ходасевича была бы этим только удовлетворена), но хочу Вас попросить мне выдать под нее – и под Шишкова – все, что Вы можете, – а главное, в возможно ближайший срок»[75]75
«Современные записки» (Париж, 1920–1940). Из архива редакции. Т. 4. С. 337.
[Закрыть].
После 18 июня Руднев послал «Поэтов» М. Цетлину (редактору поэтического отдела журнала), который в это время находился в Лондоне. Цетлин, обсуждая состав посвященного Ходасевичу номера, 28 июня пишет в ответ Рудневу: «Стихи С<ирина> эффектны, но не стоят его прозы! Ты очень удачно выбрал, кому дать написать о Ходасевиче. Вейдле был бы хорош для критической статьи, а Берб<ерова> и Сирин дадут, верю, портрет»[76]76
Там же. Т. 1. С. 897.
[Закрыть].
14 июня, в день, когда Набоков возвратился из Лондона в Париж, умирает Ходасевич.
21 июня Руднев написал Набокову: «С внутренним конфузом подсчитал, сколько полагается Вам и Шишкову по самому высокому тарифу; покривив душой перед самим собой, – еще умножил на 2, – и все же вижу, до чего ничтожная сумма получается – всего 166 фр. Простите «Совр<еменные> Зап<иски>» за их убогость»[77]77
Там же. Т. 4. С. 338. О величине гонорара можно судить по тому, что, согласно журнальному объявлению, продажная цена одного номера «Современных записок» составляла 35 франков.
[Закрыть].
В июле 1939 года выходит журнал со стихотворением «Поэты» и статьей Набокова «О Ходасевиче».
17 августа Адамович в «Последних новостях» печатает свой восторженный отзыв на эти стихи.
12 сентября Набоков в тех же «Последних новостях» выпускает свой последний русский рассказ «Василий Шишков» – так сказать, последние новости об авторе «Поэтов» и небезызвестном Сирине.
22 сентября, прочитав инвективу Набокова, Адамович признает свое поражение, отдавая должное «дарованию» и «изобретательности» Сирина, и делает верное по сути замечание, отчасти оправдывающее его промах: «Каюсь, у меня даже возникло подозрение: не сочинил ли все это Сирин, не выдумал ли он начисто и Василия Шишкова, и его стихи? Правда, стихи самого Сирина – совсем в другом роде» (курсив мой)[78]78
Цит. по: Шраер М. Д. Набоков. Темы и вариации / Пер. с англ. В. Полищук при участии автора. СПб.: Академический проект, 2000. С. 232.
[Закрыть].
В октябре Набоков сочиняет второе шишковское стихотворение («Обращение») и посылает его Зинаиде Шаховской[79]79
Автограф стихотворения с подписью «Вас. Шишков» и датой «X. 39» отложился в архиве З. Шаховской в Вашингтоне. См.: Шраер М. Д. Набоков. Темы и вариации. С. 220.
[Закрыть], после чего следует короткий эпилог: той же осенью Адамович добровольцем вступает во французскую армию, в марте 1940 года Набоков в последнем номере «Современных записок» печатает под именем Шишкова свое «Обращение», символично соседствовавшее со стихами покойного Ходасевича, а в мае того же года Набоковы из охваченной войной Европы отплывают в Америку.
Такова внешняя канва этой почти детективной истории. Ее часто пересказывают как своего рода анекдот из table-talk: гениальный и недооцененный писатель подвергает завистливого и предвзятого критика изощренной литературной пытке; но только представляется, что, упрощая мотивы и сокращая число действующих лиц ради выразительности и сюжетной цельности этой истории, Набоков лишь искал пример для известной оскар-уайльдовской апории о том, что жизнь подражает литературе (Ходасевич – Кончееву, Адамович – Мортусу, Сирин – Федору Годунову-Чердынцеву). И его поздняя попытка свести эти небезупречные, но пронзительные les vers de la mort со всеми их шифрами и шлейфами к давнишней и совершенно исчерпанной (ввиду перемены декораций, жительства, самого языка) литературной тяжбе, вытянув из запутанного клубка событий одну-единственную, пусть яркую, нить, при более пристальном рассмотрении перестает казаться следствием странной забывчивости и вызывает массу вопросов.
Разве Адамович выражал недовольство «по поводу всего», что писал Набоков? Вовсе нет. В октябре 1937 года он написал восторженную рецензию на вторую главу «Дара»[80]80
Адамович Г. <Рец.> Современные записки. Кн. LXIV. Часть литературная // Последние новости. 1937. 7 октября.
[Закрыть], в феврале 1939 года, незадолго до публикации «Поэтов», дал в «Последних новостях» на редкость высокую оценку рассказу «Лик»:
Мне много раз приходилось писать о творчестве Сирина – всегда с удивлением, не всегда с одобрением. Рад случаю полностью воздать должное его исключительному, «несравненному», как говорят об артистах, таланту. Какие бы у кого из нас с ним ни были внутренние, читательские раздоры и счеты, нельзя допустить, чтобы эти расхождения отразились на ясности и беспристрастности суждений[81]81
Цит. по: Набоков В. Полное собрание рассказов. С. 735.
[Закрыть].
Но если бы и так, уместно ли было, затаив обиду, затевать литературную игру с недругом на страницах журнала, посвященного памяти Ходасевича? Разве некрополь подходящее для этого место? Или у Набокова все-таки было намерение, вопреки его утверждению в эссе «О Ходасевиче», кое-кого чувствительно «задеть кадилом»? Можно ли объяснить публикацию «Поэтов» под именем Василия Шишкова единственно желанием напомнить о блестящем очерке Ходасевича «Василий Травников» (1936), описывающем судьбу «одареннейшего поэта» (как сказал Г. Адамович) измайловского круга? Почему Набоков в своем изложении этой истории упоминает имена двух редакторов «Современных записок» и не упоминает имени Ходасевича? Показался ли ему десятилетие спустя печальный повод к сочинению «Поэтов» менее значительным, чем казался тогда, когда он называл Ходасевича «крупнейшим поэтом нашего времени» и «гордостью русской литературы» («О Ходасевиче»)? Но если так, то почему четверть века спустя в предисловии к английскому переводу «Дара» (1962) Набоков вновь повторил свою беспримерно высокую оценку Ходасевича: «Этого мира больше не существует. Нет больше Бунина, Алданова, Ремизова. Нет Владислава Ходасевича, великого русского поэта, никем еще в этом веке не превзойденного»[82]82
Набоков В. Предисловие к английскому переводу «Дара» / Пер. Г. Барабтарло и В. Набоковой // Набоков В. Дар. СПб.: Азбука, 2009. С. 474–475.
[Закрыть]? Хотел ли Набоков во чтобы то ни стало обособиться от эмигрантского писательского круга, в том числе отчасти и от В. Сирина, и обратить внимание на свои новые во всех смыслах стихи? Можно ли, наконец, свести «шишковское дело» к атаке на зоила Адамовича, к стремлению еще раз поддеть давнего и не раз уже поддетого противника (довольно будет вспомнить «адамову голову» из «Калмбрудовой поэмы „Ночное путешествие“» и «Христофора Мортуса» в «Даре»), искренне не любившего стихов В. Сирина и однажды принявшего сторону З. Гиппиус и Г. Иванова в газетно-журнальной драке, что была развязана грубой рецензией последнего («Числа», 1930, № 1)? Или к тому были другие, более важные и менее явные причины, имевшие отношение к писательским и жизненным перипетиям самого Набокова, во второй половине тридцатых годов переживавшего разлад не с одной лишь своей пушкинско-бунинской музой?









































