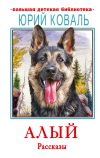Текст книги "Расщепление ядра"

Автор книги: Андрей Бинев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Новые условия
Уже в Москве майор Федор Разумов вдруг восстановился в полиции, став комбатом в одном из полков ОМОНа, расквартированном где-то в ближайшем Подмосковье. Кто и как посодействовал его трудоустройству в полицию после известного увольнения в сибирском городке, так и осталось для большинства загадкой. Об этом сплетничали в окружении Приматова, недоверчиво косились на поэта-полицейского, но никто не посмел обвинить майора в двурушничестве или в беспринципности. Ким Приматов однажды на литературных чтениях (так он называл не без оснований заседания их полуподпольного клуба «русских социалистов») обвел всех суровым взглядом и потребовал раз и навсегда прекратить обсуждать всякие вопросы, связанные с личной жизнью и с профессией членов клуба. Это, дескать, неверно в корне. Нет ненужных для народа профессий, если они не приносят вполне очевидной пользы государству и нации. Банкиры и те полезны, если работают на благо страны, а не только на собственные карманы и на проворовавшихся чиновников. А уж полиция нужна! Не та, что охаживает дубинками почем зря народ, а та, что его бережет. ОМОН, мол, разным бывает не столько от того, что делает по приказу диктатора, а от того, как он это делает и кому сопереживает. Тирания, порой, бывает ненавистна и самой полиции, которая постепенно становится уже не столько источником давления на массы, сколько истомленным ретранслятором беспощадных приказов верховной власти и прежде всех остальных испытывает на себе ее мощный пресс. Нередко именно там зреет скрытый протест, особенно опасный для власти сатрапа из-за прочных солидарных связей внутри хорошо вооруженного и профессионально обученного полицейского сообщества. Многие политические перевороты в мире именно по этой причине стали не только возможны, но еще и успешны. Нужно вести в этой среде терпеливую тайную работу, привлекать на свою сторону как можно больше людей, но в то же время не увлекаться этим, помня, что в таких тесных и дисциплинированных коллективах всегда есть место своим «иудам». Они могут сорвать дело.
Любавин тогда криво посмотрел на Приматова и ухмыльнулся. Соловьев лишь неопределенно пожал плечами, остальные же смущенно потупились, но разговоры на эту тему тогда прекратили.
К затаенному обсуждению роли Разумова в деятельности организации все же вернулись через полгода, когда он был направлен в составе полка в Новороссию, под Луганск. Полицейских переодели в форму без знаков различия, неопределенной расцветки, навесили так называемые «разгрузки» и переправили через вполне условную границу. А спустя две недели туда, к Федору, поехали с очередным гуманитарным конвоем сначала Любавин, а затем, сразу за ним, и Соловьев. Принял их и разместил в брошенном доме богатого украинского базарного торгаша, дав сопровождающих из местных ополченцев, как раз майор Разумов. Тогда стало понятно, что имел в виду Ким Приматов, когда сказал о принципиальной разнице в полицейских. Он, оказывается, знал больше, чем говорил, хотя кто бы в этом сомневался!
Но и по очередной кривой усмешке Любавина тоже можно было понять, что он не только догадывался, но даже знал о новых политических условиях так называемого подполья «русских социалистов». Увидев все это и крепко обдумав, Соловьев чуть было не поссорился с Любавиным, с которым за последние два года жизни того в Москве сдружился. Они ведь даже стали выпускать два раза в месяц политический журнал с яркими интервью и с репортажными снимками из горячих точек, с некоторых важных правительственных совещаний, с заметных или, напротив, скрытых от общественного контроля и глаз, событий. В Интернете появился более полный аналог журнала, аналитичный и оперативный. Деньги на все это приносил Любавин. Соловьев догадывался, что они приходят из тех рук, которые им самим же и были названы Киму Приматову и самому Любавину после беседы с доверенным человеком Товарова. Андрей задал одни раз вопрос об этом Любавину, но тот отмахнулся – не дело, дескать, говорить на темы, далекие от его компетенции.
Соловьев попытался возразить, но Даниил Любавин вдруг посерьезнел еще больше и сказал, что в их святой борьбе за справедливое распределение общественного продукта на разных ее этапах хороши разные же и методы. И допустимы! Если наверху находится кто-то, способный составить им, в определенном смысле, компанию в деле, поддержать финансами или организационно, предупредить или защитить, и если идеи его руководства в чем-то совпадают с идеями и даже с некоторыми целями их подполья, то почему бы не принять помощи.
– Так какое же это подполье! – возмутился Андрей.
– Такое же, как было у большевиков, – резко отрезал Даниил, – нужны Советы, будут, не нужны в настоящее время, не будут, развеют их. А после опять соберут. Так было и так будет. Это всего лишь примитивный пример почти из школьного курса, но пример яркий, доказательный. Не веришь, спроси у Кима. Он лучше знает, что можно, а чего нельзя.
– А в чем общность наших целей с этими…, с Товаровым?
Любавин схватил его за руку и притянул к себе:
– Вот этого никогда и нигде не говори. Тебе доверено, а ты мелешь языком. Сам же о подполье беспокоишься, а язык распускаешь. Нет никакого Товарова! Мы не родня, как тебе показалось. Так…, учились рядышком, в разные годы…, и всё.
Теперь же только и говорили в оппозиционной либеральной среде, что последние политические разработки с участием военных дело рук как раз Станислава Игоревича Товарова. Сначала в полицию невесть каким образом вновь приняли поэта и мятежника майора Разумова, а Соловьев с Любавиным вскоре перебросили со всеми предосторожностями к нему в Новороссию. Делалось это как будто и не то, что тайно, а все же как-то с двусмысленными элементами острой политической интриги, которая скрывала не столько настоящее, сколько будущее.
Обида за недоверие вновь захлестнула Андрея. Еле сдержался, чтобы не нагрубить Любавину и Приматову. Неприятно было и то, что считают за неразумное дитя, как будто берегут от всего взрослого. Сам же принес ту информацию одному и другому, в журналах их и на сайтах всерьез работает, пишет, анализирует там, в каком-то почти театральном, опереточном, подполье участвует, словно, ребенок играет в войну, в казаки-разбойники, а ему не доверяют.
Однако в Андрее всегда жили и мыслили как будто две противоречивые личности, которые постоянно находились друг с другом в остром конфликте по поводу самых важных для него самого решений. Если одна из них на чем-то настаивала, то другая непременно возражала, даже гневалась. Побеждала, как ни странно, та, что была наименее аргументирована, а часто и абсурдна. Это потом страшно расстраивало Андрея, но уже по истечении определенного времени, когда спорная ситуация была ясно видна с высоты иного возраста и опыта. Он уже не считал себя разумным человеком, сомневался в своей цельности (как когда-то по этому поводу выказывал настороженность и его покойный отец), отчаивался от ощущения своей сумбурности и неуместной, как ему теперь казалось, эмоциональности. Это, последнее, ему с презрением подсказывала та часть его беспокойной личности, которая с самого начала подленько настаивала на прагматичных, даже, порой, мелочных, решениях, от которых исходил тяжелый дух честолюбия или даже страха.
Отец как-то сказал ему, что в любом мыслящем, нравственном человеке всегда сосуществуют обе личности и что в этом суть всех гуманных философий: в постоянной борьбе добра со злом, тела и души, трусости и отваги, предательства и верности, житейского и духовного. Если этого нет в человеке, считал отец, значит, и нет места справедливым и здоровым сомнениям. Тогда он противен и, более того, вреден самой природе.
В подобных сомнениях Андрей пребывал и теперь. В такие моменты для него не существовало мелочей, все было необыкновенно важно, все имело свою основательность.
Впрочем, думал он, успокаиваясь на этот раз, и правильно, что не доверяют, а, скорее, все же по-отечески берегут. Если бы от него зависело, где брать деньги на их общественную борьбу, он ни за что бы и не притронулся к тем деньгам Товарова. А так как будто и не видит, и не знает, но дело свое всё равно делает, как следует. И пишет. Новый роман, о людях, потерявших почву под ногами, веру в себя и в страну, уважение детей, да всю основу человеческой жизни(!), которая и есть та самая почва, единственная, положенная человеку. Вот напишет, и про Товарова там будет, пусть под другой фамилией, и про соглашательство с такими, как он, и про интриги в их собственной среде. Обо всем будет, что так его возмущает и что по существу является расщеплением ядра, мешающим здоровому делению клетки.
Это его и успокоило окончательно. С такими мыслями он уехал вслед за Любавиным на необъявленную войну за землю, на которой можно будет когда-нибудь построить то, что не удалось сделать во всей огромной стране, называвшейся когда-то СССР. Это будет новая республика со старыми, проверенными революционным временем идеалами. Воевать там, размахивать автоматом или пистолетом, стрелять, наступать, обороняться он не собирался, потому что считал, что его предназначение просветительское, а от того не менее страстное и важное с точки зрения революционности. Комиссарская и журналистская работа. Комиссарская – потому что подавляет, разумеется, лишь в меру своих малых сил, бесстрастный характер имперских амбиций России, а журналистская – потому что стремится к объективности, вопреки интересам обеих сторон войны.
Но тут наступала очередная путаница, которая буквально сводила Соловьева с ума. Ведь и та сторона была всегда своей, родной, как бывает родным человек одной с тобой крови, пусть и родившийся, в отдалении от твоей земли.
Он знал, что те же или другие люди, постарше, когда-то тайком, через несколько границ, порой, с подложными документами, собирались в отряды и ездили в Сербию, сначала на первую войну, потом на вторую. Они получали там балканские имена и вступали уже в другие отряды. Было их человек шестьдесят из окружения Кима, а то и больше. С другой стороны были мусульмане. С Кавказа, и, должно быть, из Татарстана, то есть из российских земель, туда же, к ним, к балканским мусульманам, почти также пробирались уже другие бойцы. Они попадали в свои отряды, и вот случалось, что сталкивались люди, приехавшие из православных, в том числе, казацких сообществ, из организаций, управляемых Кимом Приматовым, с одной стороны, с людьми, приехавшими из той же России. Тут они были врагами. Люди Кима, часто, отрицавшие Бога, не считавшие себя православными христианами в силу своего неверия, все же вливались в армию, флагом которой было именно православие, как объединяющая идея, и славянство, как крепость кровного характера. Значит, тогда Ким уступал этому, не отрицал важности верований, не ставил во главу всего ни классовой, ни националистической идей.
Было в этом что-то двуличное, что-то рвавшее Андрею душу. Украинцы и русские стояли с сербами по причине и общего славянства, но и по причине общей веры. Что же теперь на Украине, в ее восточной части? Откуда эта слепота, глухота? Ему, как он полагал, верующему человеку, это было особенно больно. Как бы не растерять вот так эту веру!
У них с украинцами одна ведь материнская колыбель, да к тому же здесь же когда-то, более тысячи лет назад, установленная. Пожалуй, в этом, казалось бы, в единственном, он был одинок в своей среде, потому что ни Приматов, ни Любавин не разделяли его религиозных взглядов, это постепенно выяснилось. Они их вообще не имели, никаких! Стоило ему об этом задуматься всерьез, как обнаруживалось, что это относило его слишком далеко от них, чтобы быть «единственным» в противоречиях с их взглядами и действиями. Но он прятал эти свои мысли от себя самого, откладывая их разрешение надолго, на будущее, и нервничал, мрачнел. Если он так последователен в вере, то почему так непоследователен в житейских оценках того, что и как делается. Можно ли отложить на потом то, что составляет основу жизни для него? Тогда на чем стоишь? Получается, что ты без почвы – ни с душой, ни с теми, кто ни во что не ставит твою веру, а упрямо преследует свои светские цели. Но ведь и эти светские цели тоже содержали в себе справедливость! Скорее всего, они временные попутчики, но, в то же время, он делает для них больше, чем они для него и для его веры. Это все потому, что у них в руках светские возможности, востребованные сиюминутной политикой, у него же внутренняя убежденность во временности этого, в зыбкости действительности. Он часто думал, что все это дьявольщина, что именно так и проникает нечистый глубоко в душу, обходя примитивные соблазны златом, но подменяя это свое вполне очевидное искушение изуверским же искушением куда более опасным грехом – властью над человеком, над народами, даже над историей. Сев с ним за стол, не жалуйся на зловоние, исходящее от него и тебя же обволакивающее. Пройдет совсем немного времени и ты сам начнешь его источать.
Вот это всё и сводило с ума Соловьева. Он часто ездил, как и Любавин, на ту воюющую территорию, возвращался назад, писал репортажи, скороспелые, нервные, издавал их в журналах, собирал в будущую книгу, а когда возвращался и смотрел на себя в зеркало или на запись по телевидению (его теперь все время таскали на государственные каналы как назначенную юную совесть талантливого поколения), то вдруг видел те самые черты, которые охарактеризовал бы для других как сатанинские, дьявольские. Ему казалось, что от этих видов исходит тот самый смрад; он сочится через озлобившиеся глаза, из вдруг проявившихся резких носогубных складок, которых не было у его мятежного отца даже в самые трудные годы – годы одинокого, нескончаемого боя со всеми искушениями, какие есть на свете.
Но и среди тех, кто целиком отдавался вере, уходя из повседневной жизни в то, что понимал по существу очень примитивно, либо, в лучшем случае, воспринимал как бесспорные святые символы, он не чувствовал себя своим. Порой ему казалось, что в той среде внутренние противоречия носят куда более непримиримый характер, нежели даже самые острые неприязни в светской жизни, со всей их обыденностью, нервозностью, алчностью. Мракобесие, свойственное недалеким догматикам, вызывало у него большее отвращение, чем авантюрность, конфликтность, мстительность и властолюбие, порой, в его житейском окружении, а чаще на правительственной верхушке, в том числе, и на самой вершине русской власти. Этому еще как-то можно противостоять, даже если потребуется жертва и не одна, и можно рассчитывать на поддержку таких же, как ты, пусть и немногочисленных, но все же определенного типа людей. Случаются удачи, и даже если не получится одолеть это земное чудовище, то, во всяком случае – урезонить как-то, вырвать паузу в бесконечном давлении на общество, на конкретных людей, сдержать хотя бы на время. А вот при том слепом мракобесии все аргументы бессмысленны, оно же само беспощадно, крайне жестоко, слепо и смертельно опасно, как всякая инквизиция с ее кострами и распятиями. Разве за этим, в конечном счете, не стоят всегда самые что ни на есть прагматичные интересы тех же алчных атеистов, для которых неверие не является философской субстанцией, не претендует на научные убеждения, а всего лишь – один из циничных приемов, позволяющий утвердить над замороченными мракобесием головами собственный алмазный трон? И в этом особая подлость одних и непростительная глупость других.
Он опять вспоминал об ответе отца о том, во что тот, недавно принявший православие, верит. «В расщепление ядра и в деление клетки я верующий» – ответил отец. Только теперь ответ становился ясным, а именно тогда, когда сам же многое испытал и понял, казалось бы, совсем другое. Отец не разделял в себе веру и жизнь. И первое, и второе было для него и естественным и единым. Он не мог бы поступиться верой ради житейских прибылей хотя бы потому, что откажись от одного, немедленно потерял бы другое, или схватился бы за одно и тут же бы получил другое. Его вера была осознанной, без какого-либо религиозного догмата. Было ли это христианством или не имело ничего общего с религией вообще? Нравственность, совесть, житейская мудрость, странность психики? Что это было? Почему жило под сенью православного храма, избранного им? Ведь евреем же родился, иудеями были оба его родителя. А не потому ли, что любой дом для честной души всегда должен содержаться в чистоте, где бы он ни был и как бы ни назывался? Ну, вот сейчас душа в этот дом забрела, его душа, а потом в другой пойдет, и там все вычистит и выметет. И даже не душа, а руки! Между тем и другим он разницы не видел.
Но коли так, тогда что делает сам Андрей среди этих своих «единомышленников» – старого Кима и молодого Даниила? За ними, с одной из сторон, стоит Товаров, а за Товаровым кто? Где тот дом, который надо чистить? Не придется ли сначала самому вымыться, выскоблиться, а потом уже взяться за метлу?
Не слепое ли воинство рядится за всем этим? Тогда чье оно? Осознает ли само, что творит и что с ним творят? А если эти легионы возглавляют не заблудшие слепцы, а хищные зрячие с холодными глазами и без сердец, тогда там ли ему место, сыну Исаака, самонареченного Ильи?
Похоже, однако, что ни того же Приматова, ни Любавина подобные мысли не посещали. Они жили уже без сомнений.
Это и были теми самыми «новыми условиями», что отдавали смрадом ветхости древних заблуждений и даже преступлений.
Теория относительности
Даниил Любавин, тайно прозванный Товаровым «Тузом», более всего страшился определенности. В ней он видел своего главного противника. И это было поистине страшно.
Однажды он понял, уже в Москве, что его жизнь в действительности всегда была убогой и незадачливой. В заштатном городке, в не слишком живописном трудовом ущелье неохватной Сибири, всего лишь маленькая пальмочка в цветочном горшке во времена оные воспринималась невероятной роскошью далекого яркого мира. Одно лишь созерцание экзотического растения было, как ему тогда казалось, вполне достаточным для исчерпывающего понимания действительности. Любавина, тогда еще подростка, пугала именно такая жалкая определенность. Не будь ее, все можно было отнести к мечте или к фантазии. Где-то якобы есть что-то необычное, а может быть, и нет ничего, все также жалко и скучно, как в его городке? Пальмы, моря, синие небеса, нескончаемое солнце, богатство и легкость жития – все выдумка, все плод писательского воображения, а вовсе не разнообразие жизни. Но горшок с пальмочкой, когда-то виденный им у соседки, заставил его задуматься над тем, что как раз разнообразие, прежде всего, именно разнообразие жизни и дарует свободу выбора.
Появление Кима Приматова неожиданно давало ему возможность оторваться от скучной неизменности того житейского унынья, в котором он появился на свет. Не стал бы Ким так настаивать на своей правоте, если бы в природе не было и другой. То был серьезным аргументом, безусловно доказывающим существование иных миров, того самого разнообразия его форм, но куда более сложных, чем маленькая пальмочка в соседском горшке, виденная им в детстве.
Возможно, для кого-то подобные сомнения и подобные же открытия провинциала из далекой земли, покажутся тривиальными. Но когда мир скрыт за плотной завесой незнания о самом его существовании, а то, что все же каким-то образом просачивается сквозь случайные щели в той завесе, выглядит фантастично, почти сказочно, то и доказательства естественного присутствия в далекой большой жизни ярких, шумных миров вызывает одновременно и шок, и искреннее восхищение, но и глубочайшую обиду за то, что неведомая сила или чья-то злая воля, поразившие ту глубокую провинцию и тебя в ней, обкрадывают жизнь с большей жестокостью, чем поездной вор уснувшего пассажира.
Когда же вдруг изменилась общественная жизнь и милый горшочек с пальмочкой остался лишь в детской памяти, Даниил всем своим существом ощутил ту самую свободу выбора для себя лично. Он наконец вышел из ущелья, опираясь на жесткую руку Кима, и хоть та рука должна была вести его в другое, почти такое же, ущелье, вовсе не собирался держаться за нее вечно. Ким это тоже понимал и решил не противостоять попусту действительности, а договориться с ней раз и навсегда о том, как сохранить свой личный оазис и как приучить пришельцев, наподобие молодого и умного Любавина, к его несколько замутненной воде.
Даниил оказался достаточно сообразительным сравнительно молодым еще человеком, которому удалось понять разнообразие мира. Он увидел и его несокрушимую мощь в местечковой традиционности, в незыблемости житейских установок в самых малых его сообществах, в его бесконечных древних пещерах, в которых тысячелетиями обитали племена, рода и семьи, но и его устрашающую изменчивость, когда эти же сообщества соединялись в одно огромное пространство. Частные, безальтернативные, нередко сумеречные мирки составляли мозаику могучего яркого полотна, и выход за пределы сих скучных образований был приемлем лишь, если сохранялось право на возвращение в них, обратно, под их защиту, чтобы переждать там вселенские бури и общечеловеческие невзгоды. Маленькая смрадная берлога может быть противна огромному миру, но уютна ее обитателям, для которых она сама и есть замкнутый мирок чувств, привычек и тихого, безопасного быта. Ким Приматов такое право возврата к уюту этого мирка как будто даже гарантировал. Если бы он отменил обратный ход, встал бы за спиной ушедшего, то сам бы и остался с собственным крошечным горшочком с пальмочкой, когда-то виденным Даниилом у соседки. Ведь такая «пальмочка» есть у каждого, без исключения, даже если вокруг бурлит огромная вселенная, в которой он является одним из ее пузырьков. Уж кто-кто, а Ким это понимал буквально на философском уровне, и уж, во всяком случае, знал по собственному опыту скитальца и изгоя.
Москва доказала Даниилу Любавину верность его ощущений, а творческие успехи, достигнутые благодаря литературному дару, давали возможность пробить в новую его жизнь все то, что было недостижимо для посредственных людей.
Даниил создавал себя сам, словно высекал из твердого гранита. Он изменился даже внешне – стал мощнее, спокойнее, уверенней. Короткий бобрик на крупной, правильной формы, голове, спортивная, жилистая худоба натренированного тела, рельефные мышцы рук, широкие плечи, тяжелый, неподвижный взгляд с холодной искоркой сарказма, емкие и сильные слова, сливающиеся во фразы, как металл в оружейные формы – все это составляло теперь его вполне востребованный общественный образ. Его сторонниками сначала стали в основном сильные, часто неглупые и властные женщины, затем уже и воинственно настроенные мужчины, склонные к решительному отстаиванию своих взглядов в той важнейшей части духовной жизни, которую они считали не только своей безраздельной собственностью, но и единственно допустимой идейной формой существования для всего государства. Такие люди нередко становятся предтечей суровых социальных движений, и тем они важны, и тем опасны, что взгляды их имеют в основе своей не новое, свежее, а, напротив – тяжелый постамент старого, когда-то уже давшего трещину, но так и не разрушенного.
Круг почитателей ширился, креп с впечатляющей быстротой. Первые его фанаты имели свойство вести за собой тех, кто с самого начала доверял их личному выбору, а уже те, и сами после очарованные ими, вели следующую доверчивую шеренгу. Один крупный камень увлекает за собой поток. Таков, вероятно, закон и всякой лукавой рекламы – найди центральную опору, определи ее фронтальную линию и сдвинь хоть немного в нужном направлении, а дальше лишь успевай собирать намеченные камни, обращающиеся волшебным образом в золотые империалы.
Рядом с Любавиным, на почетном пьедестале, стоял старый мудрец и заслуженный общественный скандалист, писатель и поэт Ким Приматов. Его обаятельным младшим другом был юный талант Антон Спиноза, он же Андрюша Соловьев, сын ученого и, как рассказывали, страстотерпца.
Правда, почти никто не знал, что за широкой, мускулистой спиной талантливого молодого писателя и во всем, казалось бы, определенного человека, притаился другой энергичный мудрец – Станислав Игоревич Товаров, по прозвищу «Джокер». Ну и знали бы! Что ж с того! Так прозвище ведь не уголовное, а исключительно уважительное, свидетельствующее лишь о том, что Джокер, как ни верти, не имеет отражений. Не то, что карты с напомаженными физиями, о которых никогда не скажешь, где у них верх, а где низ. Разве что, крапать их осторожно по скучной рубашке, для посвященных… Ну а кто крапать будет? Он и будет – Джокер. Рука у него на этот счет была поставлена верно.
Между ними когда-то состоялась первая серьезная встреча, а после уже они виделись часто. На Старой площади, в сером здании, в котором разместились как будто бы сторонние организации, арендовавшие здесь небольшие офисы, были такие, которые располагали помещениями с потайными ходами, с черными лестницами, охраняемыми куда строже, чем их же парадные двери и вестибюли с колоннами и гардеробами. Эти организации или компании числились творческими, деятельность которых была направлена на пропаганду центральной власти. Аббревиатуры названий таких компаний для непосвященных мало что говорили. Лишь иной раз, если внимательно всмотреться в титры фильмов, выходивших на большой и периферийные экраны, можно было заметить эти непонятные сокращения. Они же иногда появлялись в совершенно определенных книгах, в их выходных данных.
Это и ближайшие здания, с недавних пор обнесенные каменной оградой с частоколом черных металлических прутьев, оканчивающихся острыми пиками, всегда ютили у себя пропагандистов и идеологов верховной власти. Раньше эта власть целиком принадлежала одной лишь партии – коммунистам, очень долго называвшим себя «большевиками», словно, ими не были давным-давно жестоко стерты из жизни «меньшевики», эсеры, эсдеки, анархисты и прочие политические оппоненты, а когда-то союзники. Все поднимались из одного корня, но ствол уничтожил ветви, высосав соки, как кровь, сбросил листву, и на долгие годы остался стоять в одиночестве, голый и страшный, похожий на известный соляной столб.
Здесь, на Старой площади, произрастала угрюмая, серая идеологическая номенклатура, с самого начала стремившаяся захватить и перекрасить под себя весь многоцветный мир, и в первую очередь овладеть душами и умами целых народов.
Здесь зрели и насыщались тяжелозадые концепции советской литературы, выдавливая из самого понятия «литература» тот главный принцип, который единственный мог обеспечить ей нетленность: естественную состязательность.
Здесь, в этих тяжелых каменных казематах, а похожи эти здания были именно на казематы, в которые вместо бойниц врезались окна и искусно застеклялись, недалекие умы упрямо тянули всю национальную литературу в низину невежества.
Здесь расщеплялось мертвое ядро, жестоко убивавшее живую клетку.
У Любавина теперь в одном из таких помещений с тайным дополнительным входом был резервный кабинет со скучающей секретаршей и шофером. Он бывал тут редко, чаще сюда приезжали и целыми днями зевали вместе с обслугой какие-то молчаливые молодые люди провинциального вида, в одинаковых тусклых костюмах, в светлых рубашках, при темных галстуках.
Чем они были заняты, что именно делали, посторонним было не видно. Впрочем, тут посторонних и быть не могло. Вполне возможно, что все эти незапоминающиеся люди выполняли как раз эту функцию – контроль за всем помещением, за немногочисленным работающим персоналом, за техниками, за уборщицами и электриками.
Тут, как правило, и встречались два дальних родственника – Даниил Любавин и Станислав Товаров. Договаривались заранее, через секретарей (никогда не напрямую – нельзя было доверять открытой мобильной связи) и в положенный час запирались за чаем или кофе в холодном, вычищенном кабинете Любавина. Тут даже компьютер, похоже, стоял для мебели, потому что никто никогда не видел его включенным. Телефонные аппараты были заперты в специальной тумбочке, обитой изнутри звукоизолирующими материалами. Туда же клались и личные мобильные аппараты на время встреч. Заходил сюда всесильный Товаров через неприметную дверку в стене, которая вела на узкую лестницу черного хода, а та, в свою очередь, выходила в закрытый двор президентской администрации. Его же собственный обширный кабинет располагался в другом корпусе.
Первая же их встреча, однако, произошла не здесь, а в Сочи, на одной из самых роскошных правительственных дач, известной под диковинным названием «Бочаров ручей».
Однажды Любавину позвонили домой и серьезный мужской голос сообщил, что с ним хотел бы увидеться один из его солидных почитателей, очень ответственный чиновник. Даниил замялся, не зная, что ответить, но тот же голос продолжил, что они знакомы, и он о нем определенно знает от еще одного общего знакомого, тоже, дескать, от писателя. Тогда Любавин и догадался, что речь идет о дальнем родственнике Стасе Товарове и об Андрее Соловьеве, который совсем недавно передал ему от Товарова упоминание об их родстве.
Сочинская встреча прошла необыкновенно «душевно», как выразился потом на прощание Товаров. Стояло жаркое солнечное лето, спокойная в эти дни черноморская вода ласкала белую, словно глазированную сахаром крупную гальку.
Они полулежали в шезлонгах на охраняемом, со всех сторон закрытом, пляже, под ослепительном белым шатром и потягивали из высоких розовых чаш испанскую sangria.
– Летом, особенно, во второй половине жаркого дня, лучшего не придумаешь! – чмокал губами красавец Товаров и отпивал большими глотками вино с разомлевшими в нем нарезанными фруктами. Тихо позвякивали тающие ледышки.
Он чуть приподнялся на локте и спросил Любавина:
– На малой родине давно был?
– Давно, – вздохнул Даниил и сделал вид, что тоже отпил немного от чаши, хотя ему-то как раз фруктовые вина никогда не нравились, пусть и со льдом, пусть даже испанские, – Родители постарели, зову их в столицу. Мать как будто не против, а батя молчит, как обычно. Не отвечает старик.
– Да и моя уже совсем старушка…, и тоже отмахивается. Что, говорит, мне у вас делать? Поздно, мол, уже…
– А я ее помню…, твою маму… Веселая когда-то была женщина и красавица!
– А как же! – Товаров рассмеялся, озорно сверкнув глазами, – Мой-то папаша не промах был… Да вот не дожил…дурак…до своего счастья… Впрочем, так и так не дожил! Помнишь же, бросил он мать?
– Бывает…
– Бывает, не бывает, а рос я сиротой. Правда, последнее время кавказская родня одолевает. Напоминают, мол, родственники все же.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?