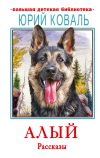Текст книги "Расщепление ядра"

Автор книги: Андрей Бинев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
– А ты?
– Что я?
– Не против?
– Чего мне быть против? Там ведь свои традиции, свои законы. А сейчас, сам видишь, нужда у нас взаимная друг в друге… Времена такие…
Больше они к этому разговору никогда не возвращались, хотя Любавин не раз читал, что многие нехорошо вспоминают фамилию отца Товарова и называют Джокера чуть ли не коварным кавказским лобби при президенте. Но он понимал, что это не так или не совсем так. Обида у Товарова все же осталась, хоть он ее и прятал. А вот кавказская родня не знала, как ей себя с ним вести – как с близким человеком, кровным родственником, или, напротив, как с врагом, почти «кровником», не забывающим прежних обид. Похоже было, Товаров умело поворачивал дело то одной, то другой стороной, всегда выходя победителем. А ведь это тоже, своего рода, месть. Получалось, что мстительность у него в крови, потому-то он правильно назывался кавказцем; но мстил им за оскорбление матери, и по той уже причине мог называться русским. Это, однако, не было обыкновенной злопамятностью. Определенная интрига, может быть, и присутствовала. Хитрость, хладнокровный расчет, свойственный поистине умному политику, но не горячность, стремящаяся опалить любой материал, даже самый огнеупорный. Любавин считал, что это редкое качество даже для самых предусмотрительных и тонких людей, а потому ни разу не разочаровался в том, что с этой сочинской встречи связывало его с дальним родственником Товаровым.
За три дня, которые они провели вместе и которые начали с родственного, по желанию лукавого Товарова, разговора, обсудили многое и ко многому пришли. Поначалу Любавин старался не откровенничать о своих оценках эпатажного скандалиста и красного философа Кима Приматова, но потом осознал, что без искренности с его стороны его же личная литературная карьера и даже общественное дело, которым и он, и Приматов заняты уже много лет, добром не кончатся. Позже уже, наблюдая за тем, как Товаров «играл» со своей кавказской родней и как они изворачивались и лебезили перед ним, Даниил убедился, что выбрал правильный путь и верную манеру. Иначе алгоритм его отношений с Товаровым мог стать тем же, да вот только с очевидно быстрым крахом. Он ведь одинок, несмотря на то, что с ним как будто Ким; куда уж ему сладить с Товаровым, с которым и некоторые монолитные кавказские племена не могут совладать, уж не говоря даже о крупных политических оппонентах в куда более широкой и важной сфере государственной политики.
– Ты пойми, Даня, – говорил Товаров, не спуская спокойных, внимательных глаз с Любавина, – Время классической революционности, о которой бредит этот твой старый плут Добренко, он же Приматов, кануло в прошлое вместе с угнетаемым пролетариатом. Нет не только угнетения, как такового, но и самого пролетариата. Ничто больше не объединяет нищих трудовых людей, кроме страсти хотя бы чуть-чуть растолстеть и дать волю своему примитивному стяжательству. Ну, какое знамя над этим поднимешь? Красное?
– Ким считает, что дело не в цвете знамен, а в сути… Насчет пролетариев он тоже не говорит. Его интересует национальный аспект проблемы. Справедливость по национальному признаку…
– Что значит, по национальному? Русскому, армянину и татарину полную справедливость, а кабардинцу, грузину, азербайджанцу и дагестанцу шиш? Белорусу полшиша, украинцу половину от белорусского, а латышам и прочим литовцам так вообще по шее навалять? Уж не говоря об эстонцах! А как поделить чеченцев и ингушей? Которые ближе?
– Это очень узко, с его точки зрения. Национальный признак, он полагает, скорее, носит не банально национальный характер, а геополитический. Общие интересы с контролируемым распределением благ и преференций. Соблюдение пропорций…
– Глупость какая-то! Даже и не глупость в чистом виде, а замшелое плутовство.
– А что не плутовство?
– Пусть так. Но всё шире и глубже! Без разрушающих подробностей… Национализм, выходящий за рамки классовости и российских народностей, как ни странно, это звучит убедительно. …Его нынешняя востребованность, которую чаще всего удачно…и даже неглупо, … по понятным соображениям, называют в последнее время патриотизмом, весьма любопытна. Хотя к патриотизму это имеет такое же отношение, как искусственный бассейн к естественной акватории. Вода, вроде, почти в той же химической формуле, или близкой к ней, а масштаб и значение настолько различный, что не подлежит никакому сравнению. Только я не намерен это все обсуждать, потому что вижу в том лишь потерю времени. Государственный национализм в том виде, в каком он необходим, это безусловное признание малыми, периферийными народностями гегемонии главной нации, а еще защита общих интересов. Язык общения, если хочешь, культура, легенды, кино, литература, трапезы и прочие признаки… Повод для разговора, за которым стоит большая и важная причина.
– Что за причина?
– Гигантская русская крепость на сравнительно небольшой планете. Не разгрызаемый орех с особой начинкой. Наша-то старая крепость развалилась почти, обсыпалась по краям. Нужно укреплять. Это он понимает?
Даниил тяжело вздохнул и неопределенно пожал плечами.
– А начинка какая у того ореха?
Товаров заразительно рассмеялся:
– А это, родственник, большая государственная тайна. Главный секрет! Есть ли там вообще начинка, а если есть, то какова? Не сгнила ли окончательно? Главное теперь – скорлупа и ее техническая жесткость. Начинку вырастим заново. А твой старый плут что предлагает? Открыться, расколоться и задрать на всех облезлый хвост?
– Он не дурак! – вдруг обиделся за Кима Любавин.
– Ну, ну! Никто его дураком и не считает.
– Еще бы!
– Предлагаю союз. Ему и его истерикам – ту его часть, которая выглядит независимой и упрямой, а нам – контроль и наращивание внешней скорлупы. Пусть уступит самую малость, и мы уступим. И предусмотрительней, осторожней выбирает друзей… Нечего якшаться с либералами. Пускай сам скандалит, сепаратно. Мы не против… Да знает меру!
– И что ему с этого?
– Финансирование до некоторых разумных пределов, не открытое, разумеется, и солидный покой не на лагерной шконке.
– А его истерикам? У нас ведь, у каждого, свои персональные амбиции… – Любавин мягко улыбнулся.
– Это кому что, – напротив, серьезно и даже еще более внимательно, чем раньше, посмотрел Товаров прямо в глаза Любавину, – Кому доктора, а кому и диплом доктора.
Даниил долго наблюдал за двумя дорогими моторными яхтами, затеявшими регату в спокойном море. Потом повернулся лицом к Товарову и спросил:
– Зачем мы вам? У вас же всё есть и еще будет. Нас раздавить, может быть, и не так просто, как кажется на первый взгляд, но вам ведь все по плечу. И даже тюремщики не нужны. Высмеять, дезой забросать доверчивое по своему малограмотному, рабскому существу информационное пространство, а потом просто забыть. Начисто! Как не было никогда. Всё в ваших руках. Теперь уж точно всё!
– Это слишком примитивный путь. Многого он не даст. Когда-нибудь чирей вскочит на том же месте. Эффект может быть обратным. Но дело даже не в этом. Вы не опасны как частное явление… В этом ты прав, хлоп ладошкой и нет комара! Конкретного комара нет. А племя его все равно где-то жужжит и жаждет крови, в том числе и моей, и твоей, и вообще всего живого. Потому что это – природа. Кровожадность – природа. Нужна идея, восприимчивая, испытанная, низовая, если хочешь. Идея, быть может, такая же рабская, подчиненная, кровавая, но идея! Раньше была. Рухнула, как известно. Покалечилась… Однако, не померла! Кто ее поднимет? Кто ее залатает, подлечит? Кому она пойдет на службу? Какому комару? По большому счету, этой кровожадной идее пока никто ничего еще не противопоставил. Ни они, ни мы. Почему бы не назначить такого комара? Чтобы знал, чья кровь слаще?
– Вы пусты? Ничего, кроме злата? Все продается в вашем храме?
Товаров отвернулся и тоже стал наблюдать за яхтами. Потом он сказал как будто яхтам, а не Любавину:
– Не бывает непродажных. Бывают только дорогие и умные. Так что, злато – это тоже идея. Но не для всех.
– Все относительно.
– Именно! Хорошая теория… Но даже если бы ее никто не открыл, она бы все равно существовала и работала.
Затем он усмехнулся и, лукаво покосившись на Любавина, как будто невзначай, в шутку будто бы, бросил:
– Вот такие дела складываются понемногу…, Даниил Романович. Княжеское имя-отчество у тебя, однако… Не то родители, не то сама история постаралась, а? Ох уж мне эти потомки Мономаховы… Фарс, фарс! Всё фарс! И глупейшие, на первый взгляд, совпадения… Но как звучит – Даниил Романович!
Любавин с неожиданным даже для себя самого испугом бросил взгляд на Товарова, но промолчал. Сердце вдруг облилось кровью и дробно застучало в горле.
Спустя три месяца, уже в Москве, начались регулярные встречи с Товаровым в том новом, в так называемом «запасном» офисе Любавина с черной лестницей и серыми, молчаливыми людьми в приемной за плотно закрытой дверью. «Джокер» и «Туз». От встречи к встрече все становилось уже практичным и ясным. Больше они не философствовали.
Теория постоянства
– Меня конфигурация его мышления не интересует в принципе, – сказал Ким, попивая чаек в своей скромненькой, старой квартирке с низкими пыльными потолками, – У него нет самостоятельного мышления, как такового.
– Не соглашусь, – отрицательно покачал головой Любавин, – Он умен и хитер.
– Это не мышление. Это – чистейшая технология. В нем умная программа, как в компьютере. А так…это, на примере того же компьютера, фигурально выражаясь, груда металла и пластмассы. Ну да, ума ему не занимать, кто бы спорил… Хитрости тоже хоть отбавляй, коварство и вероломство до небес. Прокуратор Третьего Рима, по традиции знающий толк и в Иуде и в Христе! Но главное – в Иуде! Верно, однако, то, что без Иуды не было бы и Христа. Божества без предательства, либо без сговора не бывает. Все это интриги, хоть как ни пиши икон, хоть какие Евангелие, Коран или Тору ни сочиняй. Это для меня – факт. Так что, никакой новой конфигурации у твоего Товарова нет, а есть, повторяю, испытанная одним древним, хитроумным римским прокуратором беспроигрышная технология. Даже не идея! Потому что идея требует интеллектуальных жертв, а такие, как он, на жертвы не способны. Но полезны… Тут спору нет. Мы им временные попутчики, на очень коротком отрезке. Грех отказываться! Да и глупо! Ленин с Троцким когда-то с немцами сговаривались, а там не тридцать сребреников было…, на порядки больше. На кону была держава! Но у них все слишком растянулось…, до сей поры никак концы с концами не сведем. У нас же все будет быстрее… Век иной, и люди иные, алчные людишки-то!
Он вздохнул, прервался на секунду-другую и печально покачал седой головой:
– Только мне даже этот короткий отрезок не пройти. Стар уже. А вот ты…, ты можешь. Почему бы и нет?
– Вы поражаете меня все больше, Ким! Богатства вы не ищите, власти, как будто, тоже… Но не отступаетесь ни от того, ни от другого, как бы это сказать, философски что ли… При этом даже не думаете ко всему к этому прикасаться в практике. Во всяком случае, выглядит все именно так! Не понимаю…
– Не скажи! Всё понимаешь. Но делаешь вид… Вам ведь всем удобно думать, что у людей нет совести, нет идейности, нет твердых убеждений. Всё, дескать, продажно, у всего имеется своя цена. Пожалуй, у большинства действительно нет ни того, ни другого, ни третьего. Но они не ведают, слепцы, что без всего этого нет и ничего другого. Без этого кто-нибудь вырвет у них из глотки последний кусок, и останется безнаказанным, потому что наказание за преступление есть естественное следствие совестливости, идейности и осознанной государственной твердости. Это все должно быть скоординировано с человеком, с его природой, с его нервной системой, и соответствовать ей, а не противоречить. Никто уже не помнит, однако, что его тело, как и прежде, в стародавние времена, пронизано этой тончайшей сигнальной сетью, без которой не может быть жизни. А я помню! Это ясно и цельно в обществе, но и в каждом в отдельности. В этом понимании моя сила, которая выше всякого богатства и могущественней всякой власти. Я беру на себя их природные заботы о самом существовании жизни. Они, иной раз, сердятся, как глупые дети, которым учитель указывает на их невежество, они не осознают этого и никогда не осознают. Но они же и чувствуют, что без таких, как я, им не жить. Кожей чувствуют, даже глупым своим сердцем! Потому и мирятся со мной. Смеются, порой, а мирятся. Вынуждены! В понимании этого мы совпадаем с твоим Товаровым. Пожалуй, что только в этом. Но мне, если хочешь знать, достаточно. Он и есть в таком случае – моя могущественная власть в имперском обличии, а я, в некотором смысле, его власть в природе общественных связей. Думаешь, жалкие старческие амбиции? Есть, мол, и другие, моложе, резче, умнее, хитрее меня? Может быть, и есть. Даже точно, что есть! Но они, как бы сказать…, пластмассовые, точно бутафорские фрукты. Ядовитые цвета, ядовитые души, всеядные луженые желудки… Он ведь, Товаров твой, вообще-то один из них, хоть как будто из иного поколения. И с идеями у них беда. Им не поверят, потому что та самая нервная система, та самая сигнальная сеть это все остро ощущает, даже если носители ее не могут выразить это словами. За душой одна лишь теория, да и та не их.
Он действительно несколько по-старчески пожевал сухими губами и, наконец, закончил свой возмущенный монолог:
– А если понадобятся жертвы, и от них, от пластмассовых, ядовитых, почти неодушевленных «товаровых», и от нас, то они будут представлены, даже с избытком, потому что в полной мере объявляется лишь то, что востребовано жизнью. Скажешь, жестоко, цинично? А я тебе отвечу в таком случае, что сама жизнь жестока по своему природному творению, да вот хотя бы в силу Великого Естественного Отбора. Надеюсь, не станешь возражать, что этот самый естественный отбор и есть единственное средство выживания организмов? Могучая сила, которой нет отмены, и у которой нет равного противника. Она и есть Бог! А не тот добродушный белобородый старикан с румяными щеками и его исстрадавшийся распятый сынок. Если хочешь знать, сын того добрейшего отца и есть символическая жертва, олицетворяющая то, что я тебе только что сказал. Это когда-то придумано мудрейшими людьми, а не пластмассовыми «товаровыми».
– Да ведь это бесы! Даже не какие были у Достоевского, живые, из мяса, костей, крови, а пластмассовые бесы! – вдруг угрюмо сказал Даниил, – Мы – бесы!
– Бесы? – старик вскочил и, опрокинув свою огромную чайную чашку на потертую клеенку, и не обращая на это внимания, короткими шажками пробежался туда-сюда по маленькой кухоньке, – Бесы! А что может быть постоянней бесов? Ну, что! Думаешь, старик из ума выжил? Не себя, мелкого и тщедушного старца, видит в огромном мире, а огромный мир – в себе! Разве бесы умирают? Разве они временны или относительны? А вот – кукиш с маслом! Бесами их дураки называют, которые не зрят сути вещей. Или же сумасшедшие писатели, будь они хоть «достоевскими», хоть кем! Его уберегли от расстрельной пули, он и помешался на радостях! Без бесов нету света, потому что они – непременная тень, а тень бывает лишь сумеречным следом света. Нет ее – значит, не ищи и света. Что же тогда свет? Ну, скажи! Гуманность, щедрость, прощение? Где оно все это без тени? Заладили, бесы, бесы… Вот именно, Достоевщина, черт бы ее побрал! Раскаяние хворого неудачника! Бог дал ему талантище, а отнял взамен истинный ум. Истинный ум, если желаешь знать – это внутреннее, глубочайшее осознание разумности всего…, всего, всего! …А не умозрительная селекция – то нам подходит, а то, видишь, ли грех! Гегель не соврал!
Он порывисто оседлал свою табуретку, смахнул рукой на пол со стола лужицу разлитого чая и уже спокойней продолжил:
– Не бесы, а природа. Природа! Она хозяйка всего. Твой Товаров это знает. В его прокураторской технологии сие ясно сказано. Думаешь, он ищет и назначает иуд? Да от них отбоя нет! Только выбирай.
– Хотите сказать, выбрал?
– Именно. И не одного. Но звать их иудами на его совести, если только она еще у него хоть какая-то имеется, в чем я весьма сомневаюсь. Нет…, подлинные иуды, разумеется, всегда есть. Как же без них, без грязи, без мусора! Но есть и другие. Которых лишь называют иудами, а они та самая тень от большего и яркого света, от солнца… Бывает солнце мельче собственной тени…, герой стоит дешевле предателя, а само предательство дороже для истории, чем доблесть, которое оно и предало. Хотя что больше, а что мельче, решать не нам и не здесь. Это и есть вечная безответная мука человечества! Для меня проблема эта важна, а для твоего Товарова – нет, потому что она для него даже теоретически не существует. Как и многое другое из области рефлексий, да и вообще – любых теорий, учений.
Даниил помолчал немного и вдруг сказал негромко, будто о чем-то не очень приличном, чуть виновато даже как будто:
– Он платит. Не так уж и много, но все же платит.
– Так бери! Мне своего хватает.
– А что ваше?
– Идея. Бесовская идея жизни. Тот самый вопрос, только видный с тыльной его стороны. Если по-прежнему хочется ее называть бесовской, так и зови. Она от того не изменится и не почиет. Не теория относительности, а теория постоянства. Вот, что это такое! Вселенная темна, ею управляют «бесы», в невероятном холоде и вакууме, в абсолютной пустоте. Там нет никакого света, разве что, случайные звездочки-солнышки, крошечные в сравнении с вселенной. А остальное – кромешная, непроглядная тьма. Ни света, ни отражения. И это не просто одно из правил, это – единственный, неизменяемый закон. Никто и ничто не в состоянии его отменить. Нет у него никакой альтернативы! Где ж тут относительность? Одно сплошное бесовское постоянство! Тут нам с твоим Товаровым один путь дан. Так что бери его сребреники, не терзая душу сомнением или, не дай Бог, раскаянием! Не тебе, так другому поднесет. А тот, чего доброго, предаст да не того. Пусть это и будет твоей скромной личной жертвой, как великое предательство стало жертвой Иуды…
Таких разговоров как у Любавина, так и у Соловьева было с Приматовым одно время немало, но постепенно они становились все реже и реже. Каждый определил для себя свою молчаливую нишу и, печалясь немного, соглашался с тем, что их персональные «квартирки» связываются между собой узкими, порой, тайными коридорами, а общих, светлых залов, в которых обычно ведутся дискуссии, уже давно нет. Приматов подавлял своим многословием, за которым чаще всего стояла резкость, старческая надменность, высокомерие провидца, уверенного в том, что видит дальше и шире других.
Все же Андрей Соловьев пробовал время от времени сломать стены, но выпадал в пустоту той жестокой вселенной, о которой тогда сказал Любавину старик.
Однажды и Любавин резко остановил слабые попытки Андрея оттолкнуться в оценке нынешних времен от осмысления «глобального исторического процесса», как он сам и выразился. Наивные усилия Соловьева разобраться в том, что уже ни для кого в обществе не представляло существенного интереса, потому что центр тяжести общественного мышления давно уже перешел из теоретической сферы в сугубо практическую, меркантильную, стали раздражать Любавина.
– Это безнадежно устарело, мой славный юный друг! Будто твоими устами пользуются какие-то привидения, честное слово! К тому же, у нас есть две напасти: первая, когда историю пытаются вершить те, кому в ней отведено не самое достойное место, а вторая – когда о той же истории судят те, кто даже не представляет себе, насколько он далек вообще от всякой истории и насколько близок к собственному комплексу неполноценности. Но самое ужасное, когда первое и второе делают одни и те же люди. Ты не подумай, тебя все это прямо не касается. Но имей в виду, любая попытка дать классические определения нынешней действительности, по крайней мере, смешна.
– Смешна? – Андрей вспыхнул, – Это кому она смешна! И почему!
– Да, да, смешна! – настаивал все упрямее Любавин, – Мне смешна, если хочешь… А это уже немало! Не потому, что я, видишь ли, велик, а потому, что давно во всем разобрался.
– Хотелось бы послушать… Впрочем, может быть…, может быть, молвишь нечто новое, нечто такое, что меня убедит?
– Напрасно ты на это надеешься, Андрюша! Ведь тут и сказать почти нечего, – Любавин вдруг стал говорить то, что слышал от Приматова в недавних спорах, и самому же показалось, что это его собственные мысли, ниоткуда не взятые, а в его же голове порожденные, – Нельзя сравнивать оригинал и подделку. Вот в чем проблема! Нынешние политиканы всех мастей, как, впрочем, и официальные политики, не революционеры, не мыслители, не авторы идей, даже самых обыкновенных. Их нельзя оценивать с этой точки зрения, потому что они имитаторы. Ну не станешь же ты судить о мастерстве исполнения оперных арий, скажем, Лучано Паваротти, по пародиям какого-нибудь мастеровитого артиста, пусть даже на удивление точным! Повторяю, даже если пародист талантлив и по-своему ярок. И даже если он не ставит своей целью посмеяться над оригиналом, а лишь имитирует его для услады недалекой публики.
– Ты ошибаешься… Нынешние политики, хоть и производят…, благо, далеко не все…, впечатление прощелыг, …но все же многие из них имеют свое вполне узнаваемое и, часто, не отталкивающее лицо. Не изобретают велосипеда, как они наивно полагают, …или хотя бы делают вид, что не изобретают…, однако ведь все равно стремятся что-то показать, хотя бы идентифицировать себя во времени, как личностей… Неудачно, порой, но это все же они и никто иной. Их бывает даже жаль…, да ведь многие же искренни… Соглашусь, недальновидны, ограничены, но зла-то не желают! Заблуждаются…, ошибаются, не на месте находятся… Однако могут еще обратиться к истории, почерпнуть нечто важное для себя, даже сокровенное, а тут ведь и ошибки простительны…
– Ничего они не могут! И никакая история им не указчик. Они даже не понимают этого, потому что не знают и знать не желают. Временщики по своей истинной сути, хоть те, что у власти, вцепились в нее так, словно, у них впереди вечность. Нет, нет у них никаких оригинальных идей, они способны лишь копировать, повторять, имитировать. Дело даже не в их уме или в глупости…это вторично, а в обыкновенной, житейской, бытовой, если хочешь, культуре, которой ни у них, ни в их когда-то шумных и наглых подворотнях никогда не было. Они читали из-под палки, учились ради карьеришки, всю жизнь что-то добывали, вырывали, выскабливали. Это отняло у них все силы, ничего не оставив для осознания себя как личностей. Обидчивые закомплексованные подростки, скандальные недоросли выросли в столь же закомплексованных, болезненно ранимых, мстительных и необыкновенно алчных взрослых интриганов. Шли когда-то служить старой советской власти, в самое ее адское пекло, чтобы быть ближе к силе и чтобы их самих с этой силой путали. Ничего хорошего из этого выйти не могло! Одни якобы «чистые» анкеты и серые физии на служебных фотографиях. Имитаторы – вот кто они. Это единственное, чему научились. В этом они постоянны, потому что ничего другого и не предвидится. А ты изволишь смешить людей – примеряешь этих скалозубых шутов, мелких по своей сути чиновников, а то и обыкновенную шпану к какому-то «глобальному историческому процессу». Тут я с Кимом абсолютно солидарен. Другое дело, что других у нас нет…, но все же бывает попадаются еще некоторые личности, с хитринкой, с коварством, со своей иронией, с изощренным умом, с вполне объяснимым цинизмом во взглядах, с каким-то талантом даже.… Если же эти редкие в наши времена фигуры вдруг обладают властью, то почему бы не присмотреться к тому, как они изящно манипулируют прочими дураками в своем окружении или даже громадной толпой, в основном безграмотной, отчаявшейся, не знающей иной жизни и иной власти над собой? И даже поддержать их! Возможно, это приведет к чему-нибудь недурному, даже к качественным изменениям в формировании элит! Когда-нибудь, когда-нибудь…
Столь резкие оценки Любавиным властвующих людей в России вызывали у Соловьева неприятные ощущения, и не потому, что он совершенно или частично в то время не разделял их (со многим в душе был согласен, а кое о чем думал даже еще решительнее), а потому, что Любавин, без оглядки на свои убеждения, именно с этими людьми шел на политический союз, постоянно говоря о его временности. Было в этом для Андрея что-то особенно нечистоплотное, вызывающее у него чувство брезгливости. С одной стороны, Любавин их презирал, с другой стороны, намечающимся союзом поддерживал их. Ведь он слыл талантливым, смелым и прогрессивным литератором с почти либеральными взглядами, а уж коли таким, как он, дается зеленая улица, то вроде бы власть не так уж и плоха, как о ней говорят, к тому же в ней есть свое здравое стремление к современным формам, со всей очевидностью противоречащим советскому консерватизму и косности. В такой вот своей подлинке Любавин, на взгляд Соловьева, даже переигрывал привычную для него двуличность самой власти. Но Андрей гнал от себя эти мысли, потому что, вопреки тому, что засело в нем от отца, стыдливо пытался было уже согласиться с той расхожей русской мыслью, что в политике вообще без подлости и коварства, без вероломства и алчности ничего не вершится. Она, дескать, власть, повсеместно такая, почти без исключений. Редкие же примеры ее честности лишь подтверждают общее правило. Все это вывязывало в нем внутренний протест, который он же относил к одному из изъянов отцовского воспитания.
И все же Андрей Соловьев не обиделся тогда на Любавина, несмотря на то, что тот говорил нервно, будто куда-то торопился, а малое дитя отрывало его от важных дел своими детскими глупостями, своим наивным ребячеством.
Литературные опыты отнимали у того и у другого много времени. Причем, опыты эти были чаще всего удачными. Писал что-то, но уже мало и весьма коротко, и Ким Приматов.
Вокруг его растущей в Москве группы, вступающей в видимую конфронтацию с властью на самом низовом ее, исполнительском, полицейском, уровне формировался особенный климат нетерпимости, далеко не абстрактной революционности и, как стало принято в официальных государственных кругах говорить, экстремизма. Это слово использовалось уже так широко и безоглядно на его подлинный смысл, как будто оно было способно заменить любое проявление недовольства действительностью. Однако к ним оно все же подходило все больше и больше. Казалось, вот-вот его заменят в отношении них на куда более опасное определение – терроризм.
Но Ким все правильно рассчитал: в России не может быть террористом талантливый литератор. Все, что он вершит поверх своего творчества, всего лишь эпатаж. Хотя каждый отчетливо понимает, что это только ширма, но зато какая ширма! Традиционная для русского протеста, а главное для того, чтобы самое обыкновенное и узнаваемое наступательное действо скрывалось за ней. Это, дескать, и есть наш особый путь в великое будущее, всегда востребованный русским обществом и всегда противоречащий постным западным демократиям, кичащимся своей инфантильной толерантностью. Нет гуманности, кроме той, что с когтями и с зубами! Вот так-то, господа хорошие!
Еще он резко выразился как-то о русском народе, который, по его словам, был ему ближе, нежели украинский, из которого сам происходил.
После литературных чтений повести молодого автора Никиты Сашкова, приехавшего в Москву из Архангельска и прозванного тут за самородный свой талант и завораживающую поморскую простоту Михайло Ломоносовым, Ким вдруг сказал:
– Русский народ столь же несчастен, как и преступен. Никто не знает, что первично в нем, по примеру той притчи о курице и яйце. Несчастья ли причина преступности или преступность следствие несчастья? Отсюда и пьянство, и непостоянство натуры, и уживчивость в одном русском человеке жестокости и сострадания. Он убивает, и страдает потом всю жизнь, аж до самоубийства. А попадись ему под руку еще кто-то, убьет сызнова. Однако есть одно, чего он не допустит. Это – предательство. Причем, заметьте, русский никого не предает – ни своих, ни врагов. И своих, и врагов убьет, пошинкует как капусту, на лоскуты порежет, зубами порвет, но предавать не станет. Сам подохнет, а до предательства не опустится. Скажите, а как же стукачи, как же вертухаи, всякая лагерная сволочь? Отвечу. Это тоже верность. Верность врагам, его нанявшим. Вот о каких врагах я говорю. Потому и не предает тех, кто его самого, и братьев его гнул и казнил. Наняли, согласился, так храни теперь верность до гробовой доски.
– Так это несчастье или преступление? – вдруг спросил Сашков.
– И то, и другое. Но не глупость, как считают особенно западные европейцы. Глупость – не видеть этого, рассчитывать на изменения, на новый лад. Однако это явление постоянное, и сколь болезное, столь же и приятное. Своего рода, национальный мазохизм. Может быть, это и исконная наша рабская психология. Для раба хозяин свят.
– Дикость! – воскликнул Андрей Соловьев, – Это же дикость! Любить врага, нанявшего тебя убивать брата твоего, родню… Да еще враг, как вы говорите, Ким, внутренний, доморощенный… Ну, что за дикость!
– А вот и нет, – вдруг неожиданно тихо, вкрадчиво ответил Приматов, – Вовсе даже и не дикость, мой друг! Это особый тип цивилизации. Неизвестно еще, какая из этих типов, наших ли, западных ли, восточных, дольше протянет. Мы не те и не другие. Несчастны, как восточные, и преступны, как западные. Но не дикие.
Постепенно в таких разговорах формировалась философская идея приматовской группы. В ней находилось место всем, потому что каждое суждение оказывалось вдруг верным в той или иной степени. И в то же время, ядро, хранившееся в руках старика, было твердым как гранит, стойким и бескомпромиссным. Оно содержало в себе убежденность в том, что первостепенное значение имеет национальный вопрос. Не узко национальный, вызывающий неприязнь в соседях, а, напротив, объединяющий их под эгидой основной нации гигантской евразийской территории России, то есть – русских. Русским, по мнению Приматова, может быть каждый, кто разделяет идею единства языка общения и культуры. Принадлежность к одной из религий или даже атеизм, происхождение, расовые признаки не имеют ни малейшего значения. Единство же предполагает постоянный вектор движения и развития. Враг тот, кто этот вектор искривляет или даже просто вносит в него лукавую азимутную поправку.
По Киму получалось, что и сербы, и болгары, и поляки, и венгры, и словаки, и чехи, и многие немцы, и даже выходцы из азиатских и африканских территорий, и более того, латиноамериканцы – все, все, кто разделяет примат «великого» русского национального духа, входили уже не в надуманный и зыбкий интернационал, а в могущественную нацию – в «Русский мир», по существу, в боевое братство, в котором не существует классовых различий, дифференциации в верованиях и даже языковых барьеров. Это, и только это, на его взгляд, было способно противостоять диктату колоссального англо-саксонского мира и его капиталу, коварству нового масонства, называемым им «глобализмом». Они, англосаксы, тоже, своего рода, единая нация, пусть и не столь многочисленная, как та из «Русского мира», но более состоятельная материально и финансово, и, главное, более дисциплинированная, утверждал Ким. Столкновение двух непримиримых планетарных союзов есть перманентная мировая война, говорил он. Это не классы, не религиозные противники, а две великие нации со своими идейными вершинами.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?