Текст книги "Господствующая высота (сборник)"
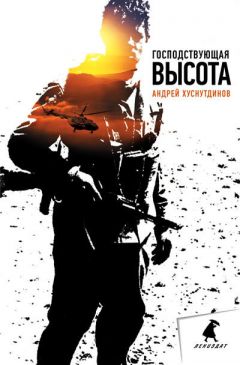
Автор книги: Андрей Хуснутдинов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Тут бы, казалось, и камень с души должен свалиться: Стикса опять тянуло в пекло, но уже в другую от нас сторону. И все-таки беспокойство мое только росло. Чем дальше, тем больше я утверждался в том, что Арис не просто по привычке лез под пули, но исполнял некий замысел.
Раз за разом, наново перекладывая завороты наших турусов под решеткой, я искал нечто упущенное из виду, завалявшееся между слов, то, что могло стать ключом к его намерениям, и – поразительная вещь – в основном вспоминал свои собственные откровения, те самые, которые он, как я был уверен, благополучно проспал. Что именно там померещилось мне, не знаю. Кто-то будто взял меня за шкирку и ткнул носом в одно-единственное слово, что прежде маячило перед глазами и застило их: застава. Я понял, что затею Стиксовой неизбежной бойни наше скоротечное снятие с высоты не отменило, а лишь переиначило. С тем Арис позавчера и спускался в ущелье, чтобы поправить свои исходные планы истребления сторожевого гарнизона, кто бы ни составлял его – шурави или сарбосы. Чем эти планы могли обернуться для Капитоныча, особенно после «бунгало» и склоки с замполитом, было страшно подумать, еще страшней было смотреть на самого взводного, который полтора суток глушил спиртом карательные посулы Козлова и теперь, насилу разбуженный, с отекшим, без кровинки, лицом, присев на заскорузлом матрасе, выслушал посыльного так равнодушно, как, должно быть, слушает приговоренный к смерти расписание собственной казни.
Во мне начинала играть кровь. Плюнув, я воткнул ложку в кашу и заявил Капитонычу, что, пока не поднялся шум, Стикса необходимо перехватить на подступах к заставе – времени на раздумья у нас не больше часа. Взводный отмахнулся от меня, точно от привидения, размял шею, похлопал себя по карманам и, выдохнув, спросил жестом закурить. Протягивая ему из пачки последнюю, измятую «охотничью» и зажженную спичку, я, однако, видел, что мои слова упали на благодарную почву. Капитоныч задумался, хотя его колотило будь здоров (или, не знаю, может, в точности наоборот – колотило оттого, что задумался). Когда после очередной затяжки он нес папиросу к краю матраса, пепел по дороге осыпáлся ему на штаны, но он не замечал этого и как ни в чем не бывало тряс окурком в откинутой руке. Взвод тем временем в полном составе, бесшумно, выжидающе, как покойников перед выносом, обступил нас со всех сторон. Рябая тень от масксетки великаньей вуалью лежала на лицах. Воцарившуюся на площадке тишину не нарушал, казалось, даже грохот взлетавших «стрижей». Я стоял ни жив ни мертв. Наконец Капитоныч растоптал бычок, сообщил, что отправляется в штаб – «связаться с заставой, то-сё», – а пока суд да дело, предложил выдвигаться добровольцам, потому что «никто, кроме как по своему желанию, в культпоходе (кивок в мою сторону) участвовать не будет». И, выглотав ковш воды, ушел.
С этой минуты – как стало ясно, что я возвращаюсь на высоту, – мое разумное существо будто замерло. Меня о чем-то с недоверием спрашивали, от чего-то с жаром отговаривали, даже осыпали ругательствами, на что я, занятый укладкой гранат и патронных пачек в рюкзак, лишь пожимал плечами и кивал куда-то вбок, где воображал истинного виновника переполоха. Я чувствовал себя как перед боем, с той разницей, что источником моего самоотчуждения был не страх смерти, а чувство собственной правоты, какого-то невероятного преимущества. Поэтому, когда на площадку пришел взмыленный вертолетный комэск и рассказал о ЧП возле штаба – Капитоныч в каких-то «кущах» столкнулся нос к носу с нагрянувшим на аэродром Козловым, так что товарища подполковника сейчас откачивали после нокаута, и сопровождавший его особист, также получивший по морде, метал молнии по секретной связи в Кабул, – я только поинтересовался в ответ:
– Летим, значит, с вами, товарищ майор?
Комэск и с ним весь взвод молча уставились на меня. Выдержав паузу и не прекращая экипироваться, я – как бы для себя, но при том погромче, чтобы слышали все, – рассудил, что единственное, чем теперь можно помочь Капитонычу, это вернуться на заставу за «возможным дезертиром» и сделать все так, чтобы и у Козлова, и у особиста сложилось впечатление, что мы действуем в составе приданной десантникам группы усиления, то есть приказ о временном подчинении голубым беретам выполняется. Комэск промокнул пилоткой лоб, поддел рукав над запястьем и с силой отер пальцем стекло часов. Я, признаться, был готов ко всему, думал, что вот он сейчас взмахнет пилоткой и пойдет по своим делам, а то еще зашлет меня на местную «губу», но, переступив с ноги на ногу, он лишь усмехнулся:
– Ну, не знаю. Могу взять на борт шестерых – максимум.
Я нацепил полный рюкзак, оправился и взглянул мельком на ребят.
– Да, наверное, больше-то и не надо, товарищ майор…
Удивительная все-таки штука человеческая память. Негромкая и почти благодушная реплика Мартына: «Ебись всё конем», – послужившая вступлением к тому, чтобы он тоже начал перетряхивать свой вещмешок, и, как по цепной реакции, подвигнувшая на сборы еще человек пятнадцать, спустя всего полчаса, в десантной кабине «крокодила», уже слышалась мне моим ответом на неуверенное замечание комэска. Сначала я объяснял это страхом неизвестности, вызванным ревом турбин и убывающим видом аэродрома, но быстро понял, что страх был только заместителем, ширмой другому фундаменту – злости на всех, кто так запросто поддался моим слоновьим уловкам самоубийцы.
С набором высоты, когда небо опрокинулось под нами хлопчатой рябью, мы, примерявшиеся каждый на свой лад к сознанию того, что так безоглядно, мальчишески было начато что-то необратимое и грозное, молча открывали и закрывали рты и походили на пойманных рыб. За других – кроме Мартына со мной летели Дануц, Бахромов, Фаер и Рома – ничего не скажу, а я себя чувствовал сказочным героем, писаным, ни дать ни взять, Иваном-дураком: иду туда, не знаю куда, ищу то, не знаю что. То есть план мой был прост – поднять заставу в ружье и, поддерживая связь с аэродромом, выглядывать Стикса. Вариантов, связанных с действием так называемых обстоятельств непреодолимой силы, я не рассматривал и не видел. Тем более что поступавшая эфиром информация была обнадеживающей. Комэск, которому через свой командный пункт удалось снестись с нашими сменщиками на высоте, передавал по громкой, что сарбосы, хотя на первых порах не могли понять, в чем дело, теперь кланялись, готовили встречу дезертиру и ждали нас, благо погода в районе заставы стояла на загляденье: нулевая облачность, видимость десять километров, штиль. Также выяснилось, что десантников накануне перебрасывали на помощь вставшей под обстрелом колонне, что в зоне ответственности семнадцатого поста у них был тяжелый наступательный бой и большие потери, девять «двухсотых» (в том числе командир одной из групп – здоровяк старшина), то есть мои догадки насчет Стикса получали очередное подкрепление: от семнадцатой до нас, пусть через гору, было рукой подать.
До высоты, однако, мы не долетели километра полтора – после общего замешательства и моего обрывистого спора с комэском, честившим сарбосов, себя и даже своего ведомого, высадились на глинистом предгорке у долины, под ровным и клубящимся, как потолок в бане, брюхом облака. Места, впрочем, всё были знакомые, хоженые. На склонах и в туманных низовьях позади нас раскинулись усеянные воронками «плантации» РСА, куда забредали только молодые шакалы да отбившиеся от отар бараны, спереди тайную тропу к подъездке пересекала балка с минным полем по сухому ручью.
Эту оглушительную минуту, когда культей боевой колонны, без рации, сутулясь от грохота винтов и кипящего воздуха, мы направились в облако, в никуда, я сохранил в памяти не по своим ощущениям (их, может, и не было вовсе), а по неподвижному, почти стертому отсветом блистера лицу комэска, глазевшего на нас: так смотрят в пустоту, если вспоминают о недавно миновавшей смертельной опасности и заново – то есть впервые по-настоящему – переживают ее.
За балкой видимость падала до двух-трех метров, и я, выступавший впереди, просил ребят помалкивать, не окликать друг друга при отставании, а подтягиваться так, чтобы уверенно видеть спину впереди идущего. Густой туман летел слоеными космами, попахивал дымком, перехватывал дыхание. Земля была сырой и жирной после ночного дождя. Ноги, особенно на подъемах, срывало и везло, точно по маслу. С выходом на подъездку двигаться стало полегче, но, хотя и думая, что вряд ли духи взялись бы минировать дорогу после передачи высоты, я был вынужден придерживать шаг, всматриваясь в полотно и поглядывая по обочинам.
Слабые, перекрываемые собственным эхом трески пулеметных и автоматных строчек застали нас где-то в полукилометре от КПП. На слух было нельзя определить даже, в какой стороне стреляют, и все-таки я не сомневался в том, что бой идет либо в расположении заставы, либо на подступах к ней. Остаток пути я проделал, почти не помня себя, в бессильном отчаянии прислушиваясь к стрельбе, как прислушиваются к дыханию умирающего, и различая, как мало-помалу укорачиваются и разреживаются очереди.
Поваленный на землю шлагбаум мы миновали в полной тишине. Через бортик будки КПП лицом вверх перевешивался сарбос с размозженной головой – дымившийся АКМ мертвеца был брошен поперек согнутой в смертной судороге руки, и кровь еще ползла по насыпи, играла на камнях. Туман отступал нехотя, волнами, отваливался, будто тюль. Я шел со стиснутым ртом, так, словно больше следовало опасаться не того, что могло подстерегать снаружи, а того, что могло ударить изнутри. «Такие вещи нужно хорошо готовить…» – вертелись на уме слова Стикса. Посреди бугорчатой лужи кострища, что у нашего блиндажа, запустив руки с «калашом» в выплывшие кишки, свернулся клубочком босой солдат; по виду еще мальчишка, он удивленно смотрел на сослуживца – совершенного старика, который застыл ничком в дверях землянки, уткнувшись лбом в малиново-масляные кулаки. Бóльшая часть взвода, составлявшего, как и наш, около тридцати человек, оказалась на северных позициях. Тела, имевшие беспокойные, разбросанные позы, лежали по траншеям так, что нельзя было наверняка определить направление атаки на высоту, и хотя новенькие ДШК и безоткатки смотрели под гору, в одном случае складывалось впечатление, будто гарнизон держал оборону против ущелья, в другом, что против самой заставы: выхлопные кляксы крови блестели на скатах и внешних брустверов, и внутренних. Ранения приходились большей частью в грудь и в голову – сквозные, пэкаэмовских калибра и мощи, со звездчатыми выходными воронками.
Мартын, дернув меня за локоть, подал стреляную винтовочную гильзу: «Его…» – и я молча, потерянно кивнул.
– …Да в калошах кое-какие, – добавил владимирец.
Я непонимающе осмотрелся. Мы были на полпути между позициями второго отделения и командным пунктом. Траншейные валы едва проступали сквозь мучнистую пелену тумана.
– Кое-какие – кто?
Держа автомат у бедра, Мартын водил стволом в направлении окопов и рассуждал вслух:
– …Ну, «слона»[49]49
Танк.
[Закрыть] мы сами спалили, а бээмпэху эти черти свели, и след простыл… «Cварки»[50]50
Пулеметы ДШК.
[Закрыть] и безоткатки – китайские, ёптить, как пить… И своих пушек вон – по две нá руки. И в калошах половина. И вот те… – Он не договорил.
В командном пункте раздались глухие крики, возня и грохот борьбы, быстро стихшие, но заключившиеся не выстрелами, как следовало ожидать, а заоблачным, певучим, пусть и слегка задохшимся, треньканьем французской речи. Обвалились неровные шаги, кто-то обиженно вскрикнул, и Дануц выгнал передо мной двух перепачканных грязью и сажей гражданских.
Со словами: «Рации киздец. Разбирайтесь тут…» – он поставил между нами на землю большую видеокамеру в чехле и вернулся в командный пункт.
В задержанных, несмотря на их «пуштунки»[51]51
Тканые шапки с безразмерной тульей-околышем из свернутого полотна.
[Закрыть], дехканские рубахи и шаровары, с первого взгляда читались репортеры. Оба, судя по документам, работали на бельгийский канал RTBF, но если Марсель Брюно при том был хотя бы французом, то его оператор Хидео Кашима оказался чистокровным японцем, ни бельмеса не понимавшим даже по-английски.
Разглядывая изящные корочки, я чувствовал жар в горле, перемогал его, как головокружение или дурноту. Появление телевизионщиков в наших горных краях всегда было дурным предзнаменованием. Сигнал от агентуры о том, что местные бородатые якшаются с залетными безбородыми, для одной из окрестных крепостей подразумевал обстрел как минимум и штурм как правило. Особый вес эти репортерские набеги обретали под конец войны, когда спрос на кадры с расстрелом русских гарнизонов и колонн стал расти на Западе, и душманы шалели прямо пропорционально этому спросу. На политинформациях Козлов докладывал, по крайней мере, о двух случаях захвата и поголовного вырезания постов «картинки для». Посему первое, о чем я справился у француза – не сам, так как боялся сорваться, а через Рому-санитара, знавшего наизусть все альбомы «АББА», – это насколько удачно вышло запечатлеть нынешнюю баталию. Мой нехитрый вопрос привел мосье в замешательство. Марсель Брюно, пожалуй, и без слов сообразил, что речь сейчас идет не о съемках, но о жизни его. Перебегая беспокойным взглядом между Ромой и мной, он что-то с пылом, неразборчиво уточнил у Ромы, развел руками и, не оборачиваясь, сказал пару слов по-японски своему подручному. Глянцевито налитый от страха японец откликнулся коротко, зло, сквозь зубы. Француз размашисто хлопнул себя по лбу, ткнул пальцем в землю и закатил длиннющую тираду, которую Рома переложил после изрядной паузы, почесав затылок:
– Короче, тут они, кажись, ни хрена не снимали еще…
Я кивнул на камеру с объективом без крышки:
– Вот как?
– Э-э… Уай нот? – спросил Рома француза.
Тот опешенно переступил:
– Pardon me?[52]52
Простите? (англ.)
[Закрыть]
– Уай нот, блядь? – повторил санитар незлобиво и тоже кивнул на камеру. – Хули прикидываться-то?
Дальнейшая наша пресс-конференция – вплоть до минуты, когда отчаявшийся Брюно адресовал Роме забористый французский эпитет, выдрал из-под чехла на камере фонарик и повел меня к зиндану – разрешилась лишь беглыми деталями боя (в тумане все вдруг взялись палить по сторонам и падать под пулями, летевшими неизвестно откуда: «зинг-зинг – банг!.. зинг-зинг – банг!..») и обстоятельствами прибытия репортеров на высоту (затемно их доставили на пикапе с грудой базук в кузове). Некоторые свихнутые ошметки английских фраз француза, подхваченные помимо Роминого лепета, однако, застряли у меня на уме. Следуя за мосье, я воображал идиллическую картину того, как душманы привозят наших пленников в расположение правительственных войск, и гадал, зачем некий local warlord[53]53
Полевой командир из местных (англ.).
[Закрыть], обещая замечательные виды бойни – terrific scenes of massacre, – советовал ставить камеру на северных позициях, то есть смотреть в ущелье, а не из него.
Жерло зиндана поверх решетки накрывал обрезок толя, и земля вокруг него была прибрана и густо посыпана песком. О разгроме, царившем тут при передаче высоты, говорили разве что свалявшиеся крапины муки. Ниже перекладины на обоих столбах навеса почему-то запеклись следы окровавленных ладоней и пальцев. Натянув на нос мокрый от пота ворот, Брюно за самый краешек, точно крышку с горячей сковороды, стащил толь с решетки и призывно помахал мне фонариком. Над севшим рукавом его рубахи сверкнул стеклянный глаз золоченого «ориента».
Через ржавые прутья жирно шибало мертвечиной, склепом.
Отвлекшись на часы, я поперхнулся, и сильно, до боли царапнув губы, сдавил рот и ноздри в горькой от солидола пригоршне.
– When we arrived, that had already happened, – оправдываясь, вполголоса поведал француз. – They didn’t let us film it…[54]54
Это произошло до того, как мы приехали. Нам не дали это снять… (англ.)
[Закрыть] – Последнюю фразу он повторил раздельным шепотом, смекнув, видимо, что я, хотя и понимаю по-английски, но плохо слышу его.
Задержав дыхание, я отмахивался пальцами не то от мясного смрада, не то от мух, не то от назойливых объяснений. Мутный трясущийся луч фонарика скользил по горе голых, почти сплошь покрытых чешуйчатой кровью и оттого казавшихся одетыми трупов. Верхушкой горы – ее, можно сказать, архитектурным завершением, приходившимся против жерла и отстоявшим от него немногим более метра – была отрезанная голова усача со свернутым подбородком, полузакрытым левым глазом и лощеной пепельной лункой правой глазницы.
Со спины, вклиниваясь между мной и Брюно, под решетку по очереди заглядывали мои заинтригованные добровольцы, и все как один с фырканьем и проклятиями шарахались, сдавали назад, будто лошади перед обрывом.
Вид подземной бойни не ужаснул и даже не сильно удивил меня. Я отошел от дыры, спросил у Бахромова папироску, присел по другую сторону навеса, между зинданом и котлованом, и пережидал вялый припадок злости человека, влетевшего по невниманию в грязь. Чуткий француз не стал следовать за мной и снова прикрыл яму толем. Беззлобно матерясь, Мартын объяснял Роме, что дубари[55]55
Мертвые.
[Закрыть] на позициях – переодетые духи, в яму побросали «зеленых»[56]56
Солдат правительственных войск, по цвету форменной одежды.
[Закрыть], раздетых перед расстрелом, на что санитар возражал, что сейчас все «зеленые» – переодетые духи, удивительно еще, как они не порешили нас при передаче высоты, а уж зачем было резать и прятать в зиндан своих, один аллах их знает – не поделили чего-то, и вся недолга. Фаер называл Марселя Брюно шершеляфамом и под щелканье автоматного предохранителя донимал его:
– …Скажи мне, дядя, ведь недаром, Москва, спаленная пожаром, французу отдана?.. Не в курсе, кукла душманская? Ничего, просвéтим, если что. Наскрозь…
Туман редел, истаивал помалу. Вверху нет-нет да и проскальзывала призрачная синева. После каждой затяжки я сплевывал. В дыму мне мерещился вкус горелого мяса. Фаер продолжал изводить француза, до поры все обходилось словами и смешками, но вдруг послышались оханье и топот, и в ту секунду, как я бросил окурок, ко мне подбежал растрепанный Брюно, взмахнул болтавшимися на пясти часами и стал жаловаться по-французски на подходившего следом огнеметчика. Дело было ясное. Я взял у Брюно «ориент» и молча посмотрел на вставшего тут же взбешенного Фаера. Мы встретились глазами, но Фаер, кажется, даже не заметил меня, имея перед собой лишь свою норовистую жертву.
Кривляясь и топорно грассируя, он сказал мне то, что только что говорил французу: «Мсье, а, мсье? Марсель, есть ли жизнь на Марсé?» – погрозил в сторону автоматом и ушел.
«Ориент» отставал на четыре с половиной часа и при этом показывал будущее, послезавтрашнее число, то есть, скорей всего, еще ни разу не был настроен. Я спросил у Брюно, который час. Он машинально задрал рукав над своим электронным хронометром в обитом корпусе и ничего не сказал. Поигрывая неразъемным браслетом, я делал вид, будто жду ответа, но на самом деле составлял в уме английскую фразу, что и по-русски-то складывалась не ахти: при каких обстоятельствах и от кого второй экземпляр этой новой японской модели мог попасть в руки одному из русских солдат позавчера ночью?
Француз присел на скрещенных ногах сбоку от меня. Мы разговорились, и он сказал, что по паре дорогих часов им выдали перед вылетом из Брюсселя. В военных условиях и при лимите на провоз валюты это своего рода золотой запас, réserve d’or, первую половину которого они употребили в дело позавчера, а со второй готовы расстаться сию минуту, если бравый русский солдат позволит им уйти. Затем – очевидно, не давая мне передохнуть для отказа – закатил историю знакомства со своим оператором. В восемьдесят третьем, когда сбили корейский «боинг», японец, ходивший в патруле береговой охраны, дал Брюно неосторожное интервью о том, как на месте крушения в Татарском проливе команда их катера поднимала из воды обломки не пассажирского лайнера, а истребителя F-111, после чего Кашиму вытурили из армии и щепетильный Брюно составил ему протекцию у себя в RTBF. Я пробовал вернуть француза к réserve d'or, и всякий раз он соскальзывал в какие-то удивительные, рискованные происшествия. Помощь поспела оттуда, откуда ее приходилось ждать менее всего. Японец уже некоторое время стоял рядом с Брюно, прислушиваясь, и вдруг взялся что-то объяснять французу, тыча сложенной пятерней в «ориент». Они заспорили о чем-то, что и в рубленой речи Кашимы, и в смягченном японском произношении Брюно слышалось несколько странное моему русскому уху: «физрá, физрá…» Я сидел улыбчивым китайским болванчиком и наклонял голову при словах француза к одному плечу, и при словах японца – к другому. В конце концов Брюно проняло. Шлепнув себя, как прежде, по лбу, он назвался кретином и объявил, что два дня тому назад часы были презентованы дяде местного главаря повстанцев, подношение имело целью повлиять на физрá и склонить его, передумавшего в последний момент брать репортеров на дело, к отмене своего неджентльменского решения.
– Ху из физ-рá? – раздраженно, по слогам выговорил я. – Ху из?
Со стоном прозрения француз в третий раз приложился к челу, кивнул Кашиме, взял меня за локоть, заставил подняться и, бормоча что-то про японский алфавит, отвел за командный пункт. Под каменной кладкой тут вповалку и при оружии разлеглись трое подплывших кровью бородачей в солдатской форме, двое лицом вниз, один навзничь. Осторожным жестом Брюно указал на того, что лежал на спине, с распяленными, как у цыпленка табака, ногами и с руками на простреленном горле:
– There is no fizra whatever. No. It’s Faizulla…[57]57
Нет никакого физра. Нет. Это Файзулла… (англ.)
[Закрыть] Приподняв за теплый ствол автомат убитого, я взглянул на покрытую гравированной вязью переднюю грань металлического магазина.
Откуда-то издали меня окликнул со свистом Дануц. Я осмотрелся. Куривший позади Брюно Бахромов лениво взмахнул папиросой в направлении восточного фланга, в туман:
– Из дрочильни, кажисть…
Мглистый путь в развалины послужил мне в то же время параллельным сходом куда-то внутрь себя. Я будто опомнился вдалеке от собственных чувств. Так, еще прежде того, как спровадить Бахромова с Мартыном на северные позиции и Фаера – на южные, я уже мыслил свой приказ как нечто давно свершившееся, как эхо, воспоминание о нем самом.
Взорванный и некогда заваленный, затертый до глубины ухаба, поросший мусором и бычками колодец кяриза оказался разрыт, зиял дуплом и пахнул речной грязью. Среди валявшихся вокруг него каких-то тесаных клиньев, веревок и ошметьев индивидуального пакета была брошена пустая окровавленная аптечка. Дануца знобило то ли от возбуждения, то ли от страха.
Фокусничьим пассом, оглядываясь на меня, он провел по капельному следу от аптечки в так называемый покер, южный угол башни с сохранившимся полом, где стоял на сошках разряженный, еще разивший пороховым пеклом ПКМ и из расщелины стенного гребня над ним – картинным, карикатурным подобием указующего перста – свешивался рукав десантной куртки. Я разочарованно выдохнул, но молдаванин продолжал тянуть руку в направлении покера:
– Бумаги. Там вон…
Пройдя в угол, я поднял с пола, в вершке от края рукава, переложенные один другим, как половинки колоды при тасовании, военный и комсомольский билеты Ариса Варнаса. Сплошь заляпанные кровью, слипшиеся книжицы пришлось едва не разрывать. Оба гашеных лика Стикса в них запечатывались кровяными оттисками пальца.
– Штурма-то не было, да, – убитым тоном открытия сообщил Дануц, замер и гоготнул: – Фа, тебе на башку, как в жену, кончают, а ты… – Он отбросил окровавленную аптечку, развел напряженными кулаками и с размаху плюнул в колодец. – И ведь въёбывали как не для себя – как для него. А теперь киздец. Ищи ветра в жопе, гондоны.
Я сдернул гимнастерку со стены, перехватил ее за шкирку, вложил документы Ариса в нагрудный карман и неожиданно увяз пальцем в пулевой дыре с еще скользкой изнаночной каймой.
– А, или нет? не ушел? – засомневался Дануц, глядя, как я выдергиваю палец, скручиваю куртку валиком и заталкиваю ее под пулемет. – То ж ему под самую ложку засветило. В кишку. Нет?
Встав на краю колодца, я с гадливостью отирал руку о штаны. Кочковатые стенки ямы сходили в кромешный мрак. Хлам и пятна крови по краям делали ее похожей на кратер после извержения.
– …Нет? – повторил Дануц.
Я поднес к лицу свои шелушащиеся от сухой крови пальцы и понюхал их.
– Не знаю. Но он вытащил нас. Не боком, так ползком. Наша бойня еще не начиналась.
– Как – не начиналась?
Где-то на обочине моего слуха как будто занималось плотное, веявшее холодом облачко. Сотканное из вопросов, как обычная грозовая туча из заряженных частиц, – насколько наше предупреждение переодетым духам о «дезертире» могло повредить Стиксу? Что сталось бы с нами самими, обойди мы его на те роковые минуты, на которые он опередил нас? Ведал он, на кого выходил и кому являл тут свое чудо смерти, или обманывался, как мы? И прочее – облачко это в то же время было (да и остается до сих пор) знаком отсрочки решения, санкцией не только на заблуждение, но и на подлог.
Ответом Дануцу стали крики и автоматная стрельба на северных позициях. Покатисто ахнув, в районе командного пункта хлопнулась мина. Свистанули осколки. Земля, будто сдуваясь, мелкими шажками пошла из-под ног. Глянув на часы, я увидел на своем запястье придавивший «победу»«ориент» и, как должное, почему-то отметил время по нему. Треснул еще один минный разрыв, теперь совсем недалеко, отчего заложило уши и запылило под стенами. Дануц присел на корточки, кивнул на яму и что-то спросил. Уверенный, что троянская нора больше не представляет опасности, я все-таки приказал молдаванину соорудить поперек колодца ловушку с гранатой, потом идти на КПП, а сам отправился на подмогу Мартыну с Бахромовым.
В расположении яснело буквально на глазах. Это был не просто редевший туман, а сбегавшее в ущелье облако. Траншеи по кромке невидимого склона смахивали на берег сказочного парнóго залива. Во все еще зыбкой дали начерно проступала дымчатая громада противоположного склона-«острова». Мартын и Бахромов целили в снежистую муть у себя под ногами, как охотники в рыбу на мелководье, и постреливали в нее одиночными не то на звук, не то наугад.
– Выскочили, и – бултых? – крикнул я через бруствер.
Мартын не слышал моего оклика, а Бахромов повернулся нерешительно и с опаской, то есть сначала наставил на меня автомат. Кивком я дал знать ему, чтобы он одернул Мартына. Владимирец оглянулся, я поднял руку, требуя внимания и дожидаясь, когда сзади подойдет Рома со своими подконвойными, потом отступил на шаг и, не глядя ни на кого, обратился ко всем:
– Это были дозорные. Значит, сейчас будут долбить фланг: налет – штурм. И если подлезут так, что смогут закидать гранатами – все. Аяк талды. Досрочный дембель. Всем.
– …До морковкиного заговненья, – глядя на пленников, зачем-то ввернул Бахромов.
– Откуда тебе знать? – спросил меня Мартын.
– Они не знают, что тут было, но знают, что нас – раз два и обчелся, – сказал я. – Да и заходить с других сторон уже поздно: день.
Он пожал плечами.
– А – туман?
– Туман – сходит, – ответил я зло. – Имеешь что-то против?
Мартын с ухмылкой отмахнулся.
– В общем, план такой, – продолжал я. – Эшелонируемся…
– Чего? – спросили почти в один голос Рома с Бахромовым.
Я было начал объяснять, что для подстраховки фланга нужно перетащить один ДШК на крышу командного пункта, однако меня перебил Марсель Брюно, который с присвистом, взмахом вытянутых перед собой рук провел воображаемую черту от траншеи в глубь заставы. Этим номером обстановка ненадолго разрядилась. Еще не оттертая от заводского масла, скользкая, как угорь, трофейная «сварка» была водружена на КП и даже тренога ее кое-как привалена камнями. Затем Мартын ни с того ни с сего обругал японца, взявшегося – тоже ни с того ни с сего – почистить пулеметный станок. Кашима бросил в обидчика тряпкой, но тот словно перестал замечать что-либо, ковыряясь в патронном ящике. Японец стоял в воинственной позе, сжав опущенные кулаки. Мартын, продолжая возиться с лентой, скинул тряпку с локтя, и она упала под голову мертвому Файзулле. Мне хватило одного взгляда на товарища по учебке, чтобы понять, что главным объектом его недовольства был не японец, а я. Вместе с тем я почувствовал на себе задорные взгляды других свидетелей сцены. Мысль о том, что мои добровольцы перепуганы и ждут повода если не разбежаться, то послать подальше своего ненормального командира, нагнала меня уже на обратном пути к позициям, заодно с прораставшим из зенита, садящимся ревом мины – звук этот привычно напомнил мне какое-то детское кино про войну, и так же машинально я прищурился и открыл рот.
«Груша» упала недалеко позади окопа для БМП. Подшибленный взрывной волной, я, будто шар в лузу, скатился с бруствера в перекрытую щель и не успел опомниться, как другой снаряд ударил в траншею всего в двух шагах от моего убежища. Жаркая, разящая тротиловой горечью взвесь встала в воздухе так плотно, что несколько секунд я не мог ни дышать, ни видеть и не понимал, где верх и где низ. Пространство точно схлопнулось вокруг меня. Зажав полями панамы уши, я уткнулся боком в дальнюю стенку щели. Земля дрожала и гудела. Чтобы не терять хотя бы последнего разумения о происходящем, я пробовал считать разрывы. Из ущелья работали как минимум два «подноса». Мины били по флангу с частотой и методичностью сваебойной машины. Каждый удар отдавался со всех сторон сразу, отчего я опять утрачивал чувство верха и низа и у меня было ощущение того, что я лечу под откос внутри набитого камнями ящика…
О прекращении обстрела я заключил с изрядным и простительным запозданием – так порой узнаёшь о разрешении боли не по тому, что ее нет, а по тому, что начинаешь обращать внимание на то, что вокруг тебя. Знáком прояснения для меня стала оторванная нога, лежавшая в окопе напротив щели, – с безобразной раной на месте тазового сустава и с лаковой калошей на вывернутой ступне, она мобилизовала мои разбежавшиеся мысли, пока я отряхивался. Медлить было нельзя, штурм мог начаться в любую секунду, однако и подгонять себя вышло некстати: первое, что я увидел, выползши в траншею, оказалась катящаяся в мою сторону граната без чеки и рычага. Податься обратно в укрытие, чтобы не получить осколки в голову, я успел чудом, за мгновение до разрыва, да с тем угодил в воздушную подушку от волны, захваченной щелью. Тюкнуло меня сильней изнутри, чем снаружи – обычное ощущение для контузии, – и внешний удар я различил не просто слабейшим, а, что ли, инициирующим, словно граната должна была послужить запалом некоему основному заряду. И, спасаясь от этого основного заряда, я снова полез в окоп. С обеих видимых окраин ров запирали пылящие, переваленные взрывами тела. Горький дух тротила сдабривал смешанную вонь дерьма, желчи и мяса. Дно устилала свежая земляно-каменная крошка. Минная воронка у щели была похожа на детский рисунок солнца. Прикоснувшись к саднящему левому уху, я ничего не почувствовал и, хотя на пальцах осталась кровь, не испугался. Наоборот, я понял, что только так должно предваряться чудо смерти. Подтверждение этой догадки не заставило себя ждать – когда над бруствером возник силуэт сутулого духа, вместо головы в чалме я увидел мосластый плод, росший не из плеч, а откуда-то позади косого акаэмовского дула, ходившего передо мной на весу. Я и предвкушал чудо смерти, и знал, что время мое пока не пришло. Со всполохом красноватой зыби мосластый плод хлопнул, улетучился, сгинул так же просто и неуловимо, как исчезает из виду проколотый пузырь, и если бы я не услышал глухую очередь ДШК и не заметил распадавшуюся на излете чалму, то, наверное, решил бы, что это и есть начало чуда. По грудь меня полоснуло горячей слизистой жижей с крупинками, в ноги упал душманский автомат. Отираясь и отплевываясь, я свернулся на дне траншеи. Колючий шлепок по лицу был до того ошеломляющим, что я барахтался и орал как оглашенный и даже, наверное, ненадолго терял сознание. Глаза застила какая-то кровавая каша. Чувство слизи на коже вызревало впечатлением кипящей трясины, которая и заключалась во мне, и поглощала меня. Наконец, подтянувшись по стенке и встав на ноги – верней, на ногу, – я обнаружил, что нахожусь не у перекрытой щели, где только что прощался с жизнью, а в другом конце окопа, под боком у сгоревшего танка. Минометы продолжали обрабатывать заставу, правда, уже кое-как, со смещением к южному флангу, с сильным разбросом и даже с перелетами, как будто наводчики были пьяны. Расходился и туман. Увидев мельтешащих на откосе духов, я было вскинул автомат, и чуть не рухнул обратно на дно окопа. Автомат будто врос в землю. Я взглянул под ноги. Забрызганный кровью приклад стоял в багровой лужице и кровь продолжала на него брызгать из развороченного и развернутого носком назад правого ботинка. Выше внешней щиколотки, теперь смотревшей вовнутрь, пузырилось входное пулевое отверстие, бедро над коленом перехватывал ослабший медицинский жгут. Отдуваясь, я насилу мог заставить себя поверить в то, что это происходит со мной. И не столько мысль о смерти, сколько обида из-за чего-то упущенного, несделанного разозлила меня. Вытащив таки ствол на бруствер, я взялся бегло стрелять по залегшим духам. Отдача выстрелов, едва достигавших моего запертого слуха, представлялась мне толчками в дверь, которую я сдерживал плечом. По склону ходили пылевые чертики с искрами. Меняя рожки´, я отчаянно ругался и тем заставлял себя не отвлекаться на развороченный ботинок. Силы, однако, быстро покидали меня, чему я почти не давал отчета и удивлялся, как вырастают стенки окопа и как я пытаюсь карабкаться куда-то в сияющую синеву…
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































