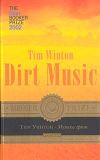Читать книгу "Путешествие Ханумана на Лолланд"

Автор книги: Андрей Иванов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Андрей Иванов
Путешествие Ханумана на Лолланд
Часть первая
1
Ханумана мутило от датской провинции. Корзиночки с цветами на подоконниках gammel kro[1]1
Гостевой дом старого образца, корчма, постоялый двор (дат.). (Здесь и далее примечания и перевод автора.)
[Закрыть], а за окнами, как в аквариуме, сутулые старички, пугливо пилящие ножичком сосиску.
В этом мире ему было чуждо все. Отторжение вызывала любая мелочь. Причудливо выложенный тротуар. Узоры на стенах. Витые оградки. Литые медные ручки. Путаница улиц; живые изгороди из декоративных кустарников; фырчание газонокосилок; стенами огражденные заводы, фабрики, свалки…
– Это настоящий лабораторный лабиринт! – говорил Хануман, толкая меня локтем в ребро. – Как раз для двух крыс, таких как мы с тобой, Юдж! Черная да белая! Хех! Какая выживет? В каждом городе одно и то же! Одно и то же!
Так и было. Ярко-красный почтовый ящик с золотым гербом: дудка и корона над ней. Аккуратная клумба возле бензоколонки. Пригожий киоск с конопатой девчушкой на перекрестке. Размеренно поступающий гул города, будто качают меха. В индустриальную перспективу протянутые провода. Туда же убегающие дороги. Безупречно размеченные. Насмерть укатанные. Казалось, машинам и мотор был не нужен, чтобы ехать! Так плавно они скользили. Как по конвейерной ленте. Въезжая прямиком на небо. Глядя им вслед, мы брели от остановки до остановки, прятались от дождя и ветра в темно-зеленые металлические коробки, курили, вертели карту. С безразличием рептилий мимо проплывали автобусы. Форма важных водителей заставляла напрягаться. Золотые пуговицы, кокарды, манжеты… Все как надо. Пышные усы под тяжелой складкой бульдожьих щек. По самые веки наполненные тоской глаза. Хануман косился на них недоверчиво, нервно теребя подтяжку.
– Им не позавидуешь, – говорил он, притворно ухмыляясь. – Только представь, целыми днями колесить по этим дорогам… С ума сойти от скуки можно! Мы всего лишь несколько дней по ним пилим и уже вымотались как черти, а они – каждый день!
Иногда автобус останавливался, водитель выползал, чтобы помочь какой-нибудь старушке или просто выплеснуть из термоса остатки кофе, бросив заодно в нашу сторону тесно пригнанный взгляд. Хануман постоянно следил за ними краем глаза и мне твердил, чтоб я не расслаблялся; он был уверен, что все они состоят и на службе в полиции тоже.
– Они обязаны докладывать, – говорил он уголком рта. – Поверь мне! Они все подписывают такие бумаги… Их приглашают в кабинет, там им подсовывают инструкции… Они полчаса читают, а потом подписывают… Чуть что, они будут звонить… По особому номеру… У них в полиции есть отдел моментального реагирования для таких сигналов… А ты как думал! Сразу же выезжают! Это лучший способ усилить контроль! Думаешь, это не подозрительно?.. Сидят тут какие-то… Один черный… Кто такие?.. Почему бы не проверить документы?..
– Тогда, может, лучше убраться? – говорил я, и мы вставали и шли. Хануман при этом что-нибудь напевал…
В нем всегда бродила какая-то мелодия, которую он прятал от всех за плотно сжатыми губами; ограждал от ветра и обстоятельств; тайком отстукивал то одной, то другой ногой. Боролся за каждую ноту. Но ветер срывал слова с губ. Шум влезал в череп. Наполнял его чужеродностью. Выламывал из грудной клетки ритм. Въезжал транспортером в душу. Врывался в сердце мопедом. Хлипкое пламя мелодии заглушали лающие голоса датчан, могучие отбойные молотки, рокочущие моторы, трескотня супермаркетов. Ловушки, тупики, стены из красного кирпича с исторической прожелтью теснили душу Ханумана. Куда ни ткнись – красный кирпич, отливающий национальной гордостью. Плотным рядком, один к одному, аж зубы сводит! Сквозистые скверы. Стерилизованная стилизация стеклянных станций, раздающих эхолалии вместо билетов и буклеты. Буклеты с путаным расписанием автобусов, поездов, паромов. Везде. Чтоб ты не потерялся, чтоб не сбился с маршрута, чтоб пенял на себя, если что…
В этом тщательно расчесанном мире все было предусмотрено; найти закуток и затаиться двум таким вошкам, как я и Ханни, было практически невозможно. Всюду были глаза и камеры. Каждый был на телефоне. Даже деревья, посаженные особым образом, казалось, следили за нами и подавали сигналы кому-то, кто непременно следил за деревьями. Всякая мелочь была с намерением вшита в панно нам непонятной жизни. Все вышло из одного горнила. Платформы и в достоинство обернутые люди в требовательном ожидании своего поезда – все это вылезло из огромного жерла, замерло и поместилось перед нами, устрашая целостностью. Особенно страшны были люди. Неприступные, как бастионы. Гладкие плащи; выверенные жесты. Холодные, как безжалостные рельсы. Блеск очков; белизна зубов. Надежно сработанные, как столбы, подпирающие тусклое небо. За каждым числились определенные заслуги. Полезность обществу умножали списки ими регулярно посещаемых курсов. Над каждым светила неугасаемая звезда специализации. Каждого незримым флером оберегала сила какой-нибудь могущественной корпорации. Существа, рассчитанные на многие лета. Гарантийный срок покрывали страховые компании. Все было учтено. Даже случай…
Интерсити мчались прочь. Унося в своих кишках их драгоценные жизни. Они о чем-то говорили, что-то читали, ничего не замечали, спали, мечтательно смотрели на нас, мимо нас, сквозь нас. Нам в этих поездах места не было. Нас бы вышвырнули контролеры: пинком под зад – Ханумана, тычком в спину – меня. Фуражки контролеров кивали козырьками, их компостеры прокалывали пространство, километры и километры стали: чик! – værsgo[2]2
Будьте добры; пожалуйста (дат.).
[Закрыть] – чик! – værsgo…
Мы плелись дальше; из-под земли вырастали шлагбаумы; сверкая сигнальными лампами выезжали какие-то машины; там и тут попадались запертые двери, ворота, надписи “ingen adgang”, “forbudt!”[3]3
«Входа нет», «Запрещено!» (дат.).
[Закрыть], “privat”… Хануман был озадачен. В его глазах установился стеклянный блеск. Холод. Ветер. Любопытные таксисты. Флаг в каждом дворике. Флаг, что полощется как тряпка.
– Они тут даже ветер протирают патриотизмом, чтобы не подхватить простуду предательства, – отстукивал зубами Хануман. – Это же невозможно принять! Юдж, на это просто тошно смотреть! Что это за страна, мэн! Что за королевство такое!
– Чистой совести и чистых унитазов, мэн, – мямлил я сквозь сон.
Сон одолевал все сильней и сильней. Мы катились по наклонной, куда-то проваливались, воронка засасывала. Назревало что-то нехорошее. Кружили видения. Шествовали гномики в красных шапочках. Люди в красных мундирах, тоже как гномы, маршировали с тяжелыми медными инструментами, разгоняя жирных ворон. Это были любители, но маршировали они и дули в трубы с видом настоящих артистов. Кружили по плацу, как заведенные: ать! ать! Готовились к какому-то празднику… Натягивались гирлянды. Старушки выставляли кукол в окна. Напуганные птицы в небе повисали как мусор. Солнце жмурилось и снова бросалось в надраенные медные трубы. Витрины сообщали о скидках. Мальчики и девочки на улицах раздавали пригласительные и открытки. Дурные предчувствия нагнетал тракторный так-так-так с полей. Крутился какой-то бородач с ручкой и листком бумаги, приставал к прохожим, просил, чтобы расписались под чем-то и пожертвовали чем-либо… К стене приставили лестницу. Подозрительный тип взялся за телефон…
Зашли на станцию. Смешались с толпой. Опять схемы движения. Знаки, стрелочки… Опять буклеты, туристические, музейные, исторические, книжечки с убедительными советами: «Если вы были на Юлланде и не побывали в………… и в…, то можно с уверенностью сказать, что вы не видели настоящей Дании».
– О, какая тоска! – стонал Хануман. – Хэх, лучше б я не видел Дании вообще! Уж лучше б я ослеп, когда сошел с парома на эту проклятую землю!
Я подхватил брошенный им буклет, прочитал: «…воспользоваться ресторанчиком провинциального гаммель кро, ибо только здесь вы можете отведать подлинной датской кухни…» Ну конечно, там же можно «…посетить Аквапарк, Леголанд, Аквариум и Старый город Орхуса, национальный парк с могильниками первых викингских королей, сад с магнолиями, орхидеями… музей древних лодок, на которых были завоеваны Лондон и Париж, открыты Исландия, Гренландия, Америка, Индия и весь остальной мир…» Ну конечно: «и весь остальной мир». Вот так! Никак не меньше… И снова расписание поездов, «…с помощью которых вы можете побывать во всех этих замечательных местах Дании».
– Вот так, Юдж, – продолжал Хануман. – Полчаса паромом, всего лишь полчаса! Каких-то полчаса… От Хельсинборга до Хелсингёра, полчаса, не больше… Ты садишься на паром в нормальной стране и через полчаса ты оказываешься черт знает где! Тоска, мэн, тоска!
Да, было до того тоскливо, что хотелось выть вместе с ветром.
Расписания нас изводили. Сперва Хануман боялся к ним прикоснуться. Потом брезговал. Однажды мы застряли на одной автобусной станции (кажется, возле Оденсе). Времени было полно, мы не знали, куда его сбыть. Сидели и плевали под ноги, докуривая последние три сигареты. Дурно становилось уже от мысли, что у нас есть во рту языки, которыми мы можем говорить друг с другом.
Он подошел к столбу и просто от нечего делать стал разглядывать расписание, сопоставляя, совпадает ли то, что там написано, с тем, что происходит на остановке. Наверное, совпало что-то… и он тут же уверовал в то, что теперь может как и все датчане ориентироваться во времени и пространстве этой страны! С верой в то, что он приобщился к духу этого мира, с верой в то, что он теперь не обезьяна, но человек, он проехал несколько остановок. По пути он набивал этими буклетиками свою папку, приговаривая, что теперь все это имеет смысл и может нам пригодиться; он так постарался, аж замок не застегивался. Но все это кончилось печально: в итоге он убедился не столько в том, что расписания бесполезны, сколько в собственном бессилии постичь законы порядка этой страны, понял, что никогда ничего в этих графах не сможет понять, выкинул их и поклялся больше не брать.
Это произошло на платформе центральной станции в городке не то Ранес, не то Хорсенс. Мы не ели третьи сутки и, что самое страшное, не предпринимали ничего, чтобы это как-то поправить. Застряли в этом городишке из-за дилера, который через форточку выудил из нас последние деньги. Спали на автомобильной свалке в старой машине, которая завелась и некоторое время грела, пока не кончился глоток бензина, оставленный бывшим владельцем на перегон. И когда стали мерзнуть, развели костерок в большой металлической банке, жгли порножурналы из папки Ханумана, жгли газеты, которые находили в багажниках, – но все равно не согрелись. Прокоптились, провоняли насквозь, но не согрелись. Выкурили весь гашиш, нисколько не забалдев. Выкурили три сотни хапнув, что выгребли из пепельниц всех более или менее свежих машин. Съели все яблоки с единственной яблони на отшибе. У нас кончились спички, умерли все зажигалки; кончилась вода в литровой бутыли Ханумана; наконец, в нашей банке погас огонь и сдохли все угольки. Приползли на станцию отогреться. По пути я блевал на улице с отвратительным названием Gavnøvej. Меня так скрутило… Ханни сказал, что мне не следовало так нажимать на яблоки и хапцы. А потом добавил: «А может, ты схватил язву?..»
Сказал он это, вовсе не обращаясь ко мне, а просто изрек, в пустоту, глядя куда-то перед собой… От мысли о возможной язве мне стало совсем худо. Но я собрался, разогнулся и дотащился до станции. Там попили воды в туалете. Хануман просидел три часа на унитазе с расписанием, пытаясь своими заиндевевшими мозгами понять, когда и на какую платформу придет поезд на Орхус…
С Орхусом мы почему-то связывали смутные, лихорадочные надежды, которые нас терзали все три дня в Ранесе. Я не помню, когда, при каких обстоятельствах в нас поселились эти надежды. Они завелись, как глисты. Откуда ни возьмись… Взялись, и все тут. Такое уже бывало и прежде. Тут нечему удивляться. Это как кашель, простуда. Раз – и уже жар! Так и Орхус… Было в этом что-то такое, заразное… В наши головы эти надежды закрались, как в сумасшедших – видения; они искусали нас как блохи; мы натурально в кровь расчесали себе души за те три дня в чертовом Хорсенсе! Я помню, как Хануман вдруг вспыхнул, и его понес этот характерный пламенный прилив эмоций. У него случился настоящий приход! Пик! Его рвало словами. Он был готов бежать прямо тогда же, с пеной у рта, пробиваться, стучать в запертые двери… Вон из проклятого Ранеса!
– В Орхус! Поверь мне на слово, мэн, – твердил Хануман, шлепая меня по плечу. – К черту из Хорсенса. В Орхус, мэн! Вот куда надо двигать! В Орхус! Как я сразу не догадался?! Fuck me in the mouth! Fuck me in the ass![4]4
Драть меня в рот! Драть меня в зад! (англ.)
[Закрыть] Какой болван! Сразу надо было сходить в Орхусе!
Я тоже сперва загорелся, но потом быстро остыл. Как угольки в банке зачахли, так и я. Мне стало безразлично: что Хорсенс, что Орхус… Но ничего не говорил Хануману, чтоб не осложнять безвыходность ситуации. Делал вид, что тоже нацелен. Последняя ночь в машине далась так тяжко… Даже ворчать под нос не было сил.
Ханни курил хапец за хапцом и нервно рассуждал:
– М-м-м, да-да, именно Орхус! Да, мэн, да… Большой город, там много иностранцев, легко затеряться, оставаться незамеченным, делать дела, чувствовать себя человеком. Ты врубаешься, Юдж? Легче найти контакт. Может, цепанем кого-то. Может, повезет с работой. Я слышал, там есть настоящий восточный базар. Говорят, большой. Ух! Должны быть и индийские рестораны. Просто обязательно. Как же без индийского ресторана? Даже в Фредериксхавне есть. Что уж говорить про Орхус. Хэх! Как знать, если повезет…
Но надо было сперва добраться до Орхуса. Хануман считал, что мы проскочим, если повезет. Он всегда чуть что говорил это «если нам повезет». Если нам не везло, он просто говорил “bad luck”[5]5
Неудача (англ.).
[Закрыть]. И все дела. В этот раз он зачем-то на меня наседал и приговаривал:
– Должно повезти. Не может не повезти. Нам так давно не везло. Человеку не может не везти все время. Должно и повезти наконец. Отсюда до Орхуса рукой подать! Тут же локальная ветка. Почти никогда не проверяют. Вот после Орхуса, там – да, проверяют, а до Орхуса – не-е… Сам знаешь… В Орхусе пересадка… Да и вообще, это даже ближе, чем от Роскиле до Копена… Раз в сто лет проверят, да и то… Отпустят, если попадешься… Сколько раз отпускали… А?
– Да, да, конечно, – сонно соглашался я.
Хануман заводился все больше и больше, как будто его ширнули, когда он отлить отходил. Возможно, тогда он и принес с собой эту идею. Из-за забора на свалке… Не помню. Не имеет значения. Орхус, каким он себе его рисовал, оживил его не на шутку! Видно было, что само слово «Орхус» дает ему прилив адреналина, потому как он его повторял и повторял, как заклинание.
– Opxyс – это тебе не какая-то бензоколонка и Суперспар при ней… Это не деревушка, где все перетрахались еще триста лет назад! Орхус – это же древняя столица! Это практически мегаполис! Там была королевская резиденция! Город студентов, а значит – музыка, кайф… Культурная столица Дании! Я читал об этом в брошюрах!..
– Да, да, конечно, – говорил я.
Хануман елозил. Доставал каждые десять минут. Вырывал мое сознание из голодного сна. Последнюю ночь он просто уже не мог усидеть на месте. Ему вдруг захотелось прокатиться. Он вновь видел себя в интерсити! Хануман так любил скандинавские поезда. Он был просто влюблен в DSB[6]6
Danske Statsbaner – датская государственная железная дорога (дат.).
[Закрыть]. Он в поезде себя чувствовал человеком. Он и становился им. Перевоплощался в гражданина мира. Принимал облик немецкого индуса. Индуса, который родился в каком-нибудь Шайзвурстбахе от дородной немки и тощего беженца, а Индии в жизни не видел. Он даже был согласен, чтоб его принимали за пакистанца, лишь бы он предположительно родился в Европе. Там было полно таких оболтусов. Шатались без толку, своими манерами опровергая цвет своей кожи. И он делал то же самое: так же ухмылялся, как будто его все достало, так же бросал ноги на противоположное сиденье, так же распахивал рубашку, показывая все свои амулеты, так же листал журнал “Tag med”[7]7
Буквально «возьми с собой» (дат.), журнал этот есть обыкновенно в поездах междугородних веток.
[Закрыть]. Это было феноменально. Мне даже казалось, что я своим присутствием дискредитировал его искусство, мог все испортить. Он отворачивался к окну, с усталым выражением глядел на невыносимые пейзажи, повторял “det er så kedeligt, man, så kedeligt”[8]8
Так скучно, мужик, так скучно (дат.).
[Закрыть] с такой естественной скукой в лице, будто с детства питал к этим полям и городкам отвращение, и так натурально у него выходило, что контролеры не решались у него спросить билет. Они проходили мимо нас, поклевывая своими фуражками воздух между рядами сидений, как дрозды на своей пашне. И тогда Хануман с презрением смотрел им вслед. Он был безбилетником по призванию. Поездка без билета поездом сообщала ему заряд энергии. Он таким образом разгонялся. На него это действовало почище дорожки амфа. Прокатить без билета пару остановок означало хорошо начать день. Для него это было даже необходимостью. Такой разгон мог завершиться удачной кражей в супермаркете или бабой под боком!
Потом я стал думать, что Орхус тогда возник в сознании Ханумана далеко не случайно. Он просто хотел проехаться в поезде, не опасаясь контролеров. В Орхус было так же бессмысленно ехать, как и в любой другой город. Ехать было некуда вообще! В каждой точке карты – куда ни ткни – делать нам было нечего. Куда бы мы ни поехали, нас никто нигде не ждал. Кроме ментов и неприятностей…
Я думать не хотел о том, что меня могло ждать в Эстонии; он просто не хотел возвращаться к своему прошлому. Он частенько говорил: «Для меня ехать в Индию равносильно возвращению из будущего в темные века. Мэн, если тебе повезло и ты вдруг попал в машину времени, то ехать в прошлое глупо! Надо жарить вперед! И чем дальше, тем лучше!» Он вообще не хотел куда-либо возвращаться. «Это все равно что предавать достигнутое, – говорил он. – Только вперед!» Его могла ждать жена в Индии; или баба с ребенком в Бухаресте; или подружка в Праге; или совсем свежая связь в Стокгольме. Ни в одном из этих направлений Хануман ехать не хотел. Он хотел ехать в Америку. Америка и была той точкой, где должно было завершиться его путешествие в будущее. Именно в Америке его будущее должно было стать настоящим. Но ни один из датских поездов туда, разумеется, не ехал. Он был в отчаянии. И от отчаяния придумал себе Орхус. Орхус был просто предлогом, лишь бы куда-нибудь двигать, лишь бы убраться поскорей из этого проклятого городишка. Как бы он там ни назывался – Ранес, Хорсенс… Какая разница! Все равно куда. Куда угодно! Лишь бы убраться. Нас так припекло. Безысходность давила кишку. Я совсем скис. Я готов был сдохнуть прямо там, на станции, в туалете. Из меня такие взрывы неслись, что я чувствовал себя пушкой, которая вот-вот родит ядро. Наконец я услышал, как из другой кабинки Ханни сказал: «Второй путь. Живее! У нас пять минут!» Мы поспешили на вторую платформу, встали. И тут наш поезд подошел к третьему пути. Выругавшись, мы бросились обратно. Но не успели. Всю кишку подземного перехода забило говном пассажиров с какими-то мешками. Пространство вдруг сделалось вязким, узким, непроходимым, как жидкий окоп. Мы еле-еле пробились к ступенькам. Поезд ушел из-под носа. Ханни пришел в ярость. Он вышел из себя. Вывернулся из куртки и стал ее топтать, скаля все зубы своего огромного рта. Он так громко ругался, что я даже отошел в сторону, встал возле автомата, делая вид, будто покупаю билет. А сам стоял и жмурился, мозги закатывались. Хотелось растаять в воздухе. Испариться к черту! Я знал, что кругом были люди. Я знал, что они смотрят. Меня пробирал параноидальный озноб. Вжимаясь в собственную тень, я стоял и давил веками глаза – только бы не заплакать. А за спиной Хануман блеял, метал молнии. Исходил пеной у всех на виду. Жестикулировал. Шипел. Рычал. Извивался как шланг. Ему было плевать, что на него смотрят. Срать он хотел на ментов! Он клал на все! На всех и на каждого! Он был страшен, как Кухулин перед битвой. Его все достало! На глазах у остолбеневших пассажиров он раскидывал буклеты на рельсы, кричал им вслед:
– О, it must be a practical joke! This schedule does not make any sense at all! What do we need it for, if we can’t fucking use it! I see no fucking point!..[9]9
О, это, должно быть, розыгрыш! В этом расписании нет никакого смысла! Зачем нам оно нужно, если мы не можем его использовать! Я не вижу никакого смысла! (англ.)
[Закрыть]
Все те навыки, что мы приобрели в Копенгагене, ни на что не годились на Юлланде. Компостеры отказывались принимать фальшивые билеты. Хануман никак не мог подобрать к ним ключа; все его ремейки были ни на что не годны. Компостер издавал отвратительный писк, и мы отлипали от него, отворачивались, уходили. То же было и с автобусами! Нас чуть ли не пинками гнали вон, когда наши подклеенные билетики застревали в компостере водителя; он бранился, мы пятились; водитель хватался за свой телефон; мы торопились; пассажиры с вытянутыми лицами смотрели нам вслед; мы прибавляли ходу.
Хануман не мог привыкнуть к медлительности, с которой тянется день, к бессмысленности, с которой проходят недели. Он говорил, что наша жизнь похожа на штиль, что мы ни к чему не придвигаемся. Он не мог привыкнуть к праздникам, продуваемым насквозь. Он с опаской относился к безлюдным маленьким городкам с узенькими улочками, обсаженными шток-розой. Он возненавидел люпины с первого взгляда! А их там было… Вдоль каждой оградки! Узко склеенные улочки ткались непредсказуемо, и всюду росли люпины: розовые, сиреневые, лиловые, красные, голубые, желтые…
– Смотри, как они любят цветы! Проклятые идиоты пытаются состязаться с голландцами! Они думают, если посадят много цветов, их страна хоть капельку станет лучше! Цветочная революция… Flower power… No fucking way![10]10
Цветочная революция… Как бы не так! (англ.)
[Закрыть] – бухтел Хануман.
Он вечно заводил не туда. Мы все время путались, утыкались в тупики, топали обратно. На нас смотрели из окон, из садиков, из машин… Приходилось делать вид, что мы кого-то ищем, смотреть в карту, в бумажку, оглядываться по сторонам, изображать туристов. Толку не было никакого! Хануман давился ругательствами, говорил, что улочки ничем не лучше расписаний.
– Их улицы никуда не ведут. Все они уходят в тупик, – говорил он. – Так они строили, чтоб легче было поймать вора!
Нас и ловить было не надо. Мы сами шли в руки. Только отворяй ментовоз! Всякий раз, попадая в тупик, мы оказывались возле маленькой дверцы с серебряной табличкой, где нас встречала одна и та же старуха в модном аккуратном пальто с иголочки; она задавала нам вопрос, на который мы не в состоянии были ответить, потому что даже понять не могли, что она спрашивала своим шепелявым ртом; мы поворачивались и уходили, чувствуя на своих спинах липкий взгляд и дыхание ее по-рыбьи открытого рта.
Хануман никак не мог привыкнуть к тишине, которой были наполнены уик-энды, не мог приноровиться к дешифровке звуков, которыми вскрикивала мгла, к побрякивающим всеми проволочками и колокольчиками заправкам, к особому юлландскому говору, к походке и шуршанию ног юлландских стариков. Он не мог постичь, в какую сторону открываются двери. Это было, пожалуй, хуже всего.
Неприятие этого чуждого мира толкало Ханумана на нелепые нарушения закона. Он наматывал бумагу в туалете, пачками крал салфетки. Из кафе без пепельницы или солонки не уходил. Можно было решить, что он либо клептоман, либо обычный сумасшедший. Но он не был ни тем, ни другим. Он просто мстил этому миру за все те обиды, которые тот нанес ему; он презирал людей, которым легко жилось здесь. У него были причины, причины… Он презирал их хотя бы за их аккуратный вид; за чистые цветные одежки; за то, что даже пенсионеры одеваются, как подростки, за рюкзачки, розовые капюшоны, зеленые варежки, красные кроссовки…
– Эти люди похожи на марципановых кукол, – говорил Хануман.
Я с ним соглашался. Самым противным было то, что у этих кукол есть глаза, они все время пялились. Я то и дело ловил взгляд… Такой особенный взгляд… Ты видишь, как взгляд скользит по толпе, по улице, по витрине, а потом падает на тебя и задерживается, глаза сужаются, глаза изучают, расшифровывают тебя, как символ, пытаются поместить тебя в инвентарный список, взгляд классифицирует тебя… Напрасно. Для нас не было места в списке. Мы не были такими же букашками, как их местные бомжи и проходимцы. К своим они уже привыкли. От них были прививки. За них не надо было беспокоиться. От своих знали, чего ожидать; своих бродяг воспитали и занесли в регистр; отдрессировали что надо. Мы же явно не вписывались в шаблон. Мы не были похожи на людей, которым с детства объяснили, где право, где лево, что делать можно, а чего нельзя. Потому они дергались. Да, эти марципановые куклы нервничали. Своим видом мы вгоняли их в стресс.
– Хех, Юдж! Стресс – последнее, что им нужно, – учил меня Хануман. – За одно это нас могут посадить!
От нас держались подальше; на нас смотрели косо. У каждого в кармане мобильник. Если чья-то рука поднималась к виску, мы как по команде вставали и шли.
– Двойной контроль, Юдж, опять двойной контроль, – цедил Хануман сквозь зубы, сплевывая на кукольный тротуар, проклиная разметку, музыкальные светофоры, стенды с рисуночками школьников.
Он проклинал каждый «Макдоналдс» и Спар-киоск, деревья, украшенные воздушными шариками возле детских кафе…
Однажды ночью Хануман помочился на свежевыпеченный «Мак-Бургер», потеснивший трухлявую, но все же ухоженную церквушку. «Хэх! Религию здесь уважают, как пенсионеров, – приговаривал он, расстегивая ширинку. – Однако почему-то дети своих стариков торопятся сдать в plejehjem[11]11
Дом престарелых (дат.).
[Закрыть]. Религия в этой стране существует сугубо в рудиментарном виде. Она есть, но где-то там, в plejehjem. В клозете, пыльный скелет… Бог отдыхает в дурке… Иисус в смирительной рубашке… Пастор, как Иуда со шприцем витаминола, усыпляет свою паству проповедями…» И так далее… и так далее…
Он похихикивал и пускал ленивую струю на то, что когда-то, вероятно, было папертью, а теперь стало макдрайвом. Он мочился, шагая на кривых длинных ногах вокруг паркинга. Светили круглые фонари, бросался в глаза след пролитого кетчупа. Хануман шумно мочился на желтый пластиковый стул. Кожица мертвого воздушного шарика свисала с оградки. Деревья молча вздыхали. Хануман мочился на круглый столик. Дрожали звезды, бились флажки. Хануман мочился на маленькое пихтовое дерево в кадке. Хануман мочился на витрину. Хануман мочился на помойку. Хануман мочился на стеклянную дверь. Он стряхивал последние капли со словами «…вот так… вот так… на вашу новую макбургерную религию… вот так… я сделал… вот так… вашу мать…»
Со словами «и ты тоже продался» он входил в ольборгский паб, у дверей которого стоял деревянный индеец с кружкой деревянного пенящегося пива и надписью на груди «Я тоже выбрал “Туборг”». Кривился всякий раз, когда проходил мимо страхового агентства.
«Вот где настоящие кровопийцы-оборотни сидят, – говорил он. – Они делают деньги на человеческом страхе!»
Смеялся надо мной, когда замечал, что я с грустью смотрю вслед уходящему в Швецию или Норвегию парому.
– Не печалься, Юдж. На таком пароме все равно далеко не уедешь, – говорил он, хлопая меня по плечу. – Корабль, на котором датский флаг, идет только в Данию, и никуда больше…
Его бесило все, что он видел больше двух раз. Радуга в каждом садочке. Темнокожий детина с сахарной ватой. Оглушительная мелодия из “Looney Tunes”, с которой по городкам крутилась пестро разрисованная машина, продававшая мороженое. Где бы мы ни появились, мы слышали эти скрипучие вопли из мегафона и хохот Дональда Дака, а затем выплывала эта смешная машина, разрисованная мультяшными персонажами. Я высказал предположение, что за нами следят, и тут Хануман облил меня презрительными усмешками: «Этих машин десятки! Не будь параноиком, Юдж!»
Возле каждой школы в погожие дни девочки готовились к выступлению: хорошенькие майоретки в красном и золотом высоко подбрасывали, проворачивались и ловко ловили свои сверкавшие серебром причиндалы, а поодаль конопатые толстушки в трико делали гимнастические фигуры под “Gimme baby one more chance”. Мы садились на скамейку и курили, курили и смотрели, как они упражняются, пили воду и облизывались.
Знаки, надписи на каждом шагу, третье поколение граффити на каждой второй стене; подсветка вдоль дорог, отражатель на каждой штанине и рукаве; рисуночки, полосочки, столбики, стрелочки для велосипедистов, аккуратно выложенные могилки. Почтальон в красном на коричневом велосипеде. Дворники в оранжевом. Почтальон им сигналил и махал рукой. Они махали ему тоже, и давай дальше – гнать воздушной струей беглые красные, желтые, бурые листья… Листья взлетали, проворачивались, падали, подпрыгивали, катились, кувыркались, сметались в общую кучу, которую уже пожирала мини-машина с худенькой пожилой женщиной за рулем.
– Хэ-ха-хо! – вскрикивал Хануман. – Что за страна! Этот мир собран, как детский конструктор, только разобрать его невозможно… Он так собран, что понять его может только тот, кто в нем родился… Так же как и их чертов язык, мать его…
– Посмотри на этих людей, Юдж! – кричал он мне. – Они не живут – они играют в жизнь. Они играют в жизнь, как в «Монополию» или бинго-лото. Они взвешивают каждое слово, как египетские боги сердца! Они прощупывают тебя, как сигнальные ворота на выходе из магазина! Они видят, что ты курил траву, даже если это было в прошлом году. Они учуют в твоей моче, что виза твоя давно истекла. Они прочтут в твоих глазах генетически унаследованные алкоголизм и рабство. Они украдут у тебя твое сердце раньше, чем ты вспомнишь о том, что оно у тебя есть. А потом они сядут в свой скромный «фольксваген» и поедут на гриль-вечеринку, а ты останешься стоять в их поле распотрошенным чучелом. На тебя будут гадить вороны, а они где-то в саду своих друзей будут пожирать сосиски с пивом, и им будет наплевать на тебя… Они о тебе навсегда забудут! Они будут просто скучать! Понял?! С этих ублюдков станется…
Приступы красноречия, как правило, нападали на него в тумане. Мы часто забредали в туман, потому что таскались пешком, как настоящие датские laengevej ridder[12]12
Буквально «рыцари большой дороги» (дат.) – так в Дании иронически называют бродяг без постоянного места жительства, их отличает особый вид, они накалывают на себя много значков, одевают странные одежды, таскаются с рюкзаками, чайниками, свернутыми матрасами, чаще всего с коляской и собакой; существует мнение, что они так живут из протеста.
[Закрыть]. На автобус было не наскрести. Приноровиться подделывать билеты нам не удалось. Да и ехать, ехать нам было некуда.
– Зачем нам тратить деньги на билет, если мы не знаем, куда нам ехать? – говорил сокрушенный Хануман. – Скажи, ты знаешь, куда мы идем? – спрашивал он меня. Я говорил, что не знаю.
– Вот и я не знаю! – орал Хануман. – Я тоже не знаю!
Он был со мной предельно откровенен. Он больше не знал, куда шел, и не скрывал этого. Он больше не собирался в Орхус – плевать он хотел на Орхус, – эта идея вышла из него вместе с гневом, пеной, потом, криком… Как только приступ миновал, он забыл об Орхусе и больше никогда его не вспоминал, как будто такого города не было вообще! Я так ни разу и не побывал там, и не проверил, есть там восточный базар или нет. Орхус был забыт, и у нас больше не было цели – неприкаянные, мы брели по дорогам, от городка к городку, высматривая, где что плохо лежит. Юлландская пустошь затягивала нас все глубже и глубже в свои поля, как трясина…