Текст книги "Юность Барона. Обретения"
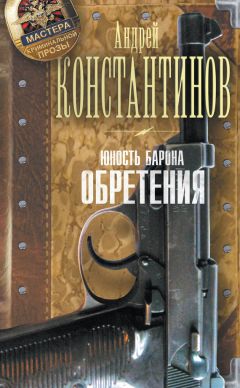
Автор книги: Андрей Константинов
Жанр: Криминальные боевики, Боевики
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
* * *
Время тянулось медленно. Прошел час, другой, третий. Ночь шла на убыль, но из-за низкой, провисшей над городом своим гигантским брюхом облачности рассвет никак не наступал. А вот мороз, напротив, становился злее, а ледяной ветер – пронзительнее. В какой-то момент Юрке показалось, что он промерз не просто до последней косточки, но до каждой остекленевшей клеточки мозга. Так что, предложи ему сейчас некий добрый волшебник на выбор кусочек хлеба или кусочек тепла, еще не факт, что Юрка выбрал бы первое. Вот только добрые волшебники давно и, похоже, окончательно махнули рукой на умирающий город и его жителей. Да что там волшебники! Юрка уже подзабыл, когда в последний раз встречал в своей жизни доброго просто человека.
И все же утро постепенно брало свое: снег все отчетливее белел, а на его фоне все сильнее темнели фигуры – как порядком намозоливших, до мельчайших подробностей изученных, в молчаливом смирении продолжавших выстаивать очередников, так и силуэтно бредущих по своим неведомым делам редких прохожих.
Один из таких вот редких, все еще неважнецки различимый в сумраке, низкого росточка мужичонка с сидором, заброшенным за левое плечо, неожиданно притормозил и еще более неожиданно окликнул:
– Юра?!
– Федор Михайлович? – после паузы, неуверенно, ориентируясь исключительно на знакомый тембр голоса, отозвался Юрка. – Это вы?
Мужичонка сделал несколько шагов навстречу и теперь окончательно материализовался в образе и подобии «Достоевского».
– Юра! Жив, курилка?! Ай, молодца! Давай-ка отойдем в сторонку, поговорим.
– Я отойду ненадолго, хорошо? – обратился Юрка к стоящей за ним женщине. Та молча и безучастно кивнула.
Старый и малый добрели до Фонтанки и встали против ветра, упершись для устойчивости спинами в обледенелый гранитный парапет набережной.
– Это ж сколько мы с тобой, брат, не виделись?
– С прошлого октября.
– Да, где-то так. Прости, что не захаживал. Я почему-то был уверен, что вы эвакуировались. С такой-то малявкой на руках.
– Нет, не получилось у нас.
– Что твои женщины? – В голосе Федора Михайловича проступила неподдельная тревога. – Бабушка? Ольга? Живы?
– Живы. Только бабушка плоха. Да и Ольга голодная вечно. И ноет все время.
– Но, самое главное, держитесь?
– Пока да, – понуро кивнул Юрка.
– Да, брат, невеселые дела. Значит, бабушка, говоришь?..
– Последние недели еле-еле на работу, а потом с работы доползает. А в подъезде самостоятельно спуститься-подняться давно не может. Только со мной.
– Неужто Ядвига Станиславовна так в библиотеке и работает?
– Без ее служащей карточки нам бы совсем каюк. Сегодня, в кои-то веки, выходная. После дежурства. Хоть отлежится немного.
– Знаешь, а мне и в голову не могло прийти, что Публичка по-прежнему работает.
– Работает. Не как часы, конечно. Но работает.
– Поразительно. И что же – и читатели есть?
– Есть. Немного, конечно, но все равно.
– Чудеса. Впрочем, это лишний раз доказывает, что ТАКОЙ город фашистам не по зубам. А ты чем занимаешься? В школу ходишь?
– Редко, на мне же все хозяйство. Вон, – Юрка махнул в сторону очереди, – когда занимал, семи часов не было. А теперь, раз к открытию хлеб не подвезли, запросто можно еще полдня простоять.
Юрка сглотнул слюну, вспомнив о загаданном было школьном супе, и поспешил сменить тему:
– А как ваши, дядь Федя? Димка, тетя Катя?
– Нету больше, брат, ни Димки, ни Кати, – с болью, не сразу отозвался «Достоевский». – В декабре. Друг за дружкой. С разницей в три дня. Ушли.
– Извините.
– Да какое тут, к чертям собачьим, извините, – Федор Михайлович, изможденный, бледный, уставился на Юрку своими круглыми, потемневшими глазами. – Ныне, брат, все счета исключительно по одному адресу направляются: «Берлин, собаке Гитлеру, до востребования». И, помяни мое слово, придет день, когда и он, и прихвостни его, по каждому, по каждой душе убиенной, персонально ответ держать станут. И никакие извинения приниматься не будут. Пусть они их себе засунут в… Короче, сам знаешь куда!
«Достоевский» надсадно прокашлялся, прочищая горло от внезапной хрипоты, выпрямился, поправил лямку своего сидора.
– Пора мне. Еще чапать и чапать. Как бы на смену не опоздать.
– А вы все там же, в депо работаете?
– И работаю, и живу. В заброшенной сторожке стрелочников обосновался. Домой ночевать теперь все едино нет смысла ходить – только силы тратить. Так что, брат, это счастливый случай, что мы с тобой повстречались. Давно потребно было кое-какой инструмент из дома перенести. Долго откладывал, но вчера вечером, наконец, сподобился… Ну, держи пять. И держись.
Старый и малый пожали руки. По-блокадному, не снимая варежек.
После чего «Достоевский», прикинув что-то в уме и, немного поколебавшись, произнес:
– Э-эх, кабы на тебе столько хлопот по дому не висело.
– Тогда что? – насторожился Юрка.
– Видишь ли, на днях парнишка один, в учениках-подмастерьях в нашей бригаде ходивший, умер. Чуть постарше тебя, но уже рабочую карточку получал. И вот теперь встал вопрос о толковой замене. В принципе, я бы мог похлопотать, но раз такое дело…
– Дядя Федя! Пожалуйста! Похлопочите!
– А как же?..
– Я все успею! Вот честное слово! Да если мы с рабочей карточкой будем! Тогда… тогда можно будет и бабушке из библиотеки уволиться. Она тогда, сколько сможет, по дому. А я после работы помогать ей стану.
Голос у Юрки дрогнул, глаза предательски увлажнились. Откуда-то из памяти всплыло некогда в книжках читанное, дореволюционное:
– Дядя Федя! Похлопочите! Христом Богом вас прошу!
– Ну-ну, будет. Ты еще на колени бухнись, – смущенно перебил «Достоевский». – Хорошо, будь по-твоему. Завтра часикам к восьми подгребай в депо. Сыщешь там меня. Если что, люди покажут. Договорились?
– Договорились! – возликовал было Юрка, но, спохватившись, уточнил тревожно:
– А вдруг я не справлюсь? Еще подведу вас?
– Работа несложная, но требующая внимания, поскольку ответственная. Но я уверен, что сын инженера Алексеева справится, не посрамит память отца.
– Я постараюсь. Не посрамить.
– Вот и славно, – Федор Михайлович снял варежку, сунул руку в карман ватника, который при его росточке вполне сходил за пальто, достал завернутый в тряпицу кусок хлеба, отломил примерно треть и…
И сунул Юрке со словами:
– На вот.
– Да вы что? Не надо!!!
– Бери-бери. Чтоб веселее в очереди стоялось.
Теперь настал черед Юрки стянуть варежку и окоченевшими, не слушающимися пальцами принять бесценный дар. От соприкосновения хлеба с посиневшей прозрачной кожей правой ладошки словно бы искра пробежала по всему его, еще не дистрофическому, но уже близкого к тому телу.
– Спасибо, дядь Федь.
– На здоровье. Дражайшей Ядвиге Станиславовне и Олюшке от меня нижайшие поклоны.
Юрка едва дождался того мига, когда Федор Михайлович повернется к нему спиной и, осторожно меряя шаги, экономя силы на остаток пути, отправится вниз по Фонтанке. Лишь после этого, поставив ногтем зарубку на трети от хлебной трети, Юрка откусил свою долю, убрал остаток в варежку и с наслаждением принялся перекатывать мякиш за щекой.
И было то ни с чем не сравнимое блаженство.
Возвратившись в очередь, Юрка подумал, что часом ранее, в сердцах и с голодухи, напрасно и совершенно огульно охаял ленинградцев. Есть, разумеется, остались в его городе добрые «просто человеки». Такие, как бабушка, как Федор Михайлович. Иначе и быть не могло. Не где-нибудь – в городе Ленина живем!
* * *
«12 января. Понедельник. Оленька снова полночи не спала от голода. В полубреду просила то конфетку, то кусочек хлебца. Я не понимаю одного – неужели мы настолько отрезаны от остального мира? Ладно мы, старики. С нами, как говорится, можно уже не церемониться. Но неужели нельзя на самолетах перекинуть ленинградским детишкам хотя бы по плитке шоколада или по маленькому брусочку сала?
Юра – большой молодец. Помогает мне во всем, и даже больше того. Хотя сам такой стал худющий, непонятно – в чем и как душа держится? Это ж надо было додуматься – посадить детей от 12-ти лет, когда возраст как раз требует усиленного питания, на иждивенческую карточку! Есть у них там, в Смольном, мозги, или как?
В доме нет ни тепла, ни света. Водопровод не работает. Холод такой, что приносимая Юрой с Фонтанки вода замерзает почти сразу. Живем, как доисторические пещерные люди. Даже хуже, потому что на мамонта добытого рассчитывать не приходится. Какие мамонты, если уже дошло до того, что люди людей едят! Такого даже в страшном сне представить было невозможно, и вот она – явь. На днях в подвале нашли трупик Юриного одноклассника Постникова с отрезанными ягодицами.
Некогда блистательный имперский Петербург превратился в свалку грязи и покойников. У нас теперь, наверное, хуже, чем на фронте. Думается, там после боя все-таки выносят своих покойников, а у нас люди падают на улицах, умирают, и никто их неделями не убирает.
Шесть месяцев войны. Страшно подумать, сколько людей погибло за этот сравнительно небольшой период времени. И все какие ужасные смерти! Сколь жестока, до безумия жестока эта война! Скоро ли, скоро конец? Войны ли, наш ли?..»
Рассказывая «Достоевскому» о том, что нынче бабушка получила возможность отдохнуть, Юрка, оказывается, добросовестно заблуждался. Дождавшись подобия рассвета, Ядвига Станиславовна решилась реализовать план, который вынашивала последнюю неделю, – предпринять во всех смыслах авантюрную прогулку до Сенной площади и обратно. В одиночку.
До сих пор Кашубская отваживалась посещать толкучку только в сопровождении Юры. И ходили они исключительно на ту, что стихийно сложилась напротив расположенного неподалеку от дома, давно неработающего Кузнечного рынка. Где, к слову, в последний раз они очень выгодно выменяли Леночкино крепдешиновое платье на 200 граммов дуранды[12]12
Дуранда – спрессованные в бруски куски отходов от производства муки (жмых). Чаще всего блокадники распаривали дуранду в кастрюле, получая нечто похожее на кашу. Из этой каши пекли лепешки.
[Закрыть]. Самое главное – настоящей, а не обманки, как это случилось с Соловьихой из 18-й квартиры, которой под видом дуранды продали спрессованную полынь.
Меж тем одна из сотрудниц библиотеки рассказала Кашубской, что барахолка на Сенной гораздо лучше: и выбор продуктов больше, и шансы купить еду за деньги выше. Второе звучало особо заманчиво, так как у завсегдатаев Кузнечного деньги были не в ходу – здесь, в основном, практиковался натуральный обмен. Вот Ядвига Станиславовна и задумала попробовать прикупить на накопленные за несколько месяцев 300 рублей чего-нибудь съестного. А заодно, если предложат достойную цену, продать Леночкины же золотые сережки с крохотными изумрудными камушками. Серьги эти дочери некогда прислал из Москвы на именины крестный, Степан Казимирович. От которого с мая 1941-го не было ни слуху ни духу.
Основательно укутав полусонную Оленьку в груду одеял и строго-настрого предупредив, что дверь никому и ни под каким предлогом открывать нельзя, Ядвига Станиславовна посулила внучке, что вернется с «чем-нибудь вкусненьким», и вышла из квартиры. Помянутая авантюрность подстерегала ее уже здесь, за порогом: один только самостоятельный спуск с третьего этажа, на который ушло не менее десяти минут, отнял немало сил. Ну да, как любил выражаться покойный супруг, «затянул песню – допевай, хоть тресни».
* * *
В мирное время – что до, что после революции – Сенная площадь славилась как одно из наиболее бойких торговых мест в городе. Парадоксально, но и в блокадные дни, когда все вокруг либо замерло, либо вовсе умерло, над площадью и ее окрестностями продолжал витать специфический «деловой дух» и бурлила какая-никакая, но жизнь.
В первую очередь здесь бросалось в глаза немалое, в отличие от того же Кузнечного рынка, количество «покупателей» – неплохо одетых людей, с быстро бегающими глазками и столь же быстрыми движениями. Мордатые, настороженно и воровато зыркающие по сторонам, в качестве своеобразного опознавательного знака они держали руку за пазухой, как бы недвусмысленно намекая, что им есть что предложить. В качестве «было бы предложено». Мерзкие, что и говорить, людишки. Это о них быстро сложилась в Ленинграде поговорка «кому война – кому нажива». Самое противное, что подозрительно отъевшиеся типы, сомнительного вида военные, деловито снующие туда-сюда хабалистые бабы и иже с ними «блокадные коммерсанты» вели себя нагло, уверенно, ощущая себя чуть ли не хозяевами жизни. И горькая доля правды в последнем имелась: вся эта невесть откуда вынырнувшая на поверхность мутная плесень и в самом деле распоряжалась жизнями – чужими жизнями.
Добредя до рынка, Ядвига Станиславовна первым делом сторговала у краснорожей щекастой девки внушительный, как ей показалось, ломоть хлеба. Отдав за него не менее внушительные 125 рублей. («Восемь таких ломтей – моя месячная зарплата», – неприятно отозвалось в мозгу)[13]13
Кашубская приобрела хлеб по спекулятивной цене едва ли не в 300 (!) раз выше номинала.
[Закрыть]. Еще 140 она выложила за стакан крупы и полкило сухого киселя. На сей раз продавцом оказался трусливо озирающийся по сторонам мужичонка с внешностью приказчика. Похоже, промысел спекулянта был для него внове, так что даже Ядвиге Станиславовне, с ее абсолютной неспособностью торговаться, удалось сбить с первоначальной цены целый червонец.[14]14
Трусил «приказчик» вполне обоснованно: по сложившейся в ту пору практике, за стихийными рынками и толкучками в блокадном Ленинграде присматривали переодетые в штатское милиционеры. В основном аресту подвергались только те горожане, кто не менял, а именно продавал (за деньги) продукты или вещи.
[Закрыть]
Теперь оставались сережки. Вот только…
Как их предложить? Кому? Что или сколько попросить?
Кашубская стояла в самом эпицентре кипящего торгового котла и нерешительно всматривалась в лица, силясь вычислить потенциального покупателя. И вдруг…
М-да, поистине для семейства Алексеевых-Кашубских то был день неожиданных встреч. Неожиданных и, как покажет время, именно что судьбоносных.
– Господи! Люся?! Голубушка!
– Ядвига Станиславовна!
Женщины обнялись. В глазах у обеих блеснули слезы.
– Как же я рада вас… – Самарина шмыгнула носом, утерлась варежкой и, тревожно всмотревшись, спросила:
– А… э-э-э… Как дети?
– Живы-живы, – успокаивающе закивала Кашубская. – И Юрочка, и Оленька. Слава Богу.
– Знаете, я в последнее время жутко боюсь задавать подобный вопрос знакомым.
– Да-да. Я тебя очень хорошо понимаю. Но как же так, голубушка? Я была уверена, что вы еще в августе вместе с Русским музеем в Горький эвакуировались.
– Не вышло у меня. В последний момент включили в состав бригады по подготовке Михайловского дворца к защите от пожаров, вот время и упустила. Теперь несколько месяцев болтаемся в списках. Женя регулярно ходит, ругается, да пока все без толку. Одни пустые обещания, – голос Самариной предательски задрожал. – А у нас Лёлечка уж такая больная…
– Ох, горе-горюшко горемычное. Ну да, ничего не поделаешь, держись, милая: тяжел крест, да надо несть.
– Я стараюсь. Но буквально сил никаких не осталось. Чтобы жить. Если бы не Лёлечка, кабы не она… я бы давно…
– А супруг, получается, с вами? Не на фронте?
– У него плоскостопие нашли, – с видимым смущением пояснила Самарина. – И еще в легких что-то тоже. Так что Женя сейчас все там же, на фабрике. Они теперь шинели солдатские и теплое обмундирование шьют. На днях премию выписали – шапку-ушанку. Вот я ее и принесла, обменяла.
– И за что отдала?
– Кулечек крупы, думаю, ста граммов не будет, пять кусочков сахара и немножко хряпки. А вы что продаете?
– Сережки золотые с камушками. Леночкины. А к кому с ними подступиться – ума не приложу. Не умею я этого. Да и стыдно.
– Ах, бросьте, Ядвига Станиславовна. Не те сейчас времена, чтобы эдакого стыдиться. И вообще, знаете, как говорят: стыд – не дым, глаза не ест.
Кашубская дежурно кивнула, подумав при этом: «Знаю, голубушка. И поговорку эту знаю, и с чьего голоса ты поешь – тоже знаю. Это Женьки твоего, плоскостопного, философия. Не вчера сочиненная. Он и до войны тот еще прощелыга был».
– Попробуйте обратиться вон к тому инвалиду, – Самарина показала взглядом в сторону притоптывающего на месте детины в бушлате. Удлиненное лицо его, с крупным костлявым носом, выражение имело угрюмое и неуловимо неприятное.
– А с чего ты взяла, что он инвалид? На таком бугае пахать и пахать. Ишь, морду какую наел. Сама себя шире.
– Он в рукавицах, потому и не видно. А так у него на правой руке двух пальцев нет. Я это случайно заметила, когда он у одного мужчины часы золотые на две банки рыбных консервов сменял.
– Неужто консервов? – не поверила Кашубская. – Я уже и забыла, как они выглядят. Хм… Нешто, и в самом деле попробовать подойти?
– Попробуйте, только в руки сразу ничего не отдавайте! Сперва сторгуйтесь, а уж потом… Вы меня извините, Ядвига Станиславовна, пойду я. Пока еще доберусь. А мне надо Лёлечку кормить. А вы – вы заходите к нам, в любое время. И Оленьку обязательно приводите. Пусть девочки порадуются, поиграют. Как в… как…
Голос Самариной дрогнул, в отчаянии махнув рукой, она медленно побрела прочь. Провожая ее удаляющуюся сгорбленную фигуру, Кашубская едва заметными движениями руки перекрестила Люсину спину и направилась к «инвалиду»…
– Молодой человек, извините, можно к вам обратиться?
– Что принесла, мамаша?
– Сережки золотые. С камушками.
– Ну засвети.
– Извините, что?
– Покежь, говорю.
– А… сейчас.
Ядвига Станиславовна извлекла из складок одежды многократно сложенный носовой платок, развернула на ладошке и продемонстрировала спрятанные в нем серьги.
Бегло взглянув, «инвалид» безразлично озвучил цену:
– Три куска мыла.
– Нет-нет, мне бы чего-нибудь съестного.
– Эк сказанула. Да здеся всем бы съестного не помешало. Камни-то небось бутылочные?
– Да вы что? Это изумруды!
– А я тебе вроде как на слово поверить должен? Ладно, могу сверху добавить еще десять спичек. По рукам?
Кашубская замялась в нерешительности.
С одной стороны, и мыло, и спички – ценности немалые. Но с другой – не продешевить бы. Если уж за золотые часы две банки консервов сторговать можно.
– Извините. Мне надо еще подумать. Прицениться.
– Чего сделать?! – На отталкивающем лице «инвалида» обозначилась ухмылочка. – Да тут никто, кроме меня, у тебя рыжьё все равно не возьмет!
– Что не возьмет?
– Ты чё, мамаша, русских слов не понимаешь?
– Во-первых, молодой человек, я вам не мамаша. Сыновей, тем паче – таких, слава Богу, у меня не было. А во-вторых, до конца я не уверена, но думается, что в словаре великорусского языка Даля слово «рыжьё» отсутствует? Но я проверю, обещаю.
– Вот иди и проверяй, – огрызнулся «инвалид». – Пшла отсюда, дура старая.
Кашубская в ответ смерила его презрительным:
– Самое обидное, что сейчас там, на фронте, на передовой, люди кровь проливают, в том числе за таких мерзавцев, как вы!
– Ты как щас сказала?
– Как услышал – так и сказала. Пальцы небось специально оттяпал? Чтобы винтовку не всучили? Тьфу, пакость…
Ядвига Станиславовна развернулась и с достоинством удалилась. Решив для себя, что более ноги ее на этой толкучке не будет. А разгневанный «инвалид», поискав глазами в толпе, выцепил взглядом вертевшегося неподалеку Дулю – не по-блокадному юркого пацана, одетого в подобие полушубка, перешитого из женского пальто, и коротким свистом подозвал к себе.
– Чего, Шпалер?
– Гейка где?
– Да здесь где-то шарился.
– Сыщи его, быстро.
– Зачем?
– Бабку, что возле меня сейчас терлась, срисовал?
– Вон ту? Которая в сторону речки пошла?
– Да. Скажешь Гейке, у нее на кармане серьги золотые с изумрудами, и я приказал делать. Он работает, ты – стрёма. Все, метнулся.
Дуля кинулся исполнять поручение, а Шпалер, сняв рукавицы, подул в окоченевшие ладони и злорадно прикинул, что за бабкины сережки с падкого до подобных цацек Марцевича можно будет срубить никак не меньше десяти косых.
Кстати сказать, Кашубская интуитивно почти угадала: два пальца правой руки Шпалер действительно отрубил себе сам. Правда, это случилось еще в 1938 году. В лагере Глухая Вильва, что под Соликамском. Тогда подобным, более чем убедительным способом Шпалер продемонстрировал кумовьям, что его претензии на статус положенца в самом деле не лишены оснований.
* * *
Бытует мнение, что способность видеть в темноте, точнее сказать – ориентироваться при отсутствии должного освещения, есть нечто из области сверхъестественного. Чуть ли не дар Божий. Коли оно и в самом деле так, можно сказать, что Юрка уже давно «отметился» милостию Божьей. Поскольку в кромешной тьме квартиры ориентировался уверенно и, в отличие от бабушки, перемещался по комнатам не на ощупь, а чуть ли не руки в брюки. Чему, к слову, немало способствовало отсутствие помех в виде мебели, большая часть которой ушла на прокорм прожорливой буржуйке.
Вернувшись из магазина, насквозь промерзший Юрка прошел на «дамскую половину» и с удивлением обнаружил на кровати одну только сестренку.
– Не спишь?
– Не-а. Холодно. Очень-преочень.
– Сейчас наладим. Гляди, какую я дровину на обратном пути нашел.
– Бабушка ругается, когда ты печку жжешь. Говорит, печка только чтобы воду и еду готовить.
– Да ладно, мы ей не скажем. Ты вон вся как капуста – кутанная-перекутанная, и то замерзла. А я почти пять часов на ветру да на морозе простоял. Хотя бы руки отогрею. Бабушка-то куда пошла? К соседям?
– Не-а, на Сенной рынок.
– Ку-уда? Точно на Сенной?
– Точно-преточно.
– И давно?
– Давно-давно.
– Вот ведь неугомонная! Сто раз говорил, чтобы одна в такую даль не таскалась. И что ей там делать? Книжки продавать? Да кому они теперь нужны. О, кстати, пойду какую-нибудь для растопки притащу.
Юрка прошел в гостиную, вытащил из груды сваленных на пол томов (книжный шкаф давно спалили) парочку первых подвернувшихся под руку. Затем слегка отогнул край служившего дополнительной шторой одеяла и всмотрелся в названия. Нет уж, фиг! «Трех мушкетеров» он не станет сжигать ни при каких обстоятельствах. А это у нас что? Бальзак, «Человеческая комедия», том четвертый. О, а вот эта годится – и толстая, и скучная.
Он возвратился в комнату и начал раскочегаривать печурку.
– Юра! – тихонько позвала сестра.
– Чего тебе?
– А ты хлебушка получил?
– Получил.
– А дай мне покушать, а?
– Не могу, надо сперва бабушку дождаться. Забыла наш уговор? Хотя на вот, – Юрка достал из рукавицы один из двух оставшихся хлебных кусочков. – Это нам Федор Михайлович подарил. Помнишь его?
– Помню, – жадно схватив хлеб, подтвердила Олька. – Это который Достоевский фамилия и который раньше к нам в гости ходил и всякие вкуснятины приносил. Он хороший. Жалко, что больше не ходит и ничего не приносит.
– Федор Михайлович меня к себе на работу берет. Скоро начну получать рабочую карточку.
– Ур-ра!..
Благодаря вырванным из Бальзака страницам обледеневшая дровина занялась довольно скоро. Юрка присел на корточки и обхватил руками металлический цилиндр буржуйки – вот они, минуты подлинного блаженства. Жаль только, что слишком быстро пролетают. Так же быстро, как остывают и стенки печки, едва гаснет в топке огонь. Бабушка права: использовать буржуйку для обогрева комнаты – непомерное расточительство. Но Юрке обязательно нужно хотя бы чуть-чуть согреться. Потому что сейчас снова придется выходить на мороз и плестись, быть может, до самой Сенной.
Ох и зол был Юрка на Ядвигу Станиславовну. Вместо того чтобы воспользоваться возможностью и хоть немного отдохнуть, восстановить силы, ее зачем-то понесло на толкучку, даже не на ближнюю. Теперь вот тащись, разыскивай, веди домой. Причем снова оставляя Ольку одну. А ну как тревога? Как же он измучился с ними: что старый, что малый – никакой разницы.
– Так, Олька, ты тут лежи, кушай. А я пойду.
– Опять уходишь? – испуганно напряглась сестра. – Не ходи. Мне одной страшно-престрашно.
– Надо бабушку встретить. Вниз-то она как-то спустилась, а вот как обратно подниматься станет, не подумала. Лестница между первым и вторым этажом снова как каток. Небось опять Соловьевы ведро со своим ссаньем поленились до улицы донести, в подъезде вылили.
– Юра!
– Ну чего еще?
– А правда, что Петьку Постникова по-настоящему, а не понарошку, съели?
– Чего ты глупости говоришь? Кто его съел?
– Ничего и не глупости. Я сама слышала, как утром к бабушке приходила тетя Поля из 11-й квартиры и рассказывала, что Петьку поймали на улице и съели по кускам. Какие-то кони с бала. Только – разве бывает конский бал?
– Одна сплетни распускает, а другая распространяет. Тьфу. А еще готовится в будущем в октябрята вступать.
Юрка с сожалением убрал ладони с печки, сунул их в успевшие намокнуть варежки, вышел из комнаты и как можно плотнее прикрыл за собою дверь, дабы сберечь остатки мнимого тепла для сестренки.
* * *
– А я ведь говорил: надо было не до парадной тянуть, а на хапок брать, – притормозив, досадливо протянул Дуля.
– Это тебе не сумка в руках! Сережки, их еще поискать надо: мало ли где их бабка на себе запрятала?
– Гы! Так ты ее чего, догола раздевать собрался? Ф-фу!
– Нишкни! – осадил подельника Гейка и сам изрядно раздосадованный увиденным.
Почти полчаса они с Дулей плелись хвостом за старухой, на которую указал Шпалер, надеясь, что та зарулит в подъезд или хотя бы свернет в ближайшую подворотню. Но бабка, зараза такая, как вырулила на набережную Фонтанки, так и почесала по ней в направлении Невского. Был бы вечер – тогда другое дело. А рубить ее среди бела дня и обшаривать лежащую, рискуя попасть на глаза шальному патрулю, себе дороже может статься. Мильтоны в последние недели совсем озверели. Чуть что, стреляют на поражение, не желая заморачиваться на конвоирование и последующую видимость следствия. Именно так два дня назад на Шкапина Крючка и завалили. Когда он у тетки зазевавшейся, из магазина выходящей, сумку подрезал. Та, естественно, заверещала, а неподалеку, как на зло, фараон нарисовался. По граждани одетый. Так он даже и пытаться не стал догонять: достал ствол и – привет, распишитесь в получении. Жаль Крючка, хоть и круглым дураком по жизни был, а все равно жалко.
В общем, дотянули они бабку до Чернышева моста[15]15
Ныне – мост Ломоносова.
[Закрыть], а тут ей навстречу пацан выперся. По всему видать – знакомый, потому как с ходу взялся бабке выговаривать, жестикулировать. А потом под локоток подхватил, и дальше они уже вдвоем заковыляли. Вот такая случилась непруха.
– И че мы теперь-то за ними премся? Фьюить, уплыли сережечки.
– Заткнись, Дуля! – Гейка еще раз внимательно всмотрелся в бабкиного провожатого. – А я, кажись, знаю этого парня. Ну-ка, ну-ка.
Он ускорил шаг, сокращая дистанцию, окликнул:
– Эй, Юрец!
Провожатый обернулся, сделал удивленное лицо, и Гейка понял, что не ошибся. «Однако. Вот ведь как бывает!»
– Ходь сюды на минуточку!
Юрка о чем-то переговорил с бабкой. Та кивнула, едва переставляя ноги, двинулась дальше, а Юрка направился к парням.
– Ну, здоро́ва, хрустальных люстр убивец! Живой?
– Живой.
Они обменялись рукопожатиями, после чего Юрка вежливо обратился к Дуле:
– Меня Юра зовут, а тебя?
– Зовут Завуткой, а величают Уткой! – оскалился тот.
– Не обращай внимания на придурка – его, когда в младенчестве крестили, пьяный поп на пол уронил. Юрец, я чё спросить-то хотел: эта старуха – знакомая твоя или где?
– Она не старуха. Это бабушка моя.
– А! Та самая? У которой денег на кино не хватает?
– Ну да. А что?
– А то. Считай, подфартило ей сегодня.
– Ей-то сфартило, зато у нас постный день, – мрачно откомментировался Дуля.
– Пасть закрой! – огрызнулся Гейка. – Снег попадет, гланда распухнет – чем тогда глотать станешь?
– Я-то закрою. Но со Шпалерой сам объясняться будешь, когда он…
Докончить фразу Дуля не успел: неуловимым движением Гейка ударил его под дых. Да так, что тот захрипел от боли и кулем осел на снег.
– За что ты его? – Потрясению Юрки не было предела.
– Я же предупредил, чтоб языком зря не молол. Ты вот что, Юрец, передай бабке, чтоб одна по рынкам с золотишком более не таскалась.
– Каким еще золотишком?
– Вот у нее и спроси, если не в курсе. А коли вас так прижало, что край, лучше сам ходи на Сенную. Я тебя к Марцевичу подведу, там недалеко. Он мне доверяет и подстав устраивать не станет. Цену, конечно, даст на мизере, зато без обману и кровяни.
– А кто такой Марцевич? И почему кровяни?
– М-да… Мы с тобой словно бы в разных городах выживаем. Марцевич – он в тресте столовых служит. Потому жратвы у него – как у дурака фантиков. Вот он и барыжит по-черному: за хавчик у народа золотишко отжимает, картины, хлам всякий старинный.
– Вот сволочь! – Юрка невольно сжал кулаки. – Шкура!
– А вот те, которым удалось у него какие-нить канделябры на дуранду сменять, по-другому меркуют. Вон бабка твоя понесла серьги на рынок. И правильно сделала. Золотишко – оно, конечно, блестючее, но на вкус – так себе.
Только теперь начиная что-то такое соображать, Юрка посмотрел на откашливающегося на снегу Дулю, а затем снова уставился на Гейку. Глядя в глаза, спросил, уже понимая, что его самые нехорошие догадки верны:
– А вы… вы откуда знаете? Про серьги?
– Некогда мне щас с тобой базланить, Юрец. Коли есть охота, приходи на днях на Сенную, – Гейка схватил подельника за воротник, рывком поставил на ноги. – Ну чё, баклан, очухался? Пошкандыбали до хаты…
* * *
Поздним вечером, когда Олька уже спала, тесно прижавшись к бабушке, Юрка, наконец, решился:
– Ба! Не спишь?
– Нет. Так умаялась за сегодня, а сон не идет.
– Ты это… Если снова захочешь серьги мамины на еду поменять, ты сперва мне скажи. Сама не вздумай больше на Сенную ходить, ладно?
– А ты откуда про серьги узнал? – немало опешила Ядвига Станиславовна.
– Узнал и узнал. Неважно.
Какое-то время бабушка молчала, а затем с видимым усилием приподнялась, кряхтя спустила с кровати ноги, обмотанные для тепла старыми платками.
– Помоги мне встать.
– Ты чего это? Зачем?
– Тише, Ольгу разбудишь. Просто дай мне руку. Вот так. А теперь идем в гостиную. Только не торопись.
Медленно, шажок за шажком, в кромешной тьме они перебрались в другую комнату и, по настоянию бабушки, подошли к стене, на которой сиротливо продолжала висеть мамина акварель с морским пейзажем. Некогда стоявший под ней гостевой диванчик был сожжен еще в начале декабря.
– Давно надо было тебе все рассказать. А уж теперь и подавно.
– Чего подавно?
– Недолго мне осталось, Юрочка.
– Э-э! Ты это брось! Я ж говорю: завтра начну работать у Федора Михайловича, и скоро хлеба у нас будет – куча. Ну, может, не куча, конечно. Но все равно.
– Ты адрес Самариных помнишь?
– Который новый? В Расстанном переулке, у Волкова кладбища? Помню.
– Дай мне слово, что, когда я… умру, вы с Ольгой переберетесь к ним.
– Это еще зачем? – набычился Юрка. – И вообще, перестань ты раньше времени себя…
– А затем, что, если ты действительно будешь ходить на работу, я не хочу, чтобы девочка оставалась одна-одинешенька здесь, в пустой квартире. А там и Люся за ней присмотрит. И на пару с Лёлей всяко повеселее будет. Ты услышал меня?
– Да.
– Дай мне слово, что именно так ты и поступишь.
– Я… я подумаю.
– Без всяких «подумаю»! Я жду!
– Хорошо. Даю. Слово, – нехотя выдавил из себя Юрка.
– Спасибо, – бабушка погладила его по голове. – Кормилец ты наш. А теперь дотянись до картины и сними ее.









































