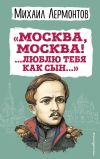Текст книги "При свете Жуковского. Очерки истории русской литературы"

Автор книги: Андрей Немзер
Жанр: Критика, Искусство
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 52 страниц) [доступный отрывок для чтения: 17 страниц]
«Странные сближения» – знаки скрытого смысла. Их обнаружение не может не вызывать сложного чувства, в котором радость смешивается с недоумением, смех победы с предчувствием новой загадки. В незавершенной рецензии на второй том «Истории русского народа» Н. А. Полевого (работа над ней, вероятно, соседствовала с заметкой о «Графе Нулине») Пушкин писал: «…Провидение не алгебра» и специально останавливался на непредсказуемой роли «случая», нарушающего «ход вещей». Юмор отдельной человеческой жизни или истории в том же, в чем ее красота и величие, – в непредсказуемости. А непредсказуемость остается в силе, даже если исчезает субъективный, изменяющийся, живой автор «онегинского» плана. Любое жизненное явление внутренне подвижно – неизвестно, чем чревато и способно посмеяться над тем, кто решается о нем судить.
Осознание мощи и непостижимости жизни (истории) обусловило две важнейшие особенности зрелого творчества Пушкина: неоконченность (или конспективность) множества его сочинений и постоянное оперирование с готовыми жанровыми формами, чужими стилями, посредующими между автором и изображаемым миром.
Мнимая незавершенность многих пушкинских шедевров (как формально «закрытых», так и внешне неоконченных) была с замечательной точностью интерпретирована А. А. Ахматовой. Остается, однако, открытым вопрос, почему читатель так жаждет сюжетного продолжения даже «Евгения Онегина» (бесчисленные опыты дописывания и реконструкций), не говоря уж о «Египетских ночах» или прозаических сочинениях из «светской» или «римской» жизни? Взглянем с этой позиции на два произведения, сюжетная логика которых представляется более или менее ясной. Роман о «царском арапе» завершается перспективой брака Ибрагима и боярской дочери Наташи Ржевской. В конце VI (предпоследней) главы мы узнаем о давней любви боярышни и стрелецкого сироты Валериана, в VII (последней и недописанной) главе в каморке пленного шведа, живущего в доме Ржевских, появляется «красивый молодой человек в мундире», как явствует из следующих замечаний, долго отсутствовавший, а прежде воспитывавшийся в этом доме. Молодой человек легко идентифицируется с Валерианом, соответственно намечается послесвадебный любовный треугольник. Черный ребенок, которого родила от Ибрагима парижская графиня Д., вероятно, должен «в негативе» оказаться белым плодом супружеской неверности, а сам Ибрагим предстать в облике обманутого мужа. Происхождение («стрелецкий сирота») его соперника может внести в домашний конфликт политические обертоны: легко представить себе Валериана противником Петра и его нововведений, следствием которых стал жуткий брак его возлюбленной. Картина представлена с достаточной полнотой, автор может остановиться, полагая в читателе Дон Гуана («У вас воображенье / В минуту дорисует остальное; / Оно у вас проворней живописца…»).
Сходно положение со «Сценами из рыцарских времен». Достаточно соотнести клятву Ротенфельда «…он (Франц. – А. Н.) до тех пор из нее (тюрьмы. – А. Н.) не выйдет, пока стены замка моего не подымутся на воздух и не разлетятся…» с именем монаха, в первой сцене бравшего взаймы у Францева отца и занятого алхимией (Бертольд), чтобы сделать вывод о будущем освобождении поэта-бунтаря (осведомленность в том, как звали изобретателя пороха, входит в кругозор мало-мальски просвещенного читателя). Можно даже не обратить внимания на вторую песню Франца («Воротился ночью мельник…»), в которой весело проигрывается тема несовпадения «видимого» и «реального», а здравый смысл предстает кознями лукавого (ср. уверенность Ротенфельда в серьезности его клятвы и будущее «исполнение неисполнимого»). Тем паче можно проигнорировать затекстовые связи (ср. первую редакцию первой песни Франца «Жил на свете рыцарь бедный…» с мотивом заступничества Пречистой Девы за «паладина своего» и заступничество «недоступной возлюбленной» – Клотильды – за Франца, слова которого «Однако ж я ей обязан жизнию!» – последние в «Сценах…»). Точно так же можно не знать пушкинского плана окончания «Сцен…», а в случае с романом об арапе – обстоятельств семейной жизни А. П. Ганнибала. Достаточно лишь навыков «пушкинского чтения» и…
И выдержавший первый шутливый экзамен читатель застывает в остолбенении. Потому что контур не заполняется, детали ускользают. Заглянув в сохранившийся план «Сцен из рыцарских времен», мы обнаруживаем не только «вычисленный» финал, но и «Фауста на хвосте дьявола», которого предугадать трудновато было бы и тем, кто знал о пристрастии Пушкина к афоризму Ривароля о родстве книгопечатания и артиллерии (тоже находящемуся в плане). «Ум человеческий <…> не пророк, а как угадчик…» Движение пушкинской мысли так же непредсказуемо, как движение истории. Мы обречены «додумывать» пушкинские сюжеты (хотя бы для того, чтоб оправдать по-ахматовски их оборванность), сознавая «слабость» собственных cоображений. Пушкин же строит свой текст так, что это «додумывание», гадательность и неопределенность становятся его неотменяемыми компонентами. Можно углядеть здесь издевку над читателем, а можно и высшую степень доверия к нему – в любом случае без смеха, юмора, улыбки не обойдется. Зная о своей единственности (и убедив в том нас), Пушкин словно бы загодя предполагает, что его будут читать по-разному, что один, другой, третий, стотысячный читатель повторит слова Николая I и Цветаевой: «Мой Пушкин».
К этому же парадоксу можно прибыть по другой дороге. Пушкину чем дальше, тем больше требовалось преломить свое слово в чужом сознании. При этом «онегинская» обнаженность приема (роман о романе, роман-дневник, прогулки с читателем сквозь время) уходит. Может уходить и стилистическая игра, явные забавы с цитатами, жанровыми и культурными ходами (это есть в «Повестях Белкина» и «Пиковой даме», даже в «Капитанской дочке», но все же не только этим определяется их поэтическое своеобразие). Неизменно желание даже самое сокровенное говорить «не совсем от себя».
В так называемом «каменноостровском» цикле появляются вариация на темы псалмов «Напрасно я бегу к сионским высотам…», переложения Беньяна («Странник», вхождение которого в цикл, однако, вызывает споры) и Ефрема Сирина («Отцы пустынники и жены непорочны…»), а собственное стихотворение маскируется под перевод («Из Пиндемонти», первоначально – «Из Alfred Musset»). He перевод, так подражание, не подражание, так стилизация, не стилизация, так пародия, не пародия, так мистификация – это самый «пушкинский» Пушкин 1830-х годов, Пушкин, ухитряющийся пародировать серьезное, чтимое и интимно дорогое сочинение («История государства Российского»), дабы создать отнюдь не комическую «Историю села Горюхина», Пушкин своим «двуголосьем» постоянно озадачивающий читателей.
Кто, кроме филологов, ощущает изощренную игру реминисценций, пародийный азарт, многоярусную маскировку «Повестей Белкина», от которых «ржал и бился» Баратынский? И проблема здесь не только в том, что современный читатель утратил интеллектуальный кругозор пушкинских современников. (И тогда мало кто стоял вровень с Баратынским – это Пушкина не смущало.) На вопрос П. И. Миллера о том, кто такой Белкин, поэт ответил: «Кто бы он там ни был, а писать повести надо вот эдак: просто, коротко и ясно» (подчеркнуто мной).
Так что же, зря, значит, лучшие пушкинисты ломают головы, распутывая тайные узоры ясных повестей? Разумеется, нет. Во-первых, потому что их поиски стимулированы самим Пушкиным. Во-вторых, поиски эти увлекательны не менее, чем стремительные сюжеты болдинских побасенок. В-третьих же, как за интеллектуальным чтением (если, разумеется, у читающего сохраняется крупица здравого смысла) таится простодушное, так за простодушным (если у читающего есть элементарные культурные навыки) стоит легкое недоумение: как это так? Почему все играет? Почему самые серьезные проблемы и сюжеты отзываются каким-то весельем?
Сказанное особенно приметно в «Капитанской дочке», где нет, буквально, эпизода (будь то страшный буран, дуэль, ощущения Гринева перед виселицей, угрозы пытки, споры с самозванцем и государыней и т. п.), который бы ни был подсвечен улыбкой. Вплоть до финала, где уже не подставной повествователь Гринев, а «издатель» сообщает о «благоденствии» потомства героев в селе, «принадлежащем десятерым помещикам».
В «Капитанской дочке» Пушкин выговорил свои серьезнейшие убеждения: милосердие выше закона, честь не подчиняется обстоятельствам – но как улыбчиво он их выговорил, как сдобрил (в этимологическом смысле слова) непреложность этих правил комическим колоритом. Комичен Пугачев с «господами енералами» и избой, обклеенной золотой бумагой, комичен герой (без кавычек!) – старый поручик Иван Игнатьевич, повторяющий перед казнью слова своего капитана: «Ты, дядюшка, вор и самозванец», комичны судьи, казаки, губернатор, императрица, просвещенный негодяй Швабрин и умница-попадья, бранчливый самодур Гринев-старший и сующийся под руку дуэлянту («барскому дитяти») Савельич, комичен даже сам Гринев, несомненно, самый благородный, чистый и мужественный герой русской литературы. Стоит забыть о растворенном в повести юморе, и «береги честь смолоду» окажется плоской сентенцией (в повести Гринев «честь бережет» именно потому, что знает нечто большее, чем условные нормы: он ведь отчасти виноват перед государыней, он ведь был-таки «в приятелях» с Пугачевым и из Оренбурга отбыл самостойно, но… впрочем, что объяснять!). Между прочим, такая операция была однажды проделана – и с печальным результатом.
В III главе капитанша Василиса Егоровна дает наказ поручику Ивану Игнатьевичу: «Разбери Прохорова с Устиньей, кто прав, кто виноват. Да обоих и накажи». Мы в полном восхищении от этого решения, и не только потому, что знаем: подсудимые подрались в бане «за шайку горячей воды». Решение в духе Василисы Егоровны, которую мы уже полюбили за ее сметливость и основательность, домашность и простодушие (прочитали о ней уже почти страницу!). В статье «Сельский суд и расправа», входящей в «Выбранные места из переписки с друзьями», Гоголь припомнил слова Василисы Егоровны, поставив их заключением к долгому рассуждению о «суде Божеском». Собственные размышления Гоголя изложены высоким торжественным слогом и (при несомненной духовной значимости) крайне отвлечены от действительности, а потому, будучи переведенными в бытовой план, производят впечатление жутковатое. Помещик, осуждающий обоих спорящих, привлекающий к бытовой неурядице имя Христово и силой гонящий провинившихся мужиков на исповедь, а в результате всего этого становящийся «полномочным как Бог», – это образ зловещий. Василиса Егоровна как образчик для подражания этому помещику – это образ неудачный, невольно обнажающий слабость не столько гоголевской мысли, сколько гоголевской риторики.
На эпизод статьи болезненно (и основания для этого были) отреагировал Белинский в «Письме к Гоголю»: «А Ваше понятие о национальном русском суде и расправе, идеал которого Вы нашли в словах глупой бабы в повести Пушкина, и по разуму которой должно пороть и правого, и виноватого? Да это и так у нас делается вчастую, хотя чаще всего порют только правого, – если ему нечем откупиться от преступления – быть без вины виноватым». Белинский, конечно, горячится: ни у Пушкина, ни у Гоголя ни слова нет о порке, но в его гневе есть резон, и серьезный. Гоголевское смешение христианства с капитаншиной «моралью» на поверку оказывается произволом, который всегда нехорош, а с «нравоучительным» привкусом особенно.
Пушкина Белинский не оспаривает – он просто делает реплику Василисы Егоровны исключительно «словом героя». Результат, однако, схож с тем, что вышел у Гоголя, возвысившего речение капитанши, – Пушкин пропал. Ведь в «Капитанской дочке» мы видели сочувствие автора наставлениям капитанши и никакого произвола не боялись! Потому что была Василиса Егоровна женщиной славной, доброй, чуть комичной, да к тому же (как мы узнаем позже) «мастерица грибы солить».
«Капитанскую дочку» можно читать «по Гоголю» (чаще получается – по неуклюжим начетчикам «Выбранных мест…») и «по Белинскому» (чаще получается – по тупым толкователям «Письма к Гоголю»). Можно, но не нужно. И к тому же трудно. Уж очень сильно надо заморочить себе голову, чтобы усмотреть в «оренбургской повести» апологию крепостной России или призыв к революции. Пушкин мешает.
Как всегда он мешает читать его сочинения «по кому-то». Мешает однозначным определениям, включая то, что должно отменить все остальные, их перекрыть и примирить: «Пушкин – поэт, и все тут». Сколько раз – и всегда как впервые – повторялось, впрочем, с полярными оценками, это суждение: Надеждин, Гоголь, Белинский, Писарев, Владимир Соловьев, Блок, Абрам Терц, Юрий Кузнецов – «какая смесь одежд и лиц, / Племен, наречий, состояний», а все то же. Ну, поэт. Но ведь не только… И очень даже с убеждениями. И с продуманными политическими воззрениями. И вообще…
Однозначности определений мешает тот, кто их загодя планирует. Кто умеет подчинить одной из своих ипостасей читателя. И надеется, что читатель, двигаясь по предложенному пути, не превратит его в свой окончательно, оглянется, оставив на миг «своего Пушкина» (великого меланхолика, эскаписта, литературного хулигана, оптинского старца, эстета и т. п.), и увидит улыбку Пушкина без определений, Пушкина, у которого все очень серьезно и все пронизано естественным юмором, Пушкина, вслушивающегося в смех жизни (непонятный, радостный, тревожный, страшный, ласкающий… и еще много-много всяких определений) и вторящего ему.
Но здесь мы возвращаемся к зачину статьи, чтобы не забыть, о ком пели лицеисты.
Большой Жано
Мильон бонмо
Без умыслу проворит…
Это ведь не о Пушкине – о Пущине, это ведь антитеза странному «Французу» второго трехстишья. Ни «вкуса», ни «матерщины» – естественность юмора, легкость и простодушие, «без умыслу проворит». Ну да, прозой и разговором Пущина Пушкин восхищался, Пущин был его первым другом, он звал его в декабре 1825 года в Петербург, а в январе 1826 года объяснял на следствии Николаю I, что опальному поэту не родственник, а просто фамилии у них схожие (Пушкин, Пущин – лингвостилисты сказали бы, что мы имеем дело с паронимией), он написал о Пушкине так, как должен был бы написать… пушкинский повествователь – живо, искренне, весело и с привкусом тайны, словно из-за плеча глядит автор, то есть Пушкин. Мистика. Она же – юмор «странных сближений». Вот и получается, что первое трехстишие лицейского куплета не только о Жано, но и о Французе. И не так это удивительно. Не зря они были дружны, не зря в один куплет попали. Пушкин еще и не так с нами будет шутить.
1993
«Евгений Онегин» и эволюция Пушкина
Предисловие к первому изданию первой главы «Евгения Онегина» Пушкин открывает словами: «Вот начало большого стихотворения, которое, вероятно, никогда не будет окончено»[89]89
Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: <В 17 т.> [Л.], 1937. Т. 6. C. 638. Далее текст «Евгения Онегина» цитируется по этому изданию, страницы указываются в скобках; межстрочные интервалы обозначаются знаком – /, межстрофные – //.
[Закрыть]. Как представляется, тезис этот должен быть соотнесен с другой автохарактеристикой – содержащейся в LX строфе той же первой главы. Здесь роман противопоставлен предполагаемой «поэме песен в двадцать пять». Упоминание о «форме плана» этой поэмы прямо подразумевает «беспланность» ныне предлагаемого сочинения: «Покаместь моего романа / Я кончил первую главу: / Пересмотрел все это строго; / Противоречий очень много, / Но их исправить не хочу» (30). Заметим и другую – менее явную – антитезу: сообщение о будущей «поэме песен в двадцать пять» в LIX строфе вырастает из предшествующих (строфы LVII–LIX) рассуждений о собственном лирическом творчестве («Но я, любя, был глуп и нем. // Прошла любовь, явилась Муза» – 30). Пушкин настойчиво отрицает спонтанность поэзии, самую возможность (для себя!) мгновенного поэтического отражения чувства, утверждает, так сказать, внелирический подход к материалу. Не решая бессмысленный общий вопрос о том, как сочинял Пушкин «на самом деле» (вероятно, как угодно и в разных случаях по-разному), следует указать на спонтанность (или, если угодно, «имитацию спонтанности») как на конституирующую особенность именно «Евгения Онегина», текста, насыщенного автобиографическими реалиями и беспрестанно указующего на изменение авторских состояний (те самые «противоречия», что Пушкин исправить не хочет). Таким образом особо значимые (как любая концовка) финальные строфы первой главы «Евгения Онегина» указывают на его «инакость» по отношению к остальным сочинениям Пушкина.
Онегинский «принцип противоречий», истолкованный рядом выдающихся исследователей, в особенности же – Ю. М. Лотманом[90]90
Лотман Ю. М. К эволюции построения характера в романе «Евгений Онегин» // Пушкин: Исследования и материалы. М.; Л., 1960. Т. 3; Лотман Ю. М. Роман в стихах Пушкина «Евгений Онегин». Спецкурс. Вводные лекции в изучение текста // Лотман Ю. М. Пушкин. Статьи и заметки. 1960–1990. «Евгений Онегин». Комментарий. СПб., 1995. С. 395–411.
[Закрыть], соотносится с другими важными составляющими поэтики «романа в стихах»: лиризмом (в этой связи В. С. Непомнящий проницательно указывал на точность странного пушкинского определения жанра – «большое стихотворение»[91]91
Непомнящий В. С. Поэзия и судьба. Статьи и заметки о Пушкине. М., 1983. С. 251–252.
[Закрыть]), демонстративной установкой на незавершенность и отсутствием «плана».
Как известно, «план» «Евгения Онегина» не сохранился. В этой связи автор одной из наиболее серьезных работ об эволюции пушкинского романа пишет: «Поэт, от которого до нас дошли планы и записи почти для всех поэм, драм, повестей, даже для некоторых лирических стихотворений, не мог сделать исключения для своего главного, “постоянного” труда и начать его без ясного плана, без продуманного замысла от завязки до развязки. То обстоятельство, что план этот до нас не дошел, следует отнести к числу случайностей. Но его можно до известной степени реконструировать, экстраполируя данные о ходе рабочего процесса»[92]92
Дьяконов И. М. Об истории замысла «Евгения Онегина» // Пушкин: Исследования и материалы. Л., 1982. Т. Х. С. 78.
[Закрыть]. Решению этой задачи и посвящена статья И. М. Дьяконова. При всем изяществе многих наблюдений И. М. Дьяконова согласиться с ним затруднительно. Во-первых, случайностей получается многовато: И. М. Дьяконов предполагает изменение пушкинского замысла и соответственно реконструирует не один, а несколько планов: «материален» из них единственный – болдинский (1830) «план-оглавление», составленный по завершении (предварительном) работы над романом. Во-вторых, пушкинские характеристики «романа в стихах», как эпистолярные, так и текстовые (вплоть до приводимого И. М. Дьяконовым варианта беловой рукописи L строфы заключительной главы – «И план свободного романа / Я сквозь магический кристалл / Еще неясно различал» – 636, ср. 190) все же достойны не меньшего внимания, чем воспоминания современника о неких замыслах, которыми с ними делился поэт. И. М. Дьяконов относит их исключительно к «поэзии», а не к «действительности» (т. е. к сфере поэтики и автомифологизации, а не истории текста), однако как раз поэтика «Евгения Онегина» с ее постоянным смешением «поэзии» и «действительности» и заставляет усомниться в предложенной концепции.
Ни одно пушкинское сочинение (исключая незаконченного «Езерского», о чем ниже) не строится по «онегинским» принципам; ни одно пушкинское сочинение не имеет столь длительной истории. Пушкин мог годами вынашивать некоторые замыслы (например, драматических сцен, обычно именуемых «Маленькими трагедиями») – но они именно что ждали своего часа. Пушкин мог долго (хотя все же несоизмеримо с «онегинским семилетием») заниматься неким сюжетом, при этом существенно перестраивая первоначальные планы, – но и в таком случае он не приобщал публику к творческому процессу. Из текста «Капитанской дочки» сложно почерпнуть информацию об эволюции пушкинских воззрений на екатерининскую государственность, роль дворянства и пугачевский бунт, хотя такая эволюция несомненно имела место. Противоречия (достаточно часто являющиеся не оплошностями, но «обломками» измененных замыслов) можно обнаружить у многих писателей – конструктивным принципом они становятся именно в «Евгении Онегине». И. М. Дьяконов прав, характеризуя пушкинский труд пушкинским же эпитетом «постоянный». Другой его эпитет – «главный» – вызывает сомнение.
Несомненно для Пушкина с его унаследованным от классицизма чувством литературной иерархии, вовлеченностью во внутрилитературную борьбу и обостренным вниманием к собственной эволюции почти всегда была актуальной мысль о «главном» (на данный момент) сочинении. Над текстами такого рода Пушкин работал весьма целеустремленно и спешил представить их на суд публики (желательно – печатно, но эквивалентом издания могло быть и распространение в литературном кругу). В онегинскую хронологическую раму помещаются несколько таких произведений: «Цыганы» (задержка с полным изданием поэмы выкупалась ее известностью среди петербургских литераторов и публикацией репрезентативных отрывков в «Полярной звезде» и «Северных цветах»), «Борис Годунов» (на него Пушкин возлагал особые надежды еще в пору ссылки; невозможность публикации переживалась им весьма болезненно; ср. также многочисленные авторские чтения трагедии сперва в Москве, а затем и в Петербурге), «Полтава» (писалась сверхинтенсивно; очень короткий промежуток отделяет завершение поэмы – предисловие окончено 31 января 1829 – от книжного издания – конец марта). Каждое из названных сочинений – значимая и маркированная веха пушкинской эволюции. Работа над «Евгением Онегиным» ведется параллельно, словно бы формально отрицая саму возможность изменений пушкинской творческой системы, а по сути – демонстрируя их явственность. Если это и «главное» произведение, то, в первую очередь, не для аудитории, а для самого поэта. Каждый новый крупный текст Пушкина в определенной мере «снимает» предшествующие – «Евгений Онегин» мирно уживается со всеми[93]93
Кроме того из крупных сочинений в онегинское семилетие был написан «Граф Нулин», шла работа над явно претендующим на «главенство» – после неудачи с изданием «Бориса Годунова» и до «Полтавы» – но оставленным романом о «царском арапе», формировались замыслы современного прозаического повествования большой формы («Роман в письмах», «Гости съезжались на дачу…»). Осознав болдинской осенью 1830 года роман завершенным, Пушкин сразу же реализует замыслы «Повестей Белкина», «Домика в Коломне» и «маленьких трагедий».
[Закрыть].
Роман не только писался, но и печатался «спустя рукава»[94]94
Выражение из письма к кн. П. А. Вяземскому от 4 ноября 1823; см.: Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 10 т. Л., 1979. Т. 10. С. 57.
[Закрыть]. Пушкин явно не спешил представить публике свое «лучшее произведение»[95]95
Там же. С. 66 (письмо Л. С. Пушкину от января – начала февраля 1824).
[Закрыть]. В эпистолярии конца 1823 – начала 1824 годов постоянны цензурные опасения, разумеется, небезосновательные, но явно преувеличенные. Кажется, Пушкин склонен представить своим корреспондентам (с текстом незнакомым) «Евгения Онегина» ультрасатирическим, резким, а потому «непроходимым» сочинением (отсюда вызывающие законное недоумение исследователей слова «захлебываюсь желчью» в письме А. И. Тургеневу от 1 декабря 1823[96]96
Там же. С. 62.
[Закрыть]). Еще интереснее, что к моменту, когда Пушкин решается на публикацию первой главы (в начале ноября 1824 Л. С. Пушкин повез ее рукопись в столицу[97]97
Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина. Л., 1991. Изд. второе, испр. и доп. С. 471.
[Закрыть]), уже закончены главы вторая и третья. Если первая глава могла вызвать претензии достаточно «дикой» цензуры (не столько по сатирической, сколько по эротической линии), то две последующие были куда более безопасны. Однако Пушкин вовсе не торопится вынимать их из-под спуда, а быстрое и благожелательное решение одиозного цензора А. С. Бирукова (цензурное разрешение первой главы датируется 29 декабря[98]98
Там же. С. 486. Бируков, видимо, действовал по прямому указанию министра народного просвещения А. С. Шишкова – накануне Жуковский читает главу А. С. Шишкову. Там же. С. 485.
[Закрыть]) его планов не меняет. Вторая и третья главы увидят свет соответственно в 1826 и 1827 годах, то есть в пору, когда будут завершены три следующие. Разумеется, свою роль играли меркантильные соображения, однако они работали на общую «медленную» стратегию Пушкина; ср. характерную попытку самооправдания в предисловии к первому изданию третьей главы: «Эта медленность произошла от посторонних обстоятельств. Отныне издание будет следовать в бесперерывном порядке: одна глава тотчас за другой» (639). «Бесперерывным», впрочем, порядок публикаций так и не стал.
Вероятно, паузы между главами (как и указания на пропуски в тексте, сделанные «самим автором» – специальная оговорка в предисловии к первой главе – 638) важны были Пушкину для создания «биографического» эффекта. Так, задержка с публикацией второй и третьей («деревенских») глав провоцировала их приурочение к периоду михайловской ссылки. При этом Пушкин не ставил перед собой специальной цели ввести читателей в заблуждение; вторая глава в печатном издании была сопровождена «документальной» пометой: «Писано в 1823 году», однако это указание оказывалось «слабее» содержания, невольно проецируемого на не всегда внятные данные о жизни сочинителя.
Публикаторская стратегия в случае «Евгения Онегина» предполагала прерывистость, отражающую и усиливающую прерывистость собственно композиционную. В романе большинство глав завершается резкими и неожиданными смысловыми обрывами: первая – практически бессюжетная; третья – где вдруг взвинтившаяся интрига тормозится на кульминации демонстративным: «Докончу после как-нибудь» (73); пятая – где лишь намечается вторая кульминация: «Пистолетов пара, / Две пули – больше ничего – / Вдруг разрешат судьбу его»; шестая – где автор отказывается отвечать на внутренние вопросы «горожанки молодой» о судьбах персонажей: «Со временем отчет я вам / Подробно обо всем отдам, // Но не теперь. Хоть я сердечно / Люблю героя моего, / Хоть возвращусь к нему конечно, / Но мне теперь не до него» (135); седьмая – с ее пародийным вступлением (163). Напротив, переход от четвертой главы к пятой подчеркнуто гладок: два описания прихода зимы (89–91 и 97–99), приглашение на именины Татьяны в финале главы четвертой и их «предыстория» (сон героини) – в пятой. Именно там, где «связность» не нужна, Пушкин о ней заботится, как бы потаенно намекая на действительную «бесперерывность» в работе над этими главами, вновь информируя нас о том, как пишется роман.
Метатекстовая природа «Евгения Онегина» многократно обсуждалась исследователями. В данном случае хотелось бы обратить внимание на то, что «метароманность» не в последнюю очередь обусловлена своеобразной «дневниковой» природой повествования. Именно дневник (едва ли не в большей мере, чем даже лирика) обеспечивает доминирование автора над описываемой реальностью, позволяет резко менять точку зрения на тот или иной феномен («принцип противоречий», сказывающийся прежде всего на отношении к заглавному герою), может надолго оставляться, предполагает сильные умолчания, частые ретроспекции и домашнюю семантику, наконец, мыслится текстом принципиально незавершенным: дневник может быть оборван либо смертью пишущего, либо его волевым решением. «Евгений Онегин» и был своеобразным пушкинским «дневником», что обусловило его качественное отличие от остальных сочинений поэта. При этом «дневниковая» природа текста не требовала последовательной манифестации. Предполагая (не исключено, что с колебаниями) обнародование «романа в стихах», Пушкин «маскирует» его под повествование «обычное», то есть имеющее сюжет и развязку. Скрытая («дневниковая») и открытая («сюжетная») установка образуют еще одно значимое противоречие.
При этом немаловажно, что уже первая строфа романа намечает вполне определенную перспективу. Кода размышлений героя – «Когда же чорт возьмет тебя» (5) – предполагает ассоциацию с романом Ч. Р. Метьюрина «Мельмот Скиталец»: герой иронически самоуподобляется Мельмоту-племяннику, отправляющемуся к одру дяди. В дальнейшем герой Пушкина будет несколько раз именоваться «Мельмотом», то есть сопоставляться уже не с племянником-свидетелем, но с демоническим персонажем Метьюрина[99]99
См.: Eugene Onegin: A Novel in Verse by Aleksandr Pushkin. Translated from the Russian with a Commentary by Vladimir Nabokov. N. Y., 1964. Vol. 2. P. 35; Лотман Ю. М. Три заметки о Пушкине. 1. «Когда же чорт возьмет тебя» // Лотман Ю. М. Пушкин. С. 342; ср.: там же. С. 547.
[Закрыть]. «Мельмотовский» (заданный именем) код был весьма важен для последующего движения романа. С одной стороны, он позволял автору варьировать отношение к герою. Его демонизм то представал модной маской, «пародией» (здесь зачин романа корреспондирует, прежде всего, с седьмой главой и тем, что дошло до нас от первоначальной главы восьмой, «Странствие»), то обретал черты серьезные (сон Татьяны, тесно связанный с пушкинским интересом к народной трактовке разбойника-оборотня; в некоторых работах Ю. М. Лотман высказывал осторожные предположения о превращении Онегина в волжского разбойничьего атамана – в устных выступлениях ученого идея эта развертывалась более смело и отчетливо[100]100
См., например, статьи «Пушкин и “Повесть о капитане Копейкине” (К истории замысла и композиции “Мертвых душ”)» // Лотман Ю. М. Пушкин. С. 266–280; «Сюжетное пространство русского романа XIX столетия // Лотман Ю. М. О русской литературе. Статьи и исследования (1958–1993). История русской прозы. Теория литературы. СПб., 1997. С. 712–729 и воспоминания В. С. Баевского // Russian Studies. 1994. V. I. N 1. С. 17.
[Закрыть]). Нас, однако, в данном случае интересует другой поворот проблемы. Упомянув Мельмота, Пушкин указывает на возможность развязки и окончания того самого сочинения, что мыслится им (см. выше) не предполагающим завершения.
Подобная композиционная двойственность, как представляется, восходит к вполне определенному образцу – Байронову «Дон-Жуану». Связь «Евгения Онегина» с поэмой Байрона констатируется Пушкиным уже в письме к Вяземскому от 4 ноября 1823 года: «Вроде “Дон-Жуана” – о печати и думать нечего»[101]101
Пушкин А. С. Т. 10. С. 57. Пушкин педалирует «неподцензурность» своего нового произведения (см. выше), стараясь заранее настроить своих корреспондентов (будущих читателей) на «байроновскую» волну. Существенно, что указание на сходство с «Дон-Жуаном» делается уже по завершении первой главы (22 октября 1823 года). Так внутритекстовое отмежевание от Байрона (LVI строфа) никоим образом не отменяет ориентации на «Дон-Жуана». Утверждающаяся в этой строфе «разность между Онегиным и мной» (28), героем и автором противопоставлена поэтическим принципам «восточных поэм». Байроновский Дон-Жуан (в отличие от Гяура, Конрада, Лары) тоже отнюдь не двойник автора.
[Закрыть]. Поэма Байрона не окончена, а в написанной своей части знакома Пушкину не целиком. 24 марта 1825 (то есть полтора года спустя) Пушкин сообщал А. А. Бестужеву, что читал лишь первые пять песен «Дон-Жуана»[102]102
Пушкин А. С. Т. 10. С. 103.
[Закрыть], то есть первую и вторую (опубликованы в июле 1819), и третью, четвертую, пятую (опубликованы в августе 1821). Как известно, за этими двумя подачами последовал долгий перерыв – завершив в конце ноября 1820 пятую песнь, Байрон едва не бросил «Дон-Жуана»; работа над поэмой возобновилась в июне 1822, а через год с небольшим (июль 1823) были опубликованы шестая, седьмая и восьмая песни. Байроновская работа над «Дон-Жуаном» совсем не похожа на пушкинское писание «свободного романа» – она как раз отличалась редкостной интенсивностью (с июня 1822 по май 1823 Байрон написал 11 песен и начало следующей, семнадцатой, что осталась неоконченной; самая короткая из них – девятая – состоит из 85 октав, то есть 680 строк). Однако начинающий «Евгения Онегина» Пушкин не мог знать о таком развитии творческой истории «Дон-Жуана»: он видел свободное, изобилующее отступлениями, говорливое повествование, которое доходит до читателя порциями, подчиняясь авторскому своеволию (значимость почти двухгодичного перерыва между пятой и следующими песнями). Ясно, что такое повествование читалось Пушкиным как «открытое» (особенно на фоне жестко структурированных восточных поэм). И все же «Дон-Жуан» мог – в любой момент – обрести вполне определенный сюжетный итог. Байрон не только взял в герои персонажа общеизвестной легенды, но и счел нужным напомнить о ней в первой же октаве первой песни: «Ведь он, наш старый друг, в расцвете сил / Со сцены прямо к черту угодил»[103]103
Байрон Дж. Г. Соч.: В 3 т. М., 1974. Т. 3. С. 12. Перевод Т. Гнедич.
[Закрыть].
Любопытно не только чертыхание (ср. у Пушкина), но и сочетание «открытости» с неотменяемым финалом (инфернальным, как и в случае Мельмота-Онегина). Байроновский герой вроде бы и не похож на своего прототипа из легенды, но в то же время не случайно носит имя, рождающее четкие ассоциации. Пушкинский «мельмотовский» ход был тонко соотнесен с байроновским – специально оговоренным – выбором в герои Дон-Жуана.
Здесь примечательны два обстоятельства. Во-первых, Пушкин, демонстративно начиная роман монологом героя, подчиняется Горациеву правилу (знаменитое In medias res), специально оспоренному Байроном в 6–7 строфах первой песни, однако дальше он – вполне по Байрону («Мой метод начинать всегда с начала»[104]104
Там же. С. 13.
[Закрыть]) – обращается к предыстории (отец, воспитание, «досюжетное» бытие героя – то, что все это изложено гораздо лаконичнее, чем у Байрона, нас не должно смущать; установка на краткость и семантическую сгущенность для Пушкина неизменна в любом жанре). То есть и знаково дистанцируясь от Байрона, Пушкин, по сути, вышивает узор по его канве.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?