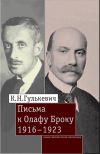Текст книги "Письма с фронта. 1914–1917"
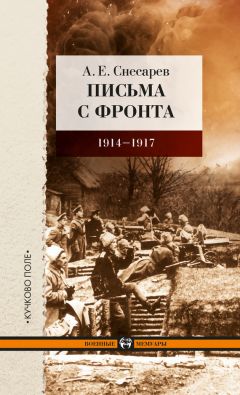
Автор книги: Андрей Снесарев
Жанр: История, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 17 (всего у книги 52 страниц) [доступный отрывок для чтения: 17 страниц]
Жду на днях Маслова, а может быть, не сегодня – завтра. Поговорим с ним во всю.
Давай, моя славная женушка, твою мордочку и глазки, а так же наш выводок, я вас всех обниму, расцелую и благословлю.
Ваш отец и муж Андрей.
Целуй папу, маму, Лелю. Как дела папы и доволен ли он работой? Ан[дрей].
18 ноября 1915 г.
Дорогая моя женушка!
Сначала о деле. Купи (так как у нас, кажется, нет… может быть, есть у папы?) мои «Индия как главный фактор…» и «Созидание границы» и вышли на имя Георгия Степановича Бревнова (подполк[овник]) в 133-й полк. Я все хотел ознакомить офицеров со своими трудами, да все как-то забывал. Думал и о других книгах, да те скучны и специальны, а на войне такие не читаются.
Кроме того, я просил через отъезжающего офицера мать Чунихина выслать тебе в Петроград остальные тетрадки его дневника (одна у меня есть); если это будет сделано, то уведомь ее о получении (Адрес: Таисия Николаевна Чунихина, Екатеринослав, Пороховая ул., дом № 10) и поблагодари. Оказывается, у нее не один сын, а три, но покойный (Димит[рий] Львович) был любимцем, и старушка возлагала на него наибольшие надежды.
Полк теперь у меня под боком, и мое влияние начинает сказываться в проведении более просвещенных и сердечных пониманий: начинаются отпуска, добрый тон, извинения, меньше [зачеркнуто: мордобития]… Картина все же еще довольно печальная. Увы, теперешняя великая война требует от командиров частей большого (углубленного) знания тактики и высокой нравственно-педагогической подготовки.
Твои письма от 5 и 7.XI – два ярких контраста: первое резко тоскующее и второе резко веселящееся. В Каунпоре (Индия) есть статуя на месте массовой когда-то гибели англичан… Как всегда, ввиду бедности британцев статуя прислана откуда-то со стороны, чуть ли не президентом Соединен[ных] Штатов, изображает она ангела, у которого одна сторона лица суровая, а другая – улыбающаяся. При чтении твоих через день идущих писем, я вспомнил об этом двойном лике ангела. И вправду, детка, если срок писанья ты еще сократишь, то, переходя от грустного письма к веселому, ты не успеешь все лицо перевести на улыбку, и отставшая часть будет еще плакать в то время, как торопящаяся начнет уже хохотать… точь-в-точь, как у Каунпорской статуи. Но зато кое-что мне становится понятным: оказывается, причиной горя и веселья является все тот же супруг, в зависимости от того, как будет понято или что будет усмотрено в его письмах. Конечно, дело житейское, вероятно, это у многих так.
Письма сейчас приходят быстрее, чем раньше, письмо твое от 12.XI я получил, напр[имер], вчера, 17.XI, т. е. на пятый день, чего давно уже не было.
Вчера был на позиции своего полка и что-то не угодил противнику, который начал мое местопребывание осыпать артилл[ерийским] огнем во время моего возвращения назад. Шли мы с Митей, вспоминали старое и раздумывали о текущем. Мне только приходится удивляться теперь, как много офицеры в свое время рассуждали и как многое они упорно помнят. Мы живем, напр[имер], с Триневым, и он приводит мне на память даже мои отдельные фразы по телефону. Было и такое, что они подвергали критике, а раз даже осудили меня за то, что будто бы я осуждаю на верную смерть двух лучших своих ротных командиров – Чунихина и Писанского (это моих двух любимцев-то!). Это за дело 21 августа, когда они оба были ранены, причем Писанский довольно тяжело. И мне теперь крайне интересно задним числом выяснять мои задачи и цели, сбрасывая с них туман, которым они еще покрыты в глазах моих офицеров. Многое и мне становится при этих обсуждениях яснее. Напр[имер], дело 21 августа: я приказывал атаковать с рассветом (на чем и была построена возможность удачи), а они с рассветом выступили только с позиций и 2–3 версты до противника шли в открытую, почему врасплох его и не застали. Считал я, напр[имер], эту операцию справа обеспеченной целым батальоном соседнего полка, а он отстал от моих рот на целые полверсты, хотя мои офицеры (как и видно по дневнику Чунихина) лично ходили (как мною было приказано) к соседним офицерам и отчетливо обо всем с ними договорились. Конечно, все это дело с моей стороны было простой демонстрацией: не удалось, мы отошли, но если бы были выполнены два условия, могло бы получиться интересное дело. Митя вчера вспомнил, как я посылал его 18.VIII в бой, что сказал и как он себя чувствовал… Я употребил один прием, который в этом случае очень удался; тот же прием 8.III с Триневым, оказывается, его задел, хотя тоже дал результаты, но менее яркие.
Ты, моя золотая девочка, что-то слишком стала «жадна» до моих писем; в день, когда от меня их нет, ты обязательно об этом вспомянешь. На эту тему любит со мною поговорить Осип, который в этом случае держит нашу сторону и находит, что «барыне все мало». По его рассказу, он пишет тебе чуть ли не каждый день.
Сейчас у нас форменная зима: снегу много и мороз порядочный; позавчера к вечеру было что-то около 17° холоду; эти два дня начинает как будто отпускать. Я со своим адъютантом спорю; он говорит, что зима залегла, а я говорю, что все еще потечет… Мы живем втроем: я, Тринев и адъютант, и много спорим или скорее, рассуждаем. Тринев вырос на Дону, а учился в Константиновской станице (в 35 верстах от моей); и у нас с ним зацепок давно было много. Посещают нас очень многие, и разговоры не умолкают.
Напиши, золотая, как доволен своим делом папа и как во второй четверти идет Генюша; твоего письма с его баллами я так и не получил. Догадываюсь, что кроме русского и арифметики у него еще двойка по немецкому. Давай (Чеканов стоит над душою) головку и губки, а также наш выводок, я вас всех обниму, расцелую и благословлю.
Ваш отец и муж Андрей
21 ноября 1915 г.
Дорогая моя женушка!
Получил от тебя две открытки от 13 и 14 ноября… у тебя все благополучно, и вы веселы. Интересна Ейка с ее пробуждающимися инстинктами женщины-семьянки; мальчишки шли совсем иной дорогой, и тебе, я думаю, крайне интересно наблюдать женские чисто шажки нашей дочки, как она считает, складывая в кучу свои рубашонки, как она мылит голову и спину своему братишке и т. п. Это всё, действительно, характерно и интересно. И какое же тут равноправие или равенство полов? Можно говорить о преимуществе мужчины или преимуществе женщины, но надо молчать об их равенстве. Нашей дочке никто не указывал путей и дорог, но, как она ни мала, дорогу-то она намечает себе женскую и уверенно тупотит по ней своими ногами.
Я задумался над равноправием по причине наших долгих бесед по вечерам на разные темы. Тринев – большой философ, любит поговорить, а мой адъютант любит послушать… и в результате такой обстановки у нас целые дебаты по вечерам. В один-то из вечеров и был разговор о женщинах и равноправии. Мы с адъютантом против и за то, что женщине не дойти до мужчины, а Тринев – за равенство и даже преимущество женщин. Адъютант мой – бывший студент в течение 7–8 лет, много видел, много вынес и хорошо знает быт и существо студентов и студенток. Его некоторые вставки очень интересны и метки. Порою он восстает против одного из моих доводов, но чаще спорит с Вас[илием] Александ[ровичем] (Тринев). Между прочим, он нам рассказал такой случай из жизни студентов и студ[ен]ток. Поехали кататься на лодке три пары – трое муж[чин] и трое девиц, пристали к острову и там устроили пикник, который продолжался часа 3–4. Во время этого пикника дамы уединялись, чтобы «привести туалет в порядок», два студента тоже куда-то бегали, а один их товарищ из-за хлопот не успел поговорить с матерью-природой. После пикника поехали кататься, вновь потекли часы. И тут-то недогадливый товарищ начинает чувствовать нужду, которой подвержен ночью Генюша. Дальше – больше, он начинает чувствовать ломотью, холодный пот и головокружение. Ближайшая дама начинает догадываться, в чем дело, как медичка понимает, чем это пахнет, и говорит: «Мы отвернемся, а вы сделайте…» Следует переговор шепотом, студент конфузится и терпит еще около часу… Но тут на него нападает обалдение, и он, не предупредив, встает и начинает увеличивать содержимое Днепра. Следует паническое молчание, а затем… все вошло в колею. После, когда разошлись, то смех у группы мужчин и у группы женщин был гомерический, до колик. Рассказ адъютанта был тем более забавен, что он привел его вслед за какой-то высокой и очень жарко оспариваемой темой.
Судя по твоим письмам, ты после продолжительной размолвки стала ездить к Лиде очень часто: была 8 ноября (воскр[есенье]) и затем 14-го – в ближайшую субботу. Я одного боюсь, что дорога – длинная, а весело там провести время ты не сумеешь и в результате сильно себя утомишь. Саша – человек скучный, а Лида интересна до 1–2 свиданий с нею… благо бы они жили недалеко. Я помню, когда мы были вместе у папы, я чувствовал себя всегда скучным и одиноким с момента появления этой пары на сцене и старался или вызвать Сашу на игру, или начинал поддразнивать Лиду. Они люди хорошие и гостеприимные, но они однобоки, скучны, и тон их семейной жизни мещански узок, мелочен и нервен. Когда я жил у Афанасьевны в Ниж[не]-Чирской [станице], в ее же доме жил с женою какой-то мелкий чиновник. Мне было лет 10–11. Днем они – после его прихода со службы – и целовались, и бранились, а ночью, едва я успевал закрыть глаза, как они – в одних рубашках – начинали бегать друг за другом, причем у него или нее нередко в руках был нож. Я забивался под одеяло и дрожал, как в лихорадке, пока не наступало затишье. По счастью для меня, пара скоро была прогнана. Не знаю, по какой ассоциации, но эту далекую пару, столь волновавшую мои детские нервы, очень часто напоминают мне Саша с Лидой. Если не забудешь, черкни мне, как ты проводишь у них время.
Это письмо я не пошлю тебе ни сегодня, ни – едва ли – завтра, так как почтарей все почему-то нет. Я сел сегодня писать, потому что 21 ноября и моя мысль тонет в прошлом. Уж это мое прошлое! Нет большего раба, нет более горячего поклонника, как я, пред тенями и властью минувшего. Налетит оно, захлестнет, и мое суровое сердце становится мягким, как череп новорожденного ребенка.
Это позднее утро, залитое солнцем, осенняя свежесть, уже прогреваемая лучами солнца, и ты, моя тоненькая, светло-голубенькая рыбка, озадаченная и натревоженная… как мне все это памятно! Как это было чудно, многообещающе, как кругом было царственно хорошо и бодро! Помню и мое стояние у дверей балкона, с уставленным в стекло лбом, и твою уборку волос, которая тянулась вечность, и растерянные глаза мамы, которая что-то почуяла… Многое забыто, но этот момент дня мне памятен до тонкостей… И ты, лучезарная, освещенная солнцем, взволнованная… стоишь пред моими глазами в далеком домике, отнесенном от тебя на тысячи верст… Давай губки… я тебя расцелую. Спокойной ночи, ложусь спать. А[ндрей].
23 ноября. Пропустил день… был в окопах и пришлось в нек[оторых] местах идти по колено, сейчас наступила оттепель, а на обратном пути даже по пояс в воде. В пути вперед должен был в халупе батал[ьонного] командира просушиваться часа 2–3, иначе не надел бы сапог, а на обратном пути вновь весь промок, снял сапоги и в одних чулках, завернувшись в солдатскую шинель, доехал домой… благо, что лошадей подали до начала окопов. У себя все снял, растер ноги и… нет даже насморка. И думал я, чего только нам не приходится видеть на войне? Дома – в мирное время – от такой зимней ванны два раза пошел бы на тот свет, а здесь как с гуся вода.
Получил твое письмо от 12.XI, где-то оно блуждало. Из него начинаю несколько понимать те перипетии, которые вынесло мое генеральство. По-видимому, мое первое представление продолжает чинить мне всякие препоны. Как может иногда много повредить не вовремя совершенный подвиг! Не сверши я его – и был бы уже месяцев 6–7 генералом. В будущем мой случай можно приводить как загадку!
Твое письмо от 12.XI ласковое, теплое и мечтательное. Я тоже вспоминал прошлое, когда писал тебе, но, кажется, вспоминал другое. Говорят, нехорошо, когда человек начинает слишком поворачивать голову к минувшим дням, хотя в нашем случае это естественно… наша общая жизнь идет теперь отвлеченным более темпом, не заполняя наших душ ежеминутным общением; отсюда рождается потребность вызыванием старых образов заполнить ту пустоту, которую делают тысячи верст расстояния, лежащих между нами. Относительно моего бригадирства получил новые данные, которые могут его изменить в другую сторону. Это меня интересует мало, раз я буду генералом.
Об Антипине я тебя не понял. Он ушел бригадным… ясно; командовал дивизией… понятно, но как он стал начальником Гвардейского корпуса? У нас есть командиры корпусов, а для этого надо быть по крайней мере генер[ал]-лейтенантом, а иногда и полным генералом.
Бросал писать. Сегодня толпятся у нас офицеры, вспоминаем старое, смеемся и задумываемся. Это письмо посылаю завтра, а затем передам другое Н. П. Кондакову, который скоро выедет в Петроград.
Был сейчас Черкасов, мой товарищ по Академии и командир полка. Разболтались мы с ним без конца… удивительно, как мы все, русские люди, наталкиваемся на одни и те же выводы и являемся носителями одних и тех же впечатлений.
Я не имею от тебя свежих писем дня 2–3 и утешаюсь тем, что получу сразу целую кипу, раскрою их, расположу по числам… и начну читать. Осип, прочитав твое письмо от 12.XI, сказал медленным тоном: «Письмо хорошее». С чем, моя славная, тебя и поздравляю, так как мнение сего цензора не всегда благоприятно.
Давай мордочку, губки, глазки и наш выводок, я вас всех обниму, расцелую и благословлю.
Ваш отец и муж Андрей.
Целуй папу, маму, Лелю.
26 ноября 1915 г.
Женушка моя, мое ясное солнышко!
Решил тебе писать, не ожидая от тебя пока писем, которые где-то застревают. От Кортацци получил телеграмму, что мое представление в генералы пошло в Петро[град] 22 ноября за № 51501. Могу только сказать: наконец-то. У вас оно, вероятно, будет 25–26 ноября, и теперь вопрос только в том, сколько времени оно удосужится пролежать еще там.
Только что кончил небольшую повесть Франсуа Коппе «Henriette» и нахожусь еще под впечатлением прочитанного. Манера немножко старая, грустно-сентиментальная, но дивный язык, артистическое развитие темы и отчеканка некоторых типов (полк[овник] де Voris)… В результате твой муж растрогался и заходил по комнате. Есть факты, очень тонко придуманные. Молодой человек умирает, и на его гроб носят цветы мать и его любовница (простая швея), первая – дорогие, вторая – за 2 су, сезонные. Мать и в этом задета, но цветы не выбрасывает (как хотела). В одно воскресенье цветов в 2 су нет, и мать, полагая, что сын забыт, соглашается выйти замуж за старого поклонника… Оказывается, девушка заболела и пред смертью пишет матери письмо… Все это страшно красиво, изящно и грустно; рисунки поразительно дополняют текст и усиливают подтолкнутое им настроение. И все же найди Джека Лондона «Белый клык»… издание – желтенькие книги (Акц[ионерное] об[ще]ство Универсальная библиотека, Москва). Это тебе доставит большое удовольствие, да и Генюша прочтет это с наслаждением. Описывается собака-волк, ее история со дня рождения и ее мытарства у индийцев и европейцев. Ты, как собачница, придешь в восторг от этой книги. Я тебе писал уже про Викторию и Пана (особенно это) Кнута Гамсуна, а ты мне отписала, что их не могла найти… желтенькое издание-то? В Петрограде? Тебя просто надули.
Получил, детка, твое письмо от 9 ноября, это какие-то поскребушки после писем 14, 13 и 12 ноября. Письмо это меня смутило. Оно такое же жизнерадостное, как и от 7.XI. Что-то я тебе написал такое, чем ты страшно довольна. Я старательно копался в своей памяти, стараясь вспомнить, но тщетно. По-видимому, я открылся с какой-то стороны, с которой долго и упорно закрывался… или это просто вышел случай, не более. Ты не забудь, милая, объяснить мне, что это я тебе написал.
Сегодня был в своем полку, произносил речь, а потом завтракал с офицерами… приходится твоему супругу применять свое влияние и уменье, чтобы сводить к хорошему ошибки других. По своим речам заметил, насколько за это время подкрепли мои нервы. А в каком они были состоянии после 24.VIII. Завтра буду писать другое письмо… буду посылать маленькие, но чаще.
Давай, золотая, твои губки и глазки, а также наш выводок, я вас обниму, расцелую и благословлю.
Ваш отец и муж Андрей.
28 ноября 1915 г.
Дорогая моя женушка!
Писем от тебя пока нет, зато надеюсь скоро получить их целую кипу. У нас сейчас стоит большая слякоть, и она, вероятно, виновна в почтовой задержке. Сейчас в моем чтении настала французская пора: у одного из полковых священников нашлись французские книги и притом очень хорошего подбора: Коппе, Фламмарион и т. п. Я наслаждаюсь ими, упиваясь их дивным языком и хорошим, часто – как у Фламмариона – глубоким замыслом. Меня удивляет, как наши книгоиздательства до сих пор не пришли на мысль создать коллекцию книг для офицерского и солдатского чтения и не направили таковые на позиции. Нам политики не нужно, не нужно каких-либо научных мудрствований, но собрание классиков писателей и мировых научных трудов может дать офицерам неисчислимый источник для наслаждений и саморазвития. Время для чтения всегда найдется, хотя окопные халупы и не блещут удобствами.
Ведь присылались и платье, и обувь, и сласти, и разные предметы обихода… в этом смысле догадались, почему же забыли о книгах? Командиры частей не постояли бы и за деньгами. Желтые книжонки, правда, в большом ходу, но подбор в них чисто торговый, ходовой, а офицеры не прочь бы и подучиться, ознакомиться с теми или иными представителями науки. В этом отношении приходится наблюдать интересные явления. Один, напр[имер], прапорщик артиллерии, студент университета, готовится здесь к последнему зачету и в один свой отъезд в Россию выдержал 3 или 4 экзамена; говорит, ему осталось только 2 предмета. Полковые врачи (а в одном случае с ними и полковой батюшка) изучают английский язык и всё собираются посетить меня, чтобы справиться, правильно ли они читают. Один офицер изучает французский язык по разорванным книжкам из одной польской библиотеки и т. п. На мой взгляд, это очень важное и поучительное явление. Прежде всего, мы все-таки порядочные дикари, и учиться нам не мешает, хотя бы это выпало на время войны, а затем – чтение вообще и отвлечение человека умными вещами дает отдых нервам, поддерживает нервную систему, которая несет теперь столь большое испытание. Удивительно, как мало мы задумываемся над этой стороной дела! Оттого ли, что мы в военном деле все еще смотрим из-под немцев и их старинной бездушной муштры, по другим ли, мне неясным причинам, но эта сторона почти не затронута… А еще «Вильгельм проклятый» так открыто поставил тезис: «Посмотрим, чьи нервы выдержат…» «Нервы», это прежде всего.
У нас 3–4 дня тому назад снег весь сошел и настала слякоть, которую ты хорошо знаешь по Каменцу или, еще лучше, по Кам-Ларгинской дороге, с ее рядом брошенных повозок и страшным количеством лошадиных трупов. Кстати, о Ларге. Она теперь заглохла, никого там нет; ее буфетчиков я вижу перекочевавшими на новые станции, одни – на Здолбуново, другие – на Шепетовку… побежали как крысы с погибающего корабля. И Каменец попутно приходит мне в голову, и я не знаю, как вспоминать его. Были там люди хорошие, там родилась наша дочка… и, пожалуй, все. Отними это, и останется он не более как случайный этап или ступень на пути офицера Ген. штаба.
Я чувствую, как мне не достает твоих писем, из которых ближайшее было от 14.XI, т. е. двухнедельный срок пролетел, неосвещенный твоим пером, непереданный мне под углом твоих настроений, тобою пережитого… А тут еще такой скачок в твоем настроении от подавленного самочувствия до приподнятого скачущего, и я не сумел его уловить.
Посылаю тебе снимки: два – я на Орле, а группа – я, в качестве Листа или Рубинштейна (играю получше), слева Мамайлов (прап[орщик]), справа еле видный Кременчутский и еще правее – мой адъютант… У нас есть пианино, и я иногда поигрываю. Вчера были у нас офицеры, и вышло что-то вроде вечеринки… Позвали гармониста с одним скрипачом и танцора… Этот в мирное время был в балете танцором и пляшет замечательно, может, что угодно. Плясал Киквок, Ки-ка-пу какую-то, что-то аргентинское, негритянское и т. д.
Давай, ненаглядная цыпка, мордочку и губки, а также наших малых, я вас всех обниму, расцелую и благословлю.
Ваш отец и муж Андрей.
Напиши брату Паше, что ему кланяется его друг и сожитель по гимназии Гаврилов, который теперь старшим врачом в 136-м полку… Говорил с ним; вспоминает, как жили они вместе, как Паня играл на велиончели, раскрывая рот, и т. п.
5 декабря 1915 г.
Дорогая моя ненаглядная женушка!
Завтра или послезавтра кто-либо поедет (чуть ли не Назаренко, в Петроград), и я буду писать тебе понемногу, накапливая материал. Только что приехал с праздника 134-го Феодосийского полка – второго полка моей бригады, где среди других и я говорил мое слово… Заволновал, заколыхал слушателей и заставил о моих словах долго еще шептаться, после того как замолкли обычные «ура». Говорил на тему о терпении и о том, кто умеет терпеть, о солдате, говорил, что я как сын великой страны не только верую в конечный военный успех наш над швабами, а верую в дальнейший успех нашей русской культуры над немецкой… тут твой муж занесся и заволновался… Моя аудитория, занесенная судьбою войны в скромный с соломенными стенами земляной барак, слушала меня, затаив дыхание… Это была картина интересная, оригинальная и трогательная. Чувствовалось, что, сидя долгие дни в окопах, офицеры изголодались по теплому ободривающему слову. Говорилось поэтому от сердца, с приподнятым колыханием нервов… Выехал в темноте, Орел, подзамерзший, фыркал, водил ушами и прыгал, как бес, пока тяжелая дорога не возвратила ему разум…
Между прочим, говорил речь и батюшка (о[тец] Лев… очень хороший)… в честь сестер милосердия, о женщине… Среди истор[ических] примеров он привел такой: во время войны красавица графиня Потоцкая на балу стала плясать с одним страстно влюбленным в нее офицером… вдруг она прерывает танец и, обратившись к озадаченному кавалеру, говорит: «Я с Вами окончу танец, но тогда, когда Вы вернетесь победителем…» Это мне очень понравилось и передано было батюшкой очень художественно.
Возвратившись, узнал, что из плена бежал стар[ший] унт[ер]-офицер Ургачев (это третий по счету); это была моя слабость, и его возвращение преисполнило мое сердце большой радостью. Нет лучшего доказательства прочности полка, как возврат из плена этих орлов в свое гнездо. Ведь сколько они должны при этом вынести, выстрадать, и каково должно быть в них тяготение к полку, и какое должно быть в душе горделивое чувство свободы… Я страшно, страшно доволен. Завтра или позднее увижу Ургачева и крепко расцелую… Пока, спокойной ночи, моя золотая. А.
6 декабря. Дорогая женушка!
Это письмо заканчиваю, так как едет сейчас одна оказия из 134-го полка. Сегодня же буду продолжать письмо, чтобы отправить с другим посыльным.
Давай глазки и наших малых, я вас всех обниму, расцелую и благословлю.
Ваш отец и муж Андрей.
7 декабря 1915 г.
Дорогая моя Женюра!
Едет посыльный в Екатеринослав и на дороге опустит это письмо. Очень боюсь, что ты начинаешь нервничать, не получая от меня писем. Я пишу по обыкновению, и если они застревают в дороге, то по причине, женушка, от меня независящей. Я сейчас свои работы и впечатления получаю с двух сторон – или посещу один из полков, что берет почти столь короткий теперь день, или читаю книги… Источников для получения у меня теперь – два полка, и в книгах недостатка не бывает. Только что прочитал две книги – «Без вины виноватые» и «Две жизни» Фонвизина, не особенно старого великосветского писателя, которого особенно чтит гвардия. Он живописует страдания и радости богатых людей, с доходами не менее 30–40 т[ыcяч]. Жизнь таких поневоле глупа, скучна и своекорыстна, страсти животно узки, кругозор томительно однообразный. Две книги – общим числом в 500–600 страниц – я пробежал чуть ли не в один день. Написано чистенько, складно… и только. Смерть или попытка на самоубийство слегка колеблют монотонную поверхность рассказа.
Вчера у нас была вечеринка (накануне, как я писал тебе, обед в 134-м), прошло живо и весело, был начал[ьник] дивизии… Я говорил – раз официально, а когда уехало начальство и молодежь попросила меня еще сказать что-либо, то я сказал уже интимно и прочувствовано. Дело в том, что начинают один за другим урываться из плена люди моего полка, два дня тому назад ст[арший] унт[ер]-оф[ицер] Ургачев, о потере которого я много горевал. И вот на эту-то тему – слетаются в гнездо орлы – я и заговорил. Я провел мысль, что есть много признаков, характеризующих воинскую часть с положительной стороны, но все они условны и чисто фиктивны, но когда люди летят в полк сквозь ужасы и холодный расчет немецкого плена, рискуя на 90 %, и умеют пробиться, то, несомненно, такие люди носят в сердце и крепкую любовь к своему гнезду, и горделивое чувство свободы… А подобное стремление к своей части лучше всего и ярче всего и рисует эту самую часть. А потом разошлись еще многие и остались со мной коренники – Тринев, Кременчуцкий, Волнянский и Колумбов – мы просидели еще четыре часа то в мирной, то в горячей беседе; я задним числом кое-что подсообразил, что в свое время было мне неясно. Как и всюду, как и всегда, рядом с делом шло безделие, пересуды и интриги; за моими шагами следили и расценивали их очень требовательно, а подчас и придирчиво. Тактика – вещь определенная, и ее в общих тонах преподают одинаково, но ту тактику, которой я держался, – а я держался, конечно, той, какой и другие, разделяли редко, называли ее субъективной, зубоскалили и хотели обесценить, хотя кроме победы она полку ничего не давала, а людям хранила сверх того покой, здоровье и теплый уют. В этом мы оказались согласны все пятеро, хотя в словах моих собеседников проглядывала мысль о моей гордости и одинокости, которые мне, по-видимому, довольно вредили в глазах начальства и равных товарищей… Во всяком случае, многое мне стало яснее, а выяснять – хотя и прошлое – всегда не поздно.
Писем твоих все нет, и мне без них страшно скучно… у меня впечатление такое, как будто тебя на время у меня взяли и унесли куда-то, и мои мысли уныло и беспомощно бродят кругом и ищут тебя… Где ты, какая ты, смеешься или плачешь? Уже привыкаешь к тому, что между нами лежат пространства, что нет тебя возле меня, нет твоей улыбки или теплого всегда чуть-чуть нервного поцелуя… но белая бумага научила пока переносить все это, неся на своих строках родные картины… Но теперь нет и этих строк, и вы отошли еще дальше. Последние твои письма пришли с Масловым, но они почему-то старее присланных газет и написаны кратко… очевидно, тебе было некогда, и ты, надеясь написать вскоре, не использовала этот одинокий случай. Ни вещей, ехавших с Масловым, ни таковых же, ехавших с Назаренко, мы не получили, да и когда еще получим. Поэтому и о новых подарках пока не думай, подожди, когда будет больше шансов на их пропуск. Давай, родная, твою мордашку и глазки, а также малых наших, я вас всех обниму, расцелую и благословлю.
Ваш отец и муж Андрей.
10 декабря 1915 г. Ст. Алексинец.
Дорогая моя и ненаглядная женушка!
Письмо это посылаю с твоим любимцем Назаренко, который едет в Петроград. Писал я тебе аккуратно и посылал то с оказиями, то по почте, но получила ли ты что и сколько получила, сказать не могу. Сам я от тебя имею последнее письмо от 19.XI, которое привез мне Маслов, т. е. почти без малого месяц, как я от тебя не имею вестей. Положим, я знаю причину, и это меня успокаивает, но ты ведь можешь ее и не знать. Дело в том, что с последней трети ноября было прекращено у нас, по распоряжению начальства, всякое сношение – посылочное, письменное и телеграфное – с Россией, запрещены всякие отпуска и командировки, и все это продолжалось до последних дней. Теперь от вас мы скоро начнем получать, но вы от нас еще подождете. Ввиду того что в будущем нечто подобное вновь может возобновиться, ты наведи справки у Грундштрема, и это тебя успокоит. Живу я в Ст. Алексинце, за срединой позиций моих полков, и правлю ими. Дня через два посещаю то один, то другой.
6 декабря состоялось производство в генералы полк[овника] Черкасова, а мое – хотя представления наши пошли одновременно – до сих пор где-то лежит. И выходит, что кроме Владимира 3-й степени (который до сих пор мне не выслан) все остальные награды (мое Георг[иевское] оружие возвращалось в штаб для пересоставления) мои блуждают, топчутся и ноют, как и их возможный властитель – по целым месяцам. Когда вчера телеграмма уведомила Черкасова, а меня нет, то даже и другие, которые знают о мытарстве моего Георгия, генеральства, ген[еральских] лент, всплеснули руками…
Мое положение сейчас легкое и удобное, как и всякое вообще генеральство: сам себе задаю работу и выполняю ее, как считаю полезнее. Так как днем теперь не сплю, то времени у меня выкраивается много и я много читаю. Судя по заметкам в дневнике, мною за это время прочитано более 40 книг.
У нас в Генер[альном] штабе теперь неприятная новость: ввиду недостачи в офицерах Ген. штаба, генералы и полковники Ген. шт[аба], командующие бригадами и полками, будут возвращаться на штабы дивизий, а значит, меня ожидает очень скромное удовольствие вновь получить штаб дивизии, а затем штаб корпуса… т. е. в ближайшем будущем придется впрягаться в штабное ярмо, впредь до очень далекого шанса получить дивизию. Это так неприятно, что многие из нас глубоко задумываются, как бы избежать этой доли. В этом случае для меня получить теперь что-либо в Петрограде или даже где-либо еще было бы очень приятно. Быть начальником штаба у ген[ерала] Павлова – это значило быть постоянно в строю и в бою, но засесть на такую роль в какой-либо пехотной дивизии, это хуже всякого обозного тыла: скучно, вяло, вне боя и монотонно, особенно при сложившемся теперь типе войны и боя. Я не думаю, что все мои проекты в Петрограде безнадежно лопнули… теперь какие-то школы заводят. И это лучше, чем вернуться к штабу пехот[ной] дивизии. Сейчас только что заворачивал Митя Слоновский и вспоминал 6 декабря, когда очень многие сильно клюкнули… потом, оказывается, они катались чуть ни вплоть до позиции противника.
С Назаренко я посылаю тебе еще один том Мережковского, самый главный. Мне для зимы ничего не надо, так как умею одеться очень тепло, а солдатская шинель так мне нравится, что я с удовольствием хожу в ней. Трофим говорит, что у меня не хватает теплых чулков; пожалуй, пары три будут не лишними. А больше мне ничего не надо. Я все думаю, что вот-вот меня куда-либо потянут, и смотрю на себя здесь как на гостя. И в 134-м полку ко мне страшно привыкли, и мой приход к ним в окопы вызывает обычное оживление… про свой и говорить нечего. Я тебе писал, что в начале декабря был ранен в руку, кажется, с небольшим раздроблением кости, В. И. Собакарев; лечение протянется не менее трех месяцев. Рана легкая, и молодые товарищи считают его счастливчиком. В момент ранения этот «счастливчик» все же пролежал в обмороке полтора часа.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?