Текст книги "След Кенгуру"
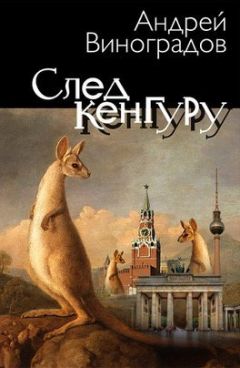
Автор книги: Андрей Виноградов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 46 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]
И стояла она, где и сейчас
И стояла она там, где и сейчас, наверное, стоит – почти напротив суворовского училища, если оно никуда не переехало, на берегу мелководной речки Тьмаки, хищно тянущей к Волге вонючие мазутные щупальца совершенно невообразимых расцветок. Всего в полукилометре от Волги вверх по течению вороватая и скрытная Тьмака приютила добрых пару сотен простеньких дюралевых лодок с подвесными моторами. Они-то и пускали разноцветные сонные слюни на беззащитную водную гладь. Антон с товарищем как-то попытались поджечь мазутные пятна, но ничего не вышло. Возможно, школа нынче уже гордо именует себя гимназией или даже колледжем. Мой внук, когда маленьким был, говорил, что в гимназиях распевают гимны, а в колледжах всем ставят колы.
Кстати, о поджогах жидкостей. Однажды на отдыхе в Гагре я вот также попытался поджечь купленную на местном базаре чачу. Сподобился у какого-то грека приобрести. Скорее всего, грек был понтийским, потому как с «понтами» у него все было в порядке, иначе я бы так легко не купился. Ну и на цену позарился – что правда, то правда, пожадничал. Короток и ценим был рубль отдыхающего младшего офицера. Результат вышел совершенно несостоятельным, но чачу мы с сослуживцами, тем не менее, выхлебали. Не горела, зараза мутная, коробок спичек почти весь извели… Но, что удивительно, крепкой была такой! Почти спирт. Один в один, как та, что грек пробовать нам давал, только та горела. Полыхнула голубым пламенем с первого раза, хоть в зажигалки заправляй.
Ужас вступил в свои права утром и воспользовался ими цинично, бесцеремонно, зло и. негигиенично. Это я о головной боли и всех сопутствующих недомоганиях, а туалет, между прочим, на этаже, в торце, и до него было бежать и бежать, не говоря о том, что мы не одни в гостинице, Если оккупированное военными медиками заведение в принципе могло носить этот гордый титул.
Напиток оказался настойкой на курином помете. Говно говном, казалось бы, но на вкус пойло выходит крепче крепкого. Старый трюк. Еще бы знать, как на него не попасться, распознать уж если не состав выпивки, то хотя бы жульническое нутро деляги. Куда уж нам. Прокололись. Администратор гостиницы, спасибо доброй женщине, просветила на будущее, подсказала адресок по соседству, где раздобыть нормальной чачи – здоровье поправить. Будущее оказалось не за горами, намного ближе и наступило через десять минут. Пять из них ушло на жребий, кому начинать, стаканы-то не захватили. Выпало мне, и я еще раз возблагодарил администратора и провидение.
Предыдущий-то вечер, однако, несмотря ни на что – и не горела, и с говнецом – все равно задался! Еще как задался! Нам потом соседи по этажу в лицах события пересказывали, а собственные их лица сочились при этом неодобрением, а кое у кого и негодованием. Думал, что если три четверти наплели, дабы напугать в отместку за ночь с затеями, все равно: «прощай, партбилет, погоны, карьера, до свиданья, друзья мои, медики!» Впереди маячила хлипкая ставка уездного фельдшера, раны рубленные от топоров и аборты по-тихому за сало и яйца. Как о неизбежном думал. Обошлось, на удивление. И от отравы, опять же, не передохли, что тоже случается не каждый день. Еще одна странность. В нашу гагринскую кампанию военврачей – хирургов и ортопедов затесался химик-гомеопат из Сибири. Химик-гомеопат, по моему разумению, это как евнух-любовник, но тот пояснил, что химик – это в кавычках, прозвище, школьное увлечение. Вроде мечтал «альму-матер» взорвать к чертям собачьим, но серы, соскобленной с содержимого десяти коробков, и смешанной с чем-то (я даже не пытался запомнить) хватило только на то, чтобы сжечь брови и запалить чуб. Говенное пойло он расхваливал громче всех, я как-то непроизвольно на него сориентировался: профи все-таки, где гомеопат, там и фармацевт, химик опять же, хотя по всему выходило, что скорей уж сапер. Утром смотрю на него опухшим взглядом, а он, собака такая, аж лоснится от удовольствия, живой укор. И от похмелки не отказался, за троих принял. С того дня нет у меня доверия к этим шаманам с магическим шаром в кармане: «Попробуйте это снадобье, попробуйте то. Всем до вас помогло, никто назад не пришел жаловаться.» Наверное, большинство хирургов к гомеопатам так относятся, особенно те, что практикуют в травме.
…А мазут на воде – субстанция крайне бесполезная, ни к чему толковому не применимая. Никчемная, одним словом, в прикладном смысле, но рассматривать постоянно меняющуюся цветовую гамму можно часами. Завораживающее, доложу вам, зрелище. И думается во время таких наблюдений прекрасно – неторопливо и ни о чем. Мечта, а не времяпрепровождение. Уверен, что и суворовцы были бы рады отдаться ему в увольнениях, да вот незадача.
Школьники лютовали
Школьники лютовали. Соревновались, кто больше других «срубит» черных фуражек с красным околышем. Состязательность вообще была в то время в почете, чего только мы ни собирали, соревнуясь между собой: металлолом, макулатуру, листья по осени, зимой – снег. Нетронутой оставалась, пожалуй, только дождевая вода. Но одно дело – действовать по принуждению, по команде, под присмотром учителей, и совсем другое – когда сами придумали, забавы ради. Никаких стенгазет, грамот в «красных уголках», все исключительно ради удовольствия. Как деньги на мороженное откладывать со школьных завтраков, я их, завтраки, помню еще по десять копеек, потом по пятнадцать. А мороженное – по семь копеек. Кажется, даже за четыре было. Или мы с товарищем вскладчину брали за семь, одно на двоих? Раз я помню про четыре, значит он обычно давал только три. Вот же жмот! Почему у великих не хватает ума сделать удовольствия олимпийским видом спорта? Валяешься себе на пьедестале важно и в то же время в неге под гимн отечества. Еще было бы здорово получать награды и надбавки за хорошую память на пустяки.
Обе стороны ждали воскресений. Порознь, разумеется, и совершенно по-разному. Школьники предвкушали триумф и добычу, суворовцы же пребывали в тоске и во власти пораженческих настроений. Плохо, угнетенно чувствовали себя суворовцы. Всю неделю они придумывали, как бы увильнуть от увольнения в город, дабы избежать постыдного возвращения в расположение училища мало что битым, так еще и в неполной форме. Суворовское училище, не надо иллюзий, было армией, пусть и с малозаметными поблажками, во всяком случае, они не касались формы. Проступок такого масштаба срывал лавину административных и воспитательных мер – от мучительных допзанятий по строевой и физподготовке до позорных карикатур в стенгазете. Карикатуры в большинстве своем были дурацкими и неумелыми, персонажи неузнаваемыми, поэтому их подписывали фамилиями проштрафившихся.
– Похоже любой дурак нарисует, а в нашем деле что самое главное? Правильно: заставить задуматься. В этом смысл, – обучал Антона основам пропагандистского мастерства и, не исключено, конспирации редактировавший стенгазету тощий и близорукий журналист-недоучка, солдат срочной службы, прикомандированный к училищу для самых разнообразных нужд. А возможно, просто сосланный сюда за неуместностью в боеспособных частях. Вызывавшие несварение карикатуры были делом его рук.
Антон с ужасом отмечал беспросветность происходящего. Он делился с товарищами худшими опасениями, и те искренне и очень эмоционально их разделяли. Так по училищу поползли тревожные слухи, будто в недалеком будущем его расформируют как стыд и позор всех вооруженных сил, больше того – страны. Неприятности были поставлены на конвейер, и он двигался, неутомимый, как эскалатор с метро, и все в одну сторону – вниз.
Бесспорным преимуществом пострадавших в драках со школьниками и лишившихся форменных головных уборов был запрет на увольнение в следующий выходной, а то и на два вперед, но такое счастье привалило лишь одному из соратников Антона Кирсанова, он еще и ремень в драке потерял. Об остальных заботливое начальство мудро подумало: «Пусть привыкают. Жизнь долгая и жить ее, хошь не хошь, а придется среди людей».
Отмена увольнений в город была тайной мечтой всех, или почти всех. Чувствительное к настроениям подчиненных начальство злонамеренно ослабило удила, только что не попустительствовало нарушителям распорядка дня и всех прочих распорядков, ибо жизнь суворовская «распорядочена» до невозможности. Только совсем уже отпетые разгильдяи, «жопы, а не суворовцы» могли рассчитывать остаться на территории – и тут уж не чурались любой работы, радовались ей, как никогда раньше – ну и те, разумеется, кому выпал к десятке туз – служба. Дневальным, дежурным завидовали больше всех. Воздух до невиданной доселе плотности насыщался вопросами «Почему не я?», а отмеченные счастливым жребием тщетно скрывали радость, повязки на их рукавах семафорили ярко-красным: «Я избранный!»
Антон Кирсанов, к слову сказать, лишился фуражки одним из первых, ухо надорвали как раз ему, и закончись вся история на одном-двух инцидентах, уже бы забыл о неудаче, окончательно и бесповоротно, чего о ней помнить. Но каждый выходной оборачивался новым напоминанием и о травме, и об утрате и, конечно же, о нагоняе, что схлопотал от начальства со всем присущим начальству размахом и основательностью.
Первой тройке «бесфуражечников», в самом деле, сильно досталось. Не привыкли еще наставники-командиры к таким новостям, не притерпелись, вот и посетила их непреодолимая нужда высказаться. Выражений офицеры не выбирали, насчет жизненных перспектив страдальцев ничего скрывать не пытались, живописали, что называется, от души. Над всеми последовавшими за Антоном со товарищи жертвами начальство училища также учиняло расправы немилосердные, не сдерживая себя в словах, но такого запала, как в первый раз, уже не было. Впрочем, суворовца Кирсанова, ухо которого зажило быстрее душевной раны, отчасти утешило, что в принципе вниманием не обошли никого, всяк свое получил. Так, несмотря на кажущуюся обреченность попыток решительно отмахнуться от дурных и тревожных мыслей, гнать их от себя куда подальше, переживания Антона не избежали влияния времени и чужих бед. Они потускнели и утратили изначальную рельефность и остроту. К моменту, когда отъём «городскими» фуражек стал чем-то сродни эпидемии, а начальственный гнев привычным, знакомым в деталях, Антон уже примерял на себя роль «гуру» в стане новичков, по-первости сильно переживавших от происходящего. Бывалый боец, ветеран сражений со школярами, он выслушивал их истории с неизменной гримасой скуки на лице: «Вы мне, что ли, будете рассказывать? Да с моего кепаря вся заваруха и началась! И вообще я забыл больше, чем вы за жизнь выучили».
Антон матерел, а бесчинства школьников все продолжались. В суворовском календаре по-прежнему не было дня ненавистнее, чем воскресенье. Мальчишек в отутюженной форме подлавливали на аллеях городского сада, затаскивали в кусты и за деревья на набережной, в узкие подворотни старого мещанского центра. Били толпой, на самом деле не сильно, больше было животного страха и крови из неопасных для жизни мест. Нападавших интересовала только добыча – фуражки, за них и плющили суворовские носы. Надо заметить, многим из обреченных на увольнение все же удавалось вернуться в училище без потерь – кто-то на глаза шпане не попался, отсиделся в ближайшей кондитерской на подоконнике, завистливо косясь на эклеры с картошками и ром-бабами, хотя только что употребил на такие же всю без остатка заначку. Военная форма самым причудливым образом влияет на аппетит, растяжимость желудка и толкование слова «впрок». Как-то так годами позже они лейтенантами и старлеями будут сиживать компаниями на казенно прибранных кухнях: «Кто знает, когда в следующий раз соберемся, давай откупоривай еще одну, чё тянуть.» Другие суворовцы отбивались от школьников, отчаянные и везучие тоже.
Через пару месяцев, когда лавина постоянного восполнения утраченных головных уборов и замены не подлежащей ремонту одежды уже вот-вот могла окончательно похоронить под собой каптенармуса и всех его посредственных и непосредственных начальников, кому-то из их подопечных пришла в голову богатая идея применить принципиально новую тактику: в случае неизбежного столкновения все фуражки следовало сбрасывать в одну кучу, а охранять ее было предписано самому крепкому парню в кампании. Причем оберегать вверенное имущество следовало, не ввязываясь в основное действо. Первая же отправившаяся в увольнение группа одним махом лишилась всех своих пяти фуражек. Пяти разом! Такого еще не бывало. И, что особенно любопытно, никого при этом не побили. Возникшие было в училище подозрения в адрес так нереально «удачливо» пострадавших – в трусости, если вообще не в предательстве суворовского братства. – оказались совершенно несостоятельны.
Незначительное уточнение по поводу каптенармуса. Каптенармусов с пятьдесят девятого года в армии уже не было. Они, само собой, никуда не исчезли, просто называться стали как-то по-другому. А вот как именно – не могу припомнить, и все тут! Но уж точно не цейхгаузными смотрителями. Такое бы я нипочем не забыл.
Школьники, как и суворовцы, тоже были не чужды тактическим изыскам, и вознамерились прищучить противника в парковой аллее двумя группами: одной – в лоб, другой – из засады. В том месте, где хоронился «засадный полк», суворовцы, изощренного коварства не ведавшие, и побросали фуражки, запоздало отрядив вслед за ними здоровяка из своих. Разумеется, стоило головным уборам приземлиться – и всякая нужда в охранении уже отпала. Добыча, ссыпавшаяся на засаду в прямом смысле непосредственно с неба, лишила смысла и запланированное рукоприкладство. Здоровяк, тем не менее, попытался с разбегу взять кусты нехилым телом, и они-таки поддались его напору, но момент был упущен, а об инициативе и говорить не приходилось. Стоявшие поодаль на аллее школьники, осознав, что их друзья-разбойники, как и желанный трофей, в безопасности, на удивление дружно пожали плечами. Будто специально для таких случаев репетировали. Возможно, так оно на самом деле и было. Помню, мальчишками мы тренировались одновременно стряхивать пепел с раскуренных папирос легким, но выразительным касанием указательным пальцем картонного мундштука, а также отправлять их, докуренные до самой горечи, в крапиву синхронно исполненным изящным щелчком. Вслед за этим сморкались одновременно, зажимая по очереди одну ноздрю, другую. Господи, сколько дури! Причем никому, кроме самих себя, продемонстрировать аттракцион удивительной слаженности так и не довелось – то курева не было, то аудитория не соответствовала. А ведь это родной наш кинематограф навеял, «Небесный тихоход». Помните первый визит друзей майора Булочкина в девичью эскадрилью и сценку, завершаюшую исполненную на троих песенку? Силища, какое было искусство!
«Вот болваны!» – надменно оценил бы с треском провалившуюся новую тактику Антон Кирсанов, если бы одна из пяти фуражек не была его собственной – новенькой, свежеподписанной по подкладке химическим карандашом, еще и язык до конца не отмылся, утром у зеркала проверял.
Одним словом, беда.
Каптенармус (я все-таки сохраню за ним эту звучную должность) чуть было не расплакался, такая гримаса неподдельного горя нарисовалась на его лице. Он буркнул что-то нечленораздельное, почти не разжимая губ, потому как раньше служил на флоте, а для флотских привычно губы не разжимать, чтобы соленая вода не заливалась в рот. Там считают, что лучше неразборчиво изъясняться и оказаться непонятым, чем полным морской воды ртом хлюпать. Истинная правда, это и мой выбор, когда доводится бывать на море. Впрочем, Антон Германович не прочь заметить при случае, что я и на суше не очень разборчив. Интересно, он то же, что и я, имеет в виду? Одна только неувязочка выходила с привычками каптенармуса. Служил он, сам хвалился, на огромном крейсере, и Антон, как ни силился, не мог представить себе таких больших волн, чтобы доставали моряку на крейсере до самого рта, потому что крейсер своими глазами видел по телевизору и отец подтвердил: «Это крейсер!».
И все же Кирсанов напрягся и расшифровал «бурк» каптенармуса.
Так вот, каптенармус буркнул:
– Бля. Этого просто не может быть!
И резко и неглубоко вздохнул, почти всхлипнул.
Антону стало обидно за этого в сущности доброго дядьку, наверное, не для того прожившего непростую жизнь, чтобы выдавать пацанве необученной портки, ремешки шинели, пуговицы и учебные «пукалки» вместо настоящих ружей. Обиднее, чем за себя. И это чувство нейтрализовало эффект, который должны были произвести недюжинные старания дежурного офицера, непосредственно перед этим прочитавшего нотацию суворовцу Кирсанову, через «лысую, ничем не прикрытую башку» которого «все тупые, дебильные мысли видны насквозь – то есть подходи, кому не лень, и читай без помех все наши секреты! И враг подойдет!»
Дежурный сам еще не до конца отошел от сказанного и пребывал в сомнениях, педагогично ли было орать про говенных солдат, с какими, «мудаками и говноедами, великий их прародитель Суворов и кротовый холмик не преодолел бы, не то что, твою мать, Альпы!» В противном случае, то есть без терзавших его душу сомнений, и при реальном наличии заявленного умения читать чужие мысли, он бы поразился способности юноши к столь глубокому состраданию. Каптенармус тоже, кстати, не оценил широту души Антона Кирсанова, и его многострадальной матери досталось еще и еще. Зато дежурный офицер наконец успокоился:
«Чушь! – наконец решил он насчет собственного монолога, шрапнелью посекшего всех в радиусе тридцати метров, кроме задумавшегося Кирсанова и предмета этой задумчивости катенармуса с его непростой судьбой – человека с историей и, как положено людям с историей, привычного ко всему. – Все нормально. Главное, что сдержался, ни разу не выругался. Это важно». Настроение, однако, не поднялось. В отличии от сахара в крови. И дежурный, на все происходящее натурально махнув рукой – жест был, словно благословил нехотя – потопал в столовую.
Вчера после въедливого, а может быть, специально, для пущего эффекта, тягомотного изучения результатов анализов врач посоветовал ему питаться дробно, небольшими порциями и часто. И еще категорически отказаться от алкоголя в пользу плавания. «Во мечется эскулап. от стакана – к реке!» – в который раз за сутки повторил про себя дежурный. Нравилось слово «эскулап» – значительное и в то же время смешное, и сама непроизвольно сложившаяся шутка. Прикидывал, как завтра поделится ею с приятелями за пивком в Доме офицеров, дома-то на шутку отреагировали вяло, даже насторожились. «Гражданские. Понимали бы что-нибудь. А тут – пять фуражек за один выходной! И как прекратить это безобразие?»
Нужна была нетривиальная идея
Нужна была нетривиальная идея. И Антон Кирсанов придумал. На подготовку разработанной операции – раздобыть «гражданку», выяснить расписание школьных занятий, насушить и растолочь «соплегонный» клей, чтобы из носа лило еще больше, чем из глаз – понадобилось немногим больше недели, примерно тридцать копеек и старый офицерский ремень. Последний ушел в оплату услуг завербованного в школе шпиона. Старший брат шпиона, как выяснилось, все это время учился вместе с Антоном и самым тщательным образом хранил в тайне компрометирующее, а в последнее время, прямо скажем, опасное для здоровья родство. Правильно, кстати, делал. Кирсанов сам чуть не взорвался в приступе бешенства, но когда ни в чем не повинный родственник побожился, что в оплату за «сдачу» своих отдаст младшому унаследованный от отца фронтовой офицерский ремень, единственное, что осталось в память об отце, – оттаял. Жертва была достойной, слов нет. К тому же он сам рассказал всю правду о брате, никто за язык не тянул и рук не выкручивал. Загадкой осталось, почему для исповеди он выбрал Антона? Кирсанов, конечно, не преминул спросить, но внятного ответа так и не получил.
– Не знаю я, – пожал плечами брат агента во вражеском лагере и брат по оружию в одном лице. – Подумал, что ты вроде бы нормальный, что тебе можно верить. Видишь теперь, самое оно вышло. Нормально выбрал.
Такой вывод трудно было оспорить.
В нужный день Антон Кирсанов валялся в обильных соплях в лазарете – палата, по счастью, была свободной, то ли не было других занемогших, то ли отделили суворовца от всех прочих, опасаясь инфекции. Кое-что, не противоречащее строжайшей конспирации, то есть почти ничего, он заранее обговорил с приятелем, заступившим нынче на четверть суток дежурства вроде медбратом, на самом же деле – разнорабочим: подоконники красить, мыть полы и таскать мешки с больничным бельем в прачечную. Не будучи посвященным ни в суть, ни в детали Антонова плана – Кирсанову не светило стать объектом насмешек, если что-то пойдет не так, отсюда и тайны – приятель, авантюрист по натуре, охотно подрядился его прикрывать. По правде сказать, никаких подробностей он не выпытывал, вел себя сдержанно, по-мужски: надо – значит надо, товарища выручить – святое дело. При этом любопытство терзало добровольного помощника пуще власяницы – все тело зудело и требовало недостойного почесывания в паху; у медбрата– разнорабочего сложились свои представления о причинах кирсановской самоволки. Такого себе навоображал! Посулив четыре компота и две банки сгущенки, Антон обеспечил лояльность, да что там лояльность – безраздельную преданность со стороны сластены-подельника.
Оказалось, что день был угадан точно, словно по подсказке свыше, что суворовцу и комсомольцу Кирсанову должно было бы претить, и наверняка бы претило, знай он об этом. Хорошо, что не знал, с кислой рожей чудо не сотворишь, а Антон нацелился сотворить чудо.
Начальник медсанчасти куда-то укатил на служебной «буханке», предупредив, чтобы ждали не раньше вечера. Его помощник – практикант из мединститута с непроизносимой фамилией, которого все училище без затей называло просто Вольнонаемным, валялся вверх пузом академического калибра на оттоманке в начальственном кабинете. Он с дальним прицелом запасся хлебом, сахаром, разбавленным спиртом и прошлогодней подшивкой «Вокруг света», то есть был безопасен всерьез и надолго.
Около полудня Антон оставил за спиной добротно замаскированный лаз в заборе, ограждавшем училище, противогазную сумку, где хранилась «гражданка» и куда поместилась больничная одежонка вместе со шлепанцами, чтобы не промокла в случае дождя. Он уверенно преодолел мост через Тьмаку, причем дважды вскользь смотрел на часы, вроде как «отбегал по делу», непринужденно влился в скопление школьников и смешался с ними. Со звонком, возвестившим об окончании большой перемены, вместе со всеми вбежал в школу. Школяр как школяр, устремившийся в храм знаний, демонстрирующий рвение и прилежание, искушаемый толикой надежды, что все это зачтется при заполнении аттестатов и особо будет отмечено в характеристике. Так, по крайней мере, ему самому казалось, таким он видел себя со стороны – мальчиком– невидимкой. Но одна дежурившая на главных дверях девчонка, явно из старшеклассниц, – формы («Ух ты, елки-палки, мама родная!») развиты получше, чем у некоторых учителей, – задержала на Антоне строгий внимательный взгляд. Даже нос наморщила то ли брезгливо, то ли с подозрением. Он быстро и правильно сообразил, в чем тут дело: среди старшеклассников не принято стричься так коротко. Однако сказать страж дверей ничего не успела. Мгновенно сориентировавшись, Антон легонько хлопнул кого-то впереди по спине и засмеялся как мог непринужденнее. А дежурная в эту секунду отвлеклась на явившееся откуда-то сбоку форменное очарование в коротенькой юбочке из сине-зеленой шотландки. «Офигеть.» Очарование нежно, задумчиво поглаживало себя пальцами по запястью, не отвлекаясь на внешнюю жизнь в ее различных формах. Наваждение да и только. Следовало ли удивляться, что внимание поблекшей на таком фоне дежурной оказалось не просто поглощено – порабощено этим явлением. Так береговые орудия переводят прицел с одного корабля на другой, вот же он – самый опасный, его первым топить. Топить! Незамедлительно! Пли! Чем? «Ну, выпендрежница, кокетка, черт тебя принес на мою голову.»
Маневр дежурной был ясен Антону, хотя уместная и вполне элегантная аналогия с артиллерией не пришла ему в голову, пусть и без двух минут кадровый военный. Впрочем, не мудрено – он едва с шага не сбился, а кое– кому повезло куда меньше Кирсанова, и в дверях случился настоящий затор. Никому больше до лазутчика не было дела, и Антон без каких-либо приключений пронесся, перепрыгивая через ступени, на второй этаж – и тело, и ум его были в высшей степени взбудоражены, причем отнюдь не остротой ситуации диверсионного проникновения в логово врага. Даже пресловутый бром – им вызревавших мужчин пугали, как атомной бомбой и службой возле ракет – или другая какая химия, если курсантам в самом деле что-то там подмешивали в кисель, были бессильны, не могли помочь, не справлялись. Минутой позже в суворовца Антона Кирсанова прорвавшимся водопадом пролилась вся горечь несправедливости проживаемой им жизни. Он зарыдал, но не наружу, а внутрь, как настоящий воин, как учили, как отец наставлял, черт его, отца, подери. Потом отчаяние сменилось дикой, неукротимой завистью ко всем, кого судьба или родительская любовь уберегла от «забрития» в солдаты в самом еще несознательном малолетстве. И вся эта двухминутная драма, отмеченная в диаграмме жизни Антона Кирсанова глубоким провалом с отвесными стенами – «клиент сник» – протекала над нечистым толчком с оторванным и покоящимся возле стены сиденьицем из расслоившейся от расстройства фанеры.
В пропахшую хлоркой реальность Антона вернуло безадресное послание, наверное «всем-всем-всем», процарапанное анонимом по салатовой краске на стенке кабинки. Текст гласил: «военрук пасивный пидарас». Орфография воспроизведена в точном соответствии с оригиналом. Антон как-то сразу прочитанному не поверил и даже нахмурился в знак несогласия, все же армейская солидарность – сильное чувство, особенно в мальчишеском возрасте. Военрук сейчас был для него самым что ни на есть своим, хоть и не по его, Антона Кирсанова, доброй воле так вышло. Но ведь вышло. Он взял торчавший в углу кем-то явно забытый новенький вантуз и что было силы припечатал круглый резиновый глаз прямо на надпись. Вантуз чмокнул от удовольствия и присосался, словно только того и ждал. Знал, наверное, что недобрые слова о военруке – чистой воды оговор, напраслина и чудовищная несправедливость, потому как военрук совершенно нормальный мужик. Словом, вантузу довелось пережить то, о чем так часто мечтают судейские – момент торжества справедливости.
В самом деле, спросил бы кто по поводу военрука у арифметички из начальных классов. Или, к примеру, у старшей пионервожатой – такого могла бы порассказать! Хотя, последние две недели вроде как стал военрук избегать ее, мнется, на проблемы дома ссылается, и по этой причине нельзя исключить, что частично девица примет написанное, но только не про пассивность. А «англичанка»? Ну и что – «англичанка». «Англичанке» не стоит верить. Непременно соврет и скажет, что все легенды о ее близости с военруком – гнусные интриги выскочки-недоучки директорши. Директорша, мол, ревнует к ней, незамужней красавице, свободно (в рамках школьной программы), говорящей на двух языках, преподавателя физкультуры – бывшую звезду областного ринга в тяжелом весе. Или в среднем, а потяжелел уже в школе. Ей же – незамужней красавице и так далее. – до этой горы из мышц с зигзагообразным носом нет никакого дела! Как, впрочем, и до солдафона! Но все равно, какой бы закаленной лгуньей она ни была – на «солдафоне» не выдержит, голос дрогнет, смягчится.
Конечно же, таких подробностей о жизни школы Антон не знал, и вообще мало кому они были ведомы, не ровен час и вовсе чепуха все это, вантуз в безделье дурью маялся. На самом деле, прочитав о военруке, что тот «пасивный», Антон подумал: «Ленивый, что ли?» Иногда удивительно целомудренным начинает казаться непростое время торжества ханжей.
Антон еще минут десять прятался в туалетной кабинке на втором этаже, молясь, чтобы ни уборщица, ни кто другой по случайности или потребности туда не нагрянул. Потом, вздрагивая, потея и с ужасом вслушиваясь в происходящее в классах, пробрался вдоль ставших враждебными стен в мальчуковую раздевалку, примыкавшую к спортивному залу. Его слегка отпустило, когда убедился, что шпион не подвел, оказался правильным парнем, и переданные им сведения несомненно верны. До последнего момента, надо сказать, сомневался. «Кто же знает, – говорил он себе, – какие между братьями могут быть счеты?»
«За такую службу и отцовского фронтового ремня не жалко», – еще раз похвалил Антон про себя незнакомого парня. И тот в одночасье из шпиона превратился в разведчика.
По размерам и вольному разнообразию одежды, кое-как наброшенной на крючки, было ясно – попал, куда и стремился. Они, старшеклассники.
«Вот мы и на месте. Что и следовало доказать», – мстительно порадовался Антон и вытер потные ладони о чужие, немного коротковатые и сдерживавшие его в шаге штаны. «В таких не побегаешь и много не навоюешь», – посетовал в сотый раз, надеясь, что ни то, ни другое его сегодня не ожидает. «Не должно дойти до такого, а раз не должно, так и не дойдет».
Быстро и, уж если на то пошло, не очень аккуратно, но методично спарывал он перочинным ножом, отточенным до состояния бритвы, пуговицы со всех пиджаков, брюк, рубашек – и ссыпал их в оказавшийся под рукой черный сатиновый мешок из-под чьей-то «сменки». У него какое-то время назад был такой же, насквозь провонявший резиной отечественных полукед. Антон непроизвольно понюхал мешок, в нос шибанул хорошо знакомый дух, будто рядом таксист затормозил юзом, спалив пару миллиметров от рождения задубевшей бакинской покрышки. Ярославская была мягче и не пахла сажей. И белоцерковская сажей не пахла. Все мальчишки тогда разбирались в подобных тонкостях, разумеется, если увлекались, то есть почти все. Может, поэтому запах отозвался в голове суворовца, как своеобразный пароль, и Антону стало неловко. Неловко оттого, чем он собственно в данный момент занят. Нерадостно выходило, что, оставив обычную школу ради службы, он словно пемзой содрал с себя прошлую жизнь со всеми ее приятными и досаждающими атрибутами, и теперь всех прочих, не относящихся к клану военных, считает, обязан считать неприкаянными, никчемными «гражданскими». И все это оказалось таким пустым, такой неправдой. Ничего он с себя не содрал, сплошь иллюзия. Намека хватило, легкого запашка вечно расклеившихся на изгибах кед, как тут же все и вернулось, прихватив с собой совсем уж непрошенное, неприятное, ни ко времени и ни к месту соображение, что вот этих самых «никчемных гражданских» он, Кирсанов Антон, собственно и вызвался защищать. Ну не сам вызвался. Правда. Но и сопротивлялся не сильно – пружины от раскладушки не глотал и под припадочного не «косил».
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































