Текст книги "След Кенгуру"
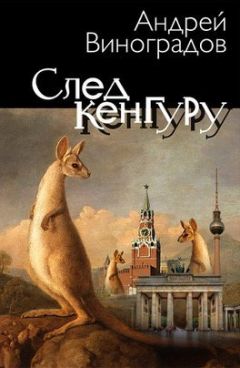
Автор книги: Андрей Виноградов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 46 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]
Рентгеновский снимок чужого желудка с мирно покоящейся внутри пружиной ему показали на медкомиссии, «ради хохмы», весело промеж собой именуя его обладателя «шпагоглотателем». Правда, «шпагоглотателя» призывали в армию, на действительную. Он вроде бы мамой клялся, что «съел» пружину во сне, бессознательно, и умащивал офицерские уши байками про своего деда, а может быть прадеда, известного на весь Самарканд тем, что кетмень – мотыга, по-нашему – таким же вот удивительным образом слопал и прожил девяносто пять лет. Увы и ах, военкоматские служащие испокон веку в период призыва становятся мучительно недоверчивыми, и напрочь лишаются чувства юмора! Антон пожалел тогда, что на снимке не видно лица «шпагоглотателя», да и фамилию в личном деле не успел подсмотреть, не подсуетился, ему было бы интересно познакомиться с отчаянным уклонистом… «Знал ведь, что за такие фокусы «дурка» светит и не сдрейфил, а мог бы и вовсе окочуриться, в пять секунд. Это ж надо так сильно не хотеть!» Он задался вопросом, способен ли сам на рисковый поступок, но вместо ответа почувствовал металлический привкус во рту и представил себе, как пружина, случайно повернувшись, вдруг встала промеж языка и нёба, распялив рот изнутри, и ни туда ни сюда.
– Защищая их. Еще как защитим, когда понадобится! – просопел он, продолжая бездумно, механически пакостить.
Как только пальцы себе ножом не отхватил по неосторожности. Уже, можно сказать, удача, потому что думал теперь совсем не о том, что и как делал, и даже не о судьбе своей горемычной, навязанной, а об очаровании в коротенькой клетчатой юбочке, промелькнувшей на входе в эти чертовы стены, занесенной под первым номером в список тех, кого сильно хочется защищать.
Вот урок: пакостишь – думай о радостном и все обойдется без травм.
Так дело с пуговицами и сладилось
Так дело с пуговицами и сладилось Настроение, однако, было уже не то, задор, что ли, испарился? Пришлось вспомнить расквашенные носы друзей-сослуживцев, гнев отцов-командиров, собственное надорванное ухо и тот факт, что он прописался в немногочисленной, числом три, компании курсантов училища, умудрившейся лишиться целых двух казенных фуражек. Был, правда, еще один ухарь – целых три потерял, ветром сдуло. Башка у него была здоровенная словно чан и странной приплюснутой формы, будто в прошлой жизни служил пацан прикроватной тумбочкой, хотя мог и пеньком, так что ни одна, даже самого великанского размера суворовская фуражка на его голове не держалась, соскальзывала, ну а порывы ветра и вовсе не оставляли шансов уберечь форму в комплекте. На плацу ему единственному разрешалось пропускать под подбородком страховочный ремешок, отчего курсант выглядел и вовсе комично. Видимо, ремешок ощутимо давил на горло, так как парень непрерывно, не отдавая себе в этом отчет, открывал – закрывал рот, словно большая рыба, в надежде хоть немного эту лакированную удавку растянуть, ослабить. О нем говорили, будто детдомовский, иначе давно бы вернули родителям, в доброжелательный к нему мир безразмерных панам и вязаных лыжных шапочек. В общем, его три фуражки можно было считать за одну. Антон так и считал, хотя и без энтузиазма.
После взбадривающих воспоминаний кураж восстановился не весь, зато заряд злости заполнил пустоты, и его с лихвой хватило на то, чтобы выполнить план до конца. В конце концов, сообразил Антон, хозяев одежды он должен защищать отнюдь не в любых ситуациях.
– Вот случится война, – рассуждал он полушепотом в такт безжалостному движению лезвия – тогда и посмотрим. А пока не фиг было лезть, не мы начинали! Защитников защищать не надо, уважать надо, а защищать – нет, сами справимся, ничего нам от вас не надо, потому что…
Тут пуговицы резко закончились и мысль обиженно оборвалась. В мешок, содержимое которого как-то робко, стыдливо, не звонко пересыпалось внутри, поместились и брючные ремни, их было немного. Большинству старшеклассников, наверное, брюки были в самый раз, или маловаты, как и Антону те, в которых он был сейчас.
Вся операция кругом-бегом заняла меньше десяти минут. Заглянув воровато в соседнюю раздевалку, для девочек, Антон зачем-то стащил с ближайших к дверям вешалок пару платьев и фартук и забросил их в закуток для мальчишек, в самый дальний угол, комом.
Зачем вообще было соваться в девчачью раздевалку? Может, дело в интуитивном предчувствии полуюноши-полумужчины, что ни одно «мужчинское» дело не обходится, в конце концов, без девчонок, и неважно, участвуют они в нем непосредственно или нет? Или попросту обнаглел, пижон зарвавшийся, предвкушая триумф по возвращении в родное училище? Да нет… Проще все. Понадеялся отрок увидеть белье девчоночье, главное – лифчики! И ведь в голову не пришло, что никто не напяливает спортивную форму на голое тело. Посмеялся над ним, дураком, господь, но и намекнул: заслужишь – все будет, а доселе не заслужил, хотя, почитай, попытка засчитана. Самому себе Антон так ответил: «Что неясного? Запутываем следы!» И, можете посмеяться, но на самом деле так оно и было, потому что не может запутавшийся мальчишка оставлять простые, легко прослеживаемые, читаемые следы. Никак не может, по определению.
Возвращение через «линию фронта» обошлось без приключений. Жестко придерживаясь детального плана, он просидел до конца урока все в том же ранее облюбованном туалете, где в одной из кабинок вантуз не выдержал испытания временем и опять открыл миру мнимый позор военрука. «Все-таки приключение», – утешал себя вантуз, откатившись туда, где оказалось предательски мокро и дурно пахло, откатиться куда было глупостью. Он хотел свысока глянуть на унитаз – рассмотрел его сверху и был возмущен неопрятностью, но когда валяешься на полу такие взгляды выходят неубедительными, на вантуз даже не покосились, булькнули подтекающим бачком вроде как в насмешку: «лежи уже. до засора». От беспомощности и собственной неубедительности ему стало совсем грустно. Вантуз был уверен, что способен на большее. Хорошо, что в этот момент никто не взялся ему показать – на что именно.
Антон на этот раз укрылся в другой кабинке – ближе к выходу. Именно она, по-видимому, служила главной исповедальней для местных любителей откровений на стенах. Увы, большая часть каракулей напоминала Антону, что он сейчас в англоязычной спецшколе, а в суворовском ему вдалбливают немецкий. Он запустил руку в мешок с трофеями, порылся и извлек пять – шесть пуговиц, из которых выбрал одну – средних размеров, с относительно острым краем – и размашисто начертал на пластмассовой стенке «Гондоны». Из уважения к специфике школы буквы употребил латинские. На последней споткнулся и, не найдя иного решения, склонился к привычному – вывел кириллицей.
«Все равно русский самый главный, потому что язык Пушкина, Достоевского, Толстого и Ленина», – рассудил патриотично.
Про поэтов, писателей и тиранов, то есть «патриотичное», придумал я. Выборка абсолютно случайна, сложилась сама собой, спонтанно, без намеренного угодничества перед духом тех спорных лет, просто в ритм: три имени на две четверти, одно – на четыре. На мой взгляд, вполне в духе. Я так его, тот дух, чувствую. А сегодня больше чувствую свой дух, точнее – остаточное амбре от вчерашнего, незапланированного, как и этот абзац, гульбария. Самое время сесть за письмо в Нобелевский комитет с предложением учредить премию за алкоголь, от которого у меня во рту не будет такой мерзкой сухости. И назвать ее соответственно – «За гуманизм науки».
К слову сказать, во вчерашних импровизированных диспутах со случайной, как и сама вечеринка, собеседницей, онемевшей то ли от скуки, то ли от выпивки, но скорее всего от глубины затрагиваемых мною тем и суждений, я уже поминал Гумилева с Тургеневым и Булгакова. Все, заметьте, на три четверти, в ритме вальса, вот он, сквознячок перемен. Потом мне стучали в кухонную стену, и я вдохновенным шепотом поведал гостье о скотине Харитонове. Вслед за ним в качестве темы как-то сам собой всплыл Егор Кузьмич Лигачев, хотя то был совсем другой Харитонов, не соратник Егора Кузьмича, не депутат и не аграрий, а инвалид и замначальника паспортного стола, разве что по засолке-закваске знатный специалист. Ну и грузди у него! Один к одному, будто ножницами шляпки равнял, по трафарету. А все равно – редкая скотина. «В часы приема и в общую очередь!» Вот же, пуп земли хренов. На Лигачеве все и закончилось. Вот поговаривают разные люди, будто шлюхи – народ ласковый, отзывчивый и с пониманием. Чушь. Не верьте. Шлюхи они и есть шлюхи. Сильно жадные. Я был нелицеприятно послан куда подальше с моим «Пугачевым Егором» и призван к довременному расчету за все, что было, то есть чего не было, но ради чего собирались и должно было быть.
– Дорогого, блин, стоит ваши бредни слушать, – было потешено на прощанье мое неугомонное тщеславие. «На вы!». А поначалу «тыкала», словно сверстнику, и меня это ощутимо коробило. Я расслабился, на секунду стоя впал в дрему и прозевал, когда с полки под зеркалом «ушли» ассигнации, сулившие вернуть расположение беззастенчивых ростовщиков, окопавшихся на местном телефонном узле. Ненавижу, когда в квартире отключен телефон. Сначала думаешь, что все про тебя забыли, потом самому подступает нужда куда-либо позвонить и. выясняешь, что те, от кого не ждешь, они-то как раз про тебя и помнят, и уже все как есть сосчитали, собаки. Так или иначе, но нынче возможность поговорить о жизни без каких– либо обязательств и не особенно интересуясь мнением собеседника, то есть сообщить ему о своей жизненной позиции – сильно подорожала. Впрочем, это нормально, жизнь ведь тоже не подешевела, хотя цена ей по-прежнему грош. Ну или цент. В наших краях вряд ли когда было по-другому.
«А про «Пугачева Егора» девка смешно сказанула. – подумал, засыпая. – Так и черт с ними, с деньгами. Не последние».
Видно, когда-то нежные пальчики моей грубоватой нимфы были не чужды перелистыванию страниц отнюдь не глянцевых, без картинок, и под надзором пристрастных учителей. Вот только приспособленными пальчики оказались не для того, чтобы водить ими по строчкам, заучивая имена героев прошлого и современности. Или ничего она никогда не заучивала, с самого начала у Лобного места на иностранцев охотилась? Вспомнил, как за сочинение по «Капитанской дочке» мне влепили стыдный трояк – якобы недостаточно полно раскрыл образ главного бунтаря. Две недели отвечал дома за мытье полов. С третьего дня мыла, конечно, опять мама, но я отвечал.
Насчет искусности пальчиков – это, к глубокому сожалению, оплаченная гипотеза, не больше того, но все равно нормальный вечер… И ткацкое производство в Иваново возродится однажды, и бойкие, сноровистые девичьи персты еще ой как понадобятся!
.. «СоиНоны». Получилось, как мелом по краске, пластмасса – не гвоздь, но в целом нормально, заметно, все прочитают, а большего и не надо, большего не заказывали.
Со звонком, выждав немного, пока оживут коридоры, Антон вывалился вместе с толпой на улицу. Для взгляда придирчивого и проницательного выглядел он безусловно странно – без портфеля, зато с мешком для сменной обуви, пытается казаться расслабленным, но как-то весь странно, совсем не по-школьному подобран, стрижка короткая, лицо открытое, правильное, и опять же сосредоточенное, а казалось бы – чего напрягаться, если школа на сегодня закончилась? А главное – рослый, ладный, фигура спортивная, крепкая – и при этом сам по себе. В школах таких симпатяг не бывает много, они всегда буквально наперечет, и не бывает, чтобы их, любимцев застенчивых одноклассниц, не окружали друзья-почитатели помельче, но позадиристее и понаглее. Антон же был совершенно один. Но никто ничего не замечал – возможно, благодаря тому, что сейчас он и сам не думал о том, что чужой в этой толпе, и лазутчиком себя не ощущал. Просто не думал, и все тут. И страха не было. Отсутствие страха, наверное, и выручало. Антон не знал, как поступить, если увидит ту. в клетчатой юбочке, если столкнется с ней – и мечтал с ней столкнуться. В какой-то момент он ужаснулся: переоденься она, набрось плащ на плечи – в жизни бы не узнал. К стыду своему, лицо он не помнил вообще, только юбку, колени и нежное немного смуглое запястье. Опять же, для юношеских грез более чем достаточно, а остальное додумывается по обстоятельствам. Поскольку наяву курсанту Кирсанову вряд ли что-то светило, ну а в грезах – своя рука владыка, мысли Антона свернули в нужное русло и, возможно, надежды на скорое рукоблудие счастливо спасли миссию от провала. Во всем можно разглядеть крупицы полезного, если смотреть под правильным углом. Что бы взрослые ни говорили.
Разумеется, Антону чертовски хотелось понаблюдать за тем, что будет происходить после звонка в раздевалках, но даже в запале он сознавал, что это было бы равноценно самоубийству, внутри здания самозванец был бы неизбежно прижучен, и тогда. Он все же подергал удачу за нос и позволил себе прогуляться туда-сюда вдоль фасада вражеской школы, мушкетер хренов в крепости Ла Рошель. Правда, в отличие от героев Дюма, не «на расстоянии выстрела». Для мушкетной пули Антон был недосягаем (И проиграл бы пари. С кем там мушкетеры спорили?), однако же, не так далеко, чтобы не расслышать вопли негодования, случись жертвам его рейда вопить, ведь его пари было выиграно. Краем глаза Антон заприметил шествующий вдалеке военный патруль, в ту же секунду вспомнил, кто он есть на самом деле, про стрижку свою насквозь армейскую – и спешно ретировался на другую сторону Тьмаки, стараясь, чтобы мост оказался как можно короче, но и не побежать. Содержимое мешка для сменки всю дорогу назойливо шуршало, привлекая внимание нового хозяина, но всерьез брякать так и не отважилось. От джинсовых пуговиц, к примеру, такой скромности и покладистости в жизни не добьешься. Хорошо, что американская мода в тот год еще не накрыла потертым в клепках крылом град Калинин, который всегда оставался Тверью.
Мешок с пуговицами и ремнями Кирсанов спрятал в сухом и надежном месте, а сам как ни в чем не бывало завалился в лазарете на койку, зарядив нос новой порцией клея, отчего внутри головы зачесалось, а глаза заслезились так же нещадно. И зачесались тоже. Невероятно сволочная штука этот высушенный до пыли клей! Без сомнения, гад какой-то выдумал, но ведь и пользы столько. Возможно, питье политуры тоже из его озарений, более поздних. Тоже, кстати, почти гарантированный лазарет, а то и подальше что.
Сперва Антон, как и положено, поволновался: а вдруг «стукнул» кто, или медбрат испугался и «сдал пострел товарища», а может, лекарь вернулся и устроил обход, либо его подручный пресытился чтением, выпивкой и жратвой, хотя это вряд ли – Вольнонаемый славился чревоугодием, пьянством, вообще сибаритством в армейских, ясно дело, границах. Но никто Кирсановым не интересовался. Чтобы занять себя чем-то полезным, Антон принялся старательно натирать градусник о фланелевое одеяло, упуская из виду, что дело это довольно тонкое, требует чувства меры и опыта, высок риск переборщить. Его увлекла воображаемая и очень живая картина: толпа полуголых школьников бредет к остановке трамвая. Внимание Антона – и как заметила бы мать-природа: «Это не против меня» – влекли школьницы, а не слишком натасканная, однако же предназначенная к поступательному движению рука с градусником в забытьи скользила по наэлектризованной поверхности одеяла с методичностью паровозного ползуна. Самой дальней окраиной своего сознания Антон Кирсанов все же успел зарегистрировать скрип двери – и молниеносно переместил градусник в подмышку. Таким военврач его и застал – в свежих соплях, с натянутым до глаз одеялом. Мужик, одно слово, достаточно глянуть на одеяло. И военврач, истинный донжуанище, славный своими подвигами чуть ли не на весь Калинин, известный и в области, понимающе улыбнулся в усы.
Сомнительная репутация военврача не смущала
Сомнительная репутация военврача не смущала. Напротив – он любил прихвастнуть:
– Вот такими нас растит армия! Но если в бой, то все девки побоку.
– Ну да, ну да. Побоку. Это конечно, что побоку, в госпиталях-то. – недоверчиво смотрел на своего доблестного подчиненного начальник училища и укоризненно качал головой.
Сам при этом вспоминал что-то наверняка стародавнее, но не утратившее волнующих очертаний. Глаза его непривычно добрели, и можно было, правильно уловив момент, выпросить у строгого и обычно весьма проницательного командира что-нибудь полезное. Например, дежурство в новогоднюю ночь. Для коллеги-сослуживца, разумеется. Особенно, если жена у того смазливая и не слишком строгого нрава. Военврач ни разу не упустил свой шанс. «Нагличает», – неодобрительно отзывался о нем каптенармус, должность которого, как я уже говорил, давно переименовали во что-то не запоминающееся. Но даже, зовись он каптенармусом в табели о рангах, официально, какой из него соперник военврачу?! Вот и стравливал зависть здопыхательством.
Мужья возмущались вероломством военврача, но в драку не лезли, устав не позволял, а, возможно, знали своих суженых лучше, чем тем казалось и хотелось. Сплевывали порой вслед медику и грозились «пришибить суку», но так, чтобы тот не услышал, вот и весь выход негодования. Да и не совсем ясно, кого именно в этом случае величали сукой. Наверное, от настроения зависело. Как бы там ни было, семьи не болели.
Жены были на правильной стороне, по крайней мере публично, супружеский долг обязывал. От них в семейных и бабских пересудах военврачу тоже доставалось порядком, но есть опасения, что искренних обличительниц в этой шумной, говорливой массовке можно было по пальцам пересчитать. Разве те, к кому ловелас интерес потерял.
Некоторые офицеры, из принципиальных. Кстати, их благоверные успехом у доктора не пользовались, а потому мужья преспокойненько справляли большую часть праздников в семейном кругу, так что не очень понятно, откуда взялась такая немотивированная принципиальность. Так вот, все они мечтали осудить моральный облик военврача на партийном собрании, но нужен был повод – писулька, звонок, без него никак. А донос все не вытанцовывался. Еще до войны семью секретаря парторганизации как раз по доносу и извели, сам чудом спасся, в штрафбате два года отвоевывал себе честное имя и звание. Иначе говоря, жанр доноса был у него не в чести, всей душой он его ненавидел, ни за что не дал бы бумазее ходу, да еще и расследование запросто мог учинить: «Ну и кто, вашу мать, напаскудничал?» Увы. Те, кто мог открыто что-либо веское написать, в жизни не сознались бы в истинной причине своей неприязни к фактурному сослуживцу, другие. Другие его любили и любили легко, беззаботно, без простирающихся на долгую дальнейшую жизнь планов. Когда я слышу про «адюльтер», то представляю себе именно этот тип отношений. Такая выпала военврачу судьба. Повезло. И будет везти вплоть до командировки в Карабах.
В Карабахе везению военврача придет конец
В Карабахе везению военврача придет конец. Поскребет он ложкой по дну котелка с удачей, вскользь заметит, что звук необычный, но не насторожится, спишет на то, что оглох и одурел слегка от стрельбы, выпивки и работы. И рядом никого не сыщется, кто бы мог заметить и подсказать. Был один, тоже доктор, из местных, тоньше военврача мир войны чувствовал, убеждал, что домой тому возвращаться надо. «Лед, – говорил, – у тебя в глазах». Но двумя днями раньше осколок прилетел местному доктору. Адресно так прилетел, аккурат в то место, без которого – ни сказать, ни подумать. В тот день с котелком первый раз незадача и вышла. Военврач погоревал, посокрушался над тем, что осталось от товарища: «Ты вот все обо мне, да обо мне, а сам не уберегся.», – хватанул на вдохе полкружки горькой, обожгло, ложкой каши думал заесть, а в котелке пусто, зацепил дно вхолостую. Через два дня – та же история с котелком случится, опять неожиданно пустым окажется котелок. И опять звук тяжелый какой-то, прямо по нервам, не алюминиевый. Рукавом придется военврачу спирт занюхать. Кого-то на этот раз провожал? Просто так на войне кто пьет.
Через четыре месяца бывший военврач выпишется из госпиталя, полностью лишившись зрения, разбило лед осколками, с пробитым в трех местах и плохо зажившим легким. Куда дальше идти и зачем – не видно и непонятно, но одно знать будет точно – стоит сделать три дюжины шагов без передышки, как начнет задыхаться. Никому не нужный, даже сопровождающему. Почему «даже»? Сопровождающему, наверное, меньше всего – полтора дня, почти два пожертвовал от своего отпуска по ранению, но как было отказать врачу, посулившему ходатайствовать о переводе сюда, в тихое, мирное Подмосковье. «За это можно и собакой-поводырем», – будет успокаивать себя старлей по дороге, стоя с сигаретой в тамбуре. Он ненадолго оставит подопечного в шинели с погонами подполковника в полупустом вагоне электрички, на сиденье возле окна. Тот прильнет к холодному, залапанному стеклу незрячим лицом, будто по-прежнему что-то различает за ним. И сопровождающему инвалида старлею станет неловко за свою бессердечность, но он быстро примирит себя с ней: «И меня могло так же.» И матом поставит в переживаниях жирную точку. Хорошо, что кроме него в тамбуре никого не окажется – легко мог бы драку затеять. И плевать, что правая рука еще плохо работает. «Левой их, твою мать! Левой!»
Близких у бывшего военврача не окажется, либо отдалятся они по– быстрому и следы за собой приберут, испугавшись такой обузы: только сорок девять стукнет в тот год бывшему военврачу, а что если лет двадцать еще протянет? Глаза, легкие. А в остальном-то здоровый ведь, черт! Он, собственно, и не захочет ни для кого становиться бременем, стыдить никого не станет, никому не будет навязываться.
В калининской квартире военврача под охи-вздохи соседки, у которой были ключи – цветы поливала – старлей усадит хозяина на диван и отправится «пошуршать» по кухонным полкам на предмет отметить начало отпуска. Военврач окликнет его, укажет место, где искать, сам выпить откажется и попросит взять со столика у телефона древнюю темно-синюю записную книжицу, взять ее с собой, чтобы выкинуть по дороге, лучше подальше от дома:
– Услужи, брат, сильно поможешь. Мне теперь люди без надобности.
Кто-то все же бывал у него в доме. Когда милиция вскрыла дверь, жилье бывшего военврача оказалось на удивление чистым, прибранным, все выстирано, переглажено, и в холодильнике запас еды дня на три.
Сослуживцы, соседи, знакомые. Мало кто с удивлением встретит новость, что бывший военврач, отходив наощупь, впотьмах месяц или около того возьмет, да и перемахнет через ограждение балкона на восьмом этаже. Тетки – полировщицы дворовых скамеек расскажут, что перво-наперво «самоубивец» зазвал к себе мальчишку мелкого из соседней квартиры и попросил рассказать в подробностях, что тот видит внизу, на пятачке под балконом, вроде бы память свою проверял. «А этот и рад, бестолочь, стараться. Соображения-то нет. И откуда ему соображению взяться – мать вон приберут скоро в милицию за шашни ее. А покойник мальцу фуражку военную подарил, ремень и еще чего-то там офицерское. И, говорят, орден тоже». Вроде бы бывший военврач дотошно выспрашивал мальчугана, нет ли кого внизу, или поблизости, не идет ли кто в сторону их подъезда. Потом спешно отослал его, вроде как услышал звонок в дверь, может другое что придумал. И переселился.
Еще будут судачить, что предсмертное послание он, незрячий, оставил на магнитофонной ленте, что объяснимо – «Не диктовать же? Эдак ведь и отговорить могут, а человек весь решился уже, будет потом жалеть, что поддался, еще хуже жить станет». Не упустят и возможности заметить, что кассетник-то импортный, «Панасоник», из дорогих, а значит хорошо содержат военных, заботится государство, а они вон чего отчебучивают. Вроде как с неодобрением – у нас, мол, кое у кого телевизоры все еще чернобелые, а есть такие, что и через линзу передачи смотрят, и ничего, все терпим!
В само послании, так уж выходило, обсуждать-то нечего, по крайней мере с соседями, всего одна фраза: «Если сидишь на вершине радуги – цени и не шевелись, слишком легко соскользнуть». Эти слова соседи будут в охотку по памяти пересказывать всем, кого заинтересуют подробности. По– честному, совсем не часто. Будь текст длиннее, наверняка началась бы путаница, а вслед за нею и ссоры, потому что нет большей радости, чем «уесть» соседку – «Молчи уже, кулема. Вечно у тебя все шиворот– навыворот. Тебе бы травы какой попить для памяти». А так скучно выходило, однако же достоверно. От щедрот душевных бабульки прибавят, как водится: «Пил, видать, сердешный, да и как тут не запьешь». Веселее сложится судьба «омоложенной», проще сказать – «дворовой» версии странного завета: «Сиди себе на радуге и жопой не ерзай, пока сидится». Сообщать его будут как тайну, исполненную глубокого, но непознанного смысла. В таких «декорациях» даже слово «жопа» начинает звучать сакрально.
Не верится мне, что кому-то и в самом деле предложили послушать запись – улику. С другой стороны, кто-то же должен был опознать голос, если история с кассетой не вымысел? Иногда так бывает, что смерть, уподобившись двери, хлопнувшей на сквозняке, вдруг нагонит волну всяких слухов, восполняющих недосказанное покойному, никому при жизни особо не интересному: и в том он-она хороши были и в этом, и чувствовали тонко, и понимали не как все – по-особенному. Запоздалая форма раскаяния, хотя вряд ли прав я – не бывает раскаяний совершенно без пользы, вот и на поминках – вслух воспеваем ушедших, ну а пьем молча не за них – за свою перед ними вину, понимая, сколько мути, дерьма, пустоты в своих душах скопили. Что поделать, если и «радугу» кто-то стыдливо выдумал, хоть и не могу утверждать ответственно. Однако, мудрено как-то про радугу, далековато от обычной суетной жизни, что так быстро прожил военврач. Не слишком-то вяжутся эти слова с его жизнелюбием, а посмотреть по-другому, так ведь и возникли они на изломе, когда жизнелюбие кончилось. Загадка. Чтобы не томить, признаюсь, что есть у меня предположение, которое озадачило и без того впавший в унынье дом, приобретший репутацию дома самоубийц, хотя кроме военврача никто в этом амплуа не отметился и, насколько я понимаю, не собирался. «Лиха беда начало», – глубокомысленно замечали все те же старушки и холодило в этих словах дуновенье фатальности. Не рискуя покинуть границы народной мудрости, разъясняли сомневающимся: «Беда никогда не приходит одна». И принимались ждать следующую. Настрой такой. Хотя, спрашивается, чего ждать, если уже два обмена жилплощадью из за накренившейся репутации дома расстроились, а один. ну не передать, какой выгодный.
В общем, о догадке.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































