Читать книгу "След Кенгуру"
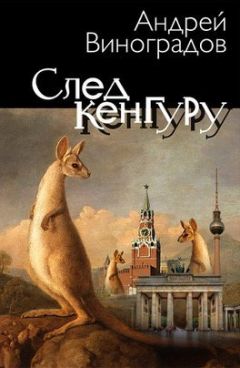
Автор книги: Андрей Виноградов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
Ленинградский окоп
«Ленинградский окоп, право слово, а не Кремль. Впечатление, будто вся страна занята отыскиванием-изобретением в своих семейных архивах – преданиях корешки, протянувшиеся к берегам Невы. Будто и в самом деле не было ничего на этих землях до Петра. Выкресты вон тоже, как ополоумевшие, все вдруг стали рьяными православными. Как-то «по нужде» все это выглядит, вымученно».
На службе у Антона Германовича есть отчаянные – или провокаторы?.. – что шутят: не ровен час, возле царь-пушки табличку приделают: «Осторожно, сюда долетают опасные голоса с улицы!», чтобы, мол, оградить замечтавшихся в заботах и тяготах небожителей от потрясений чужой и откровенно чуждой им жизни.
Хотел бы Антон Германович сам быть в числе тех нежно оберегаемых? Честно? Не знаю. В любом случае, сам вряд ли скажет, а гадать. Либо да, либо нет. А если нет, то чего тогда лямку продолжает тянуть?
У меня, кстати, так, на всякий случай, паспорта деда, и отца хранятся, в обоих прописка ленинградская. Берегу. В отцовский, кстати сказать, и я вписан, ни много нимало, а три доказанных месяца ленинградской биографии. На успешную карьеру не тянет, но я ничего особенного и не жду: во-первых, многое уже было, во-вторых – годы не те, чтобы губы раскатывать. В смысле, мои годы. Так что запросы вполне умеренные, если знаешь куда их посылать, и с кем, чтобы не послали оттуда. В третьих, здоровье все чаще норов за прошлое предъявляет, всерьез отделяется от меня, не то что церковь от государства, не факт, что вообще успею потратиться.
Паспорта на даче припрятаны, лежат себе в отдельной коробочке. Сорок минут до места и назад столько же, примерно полтора часа в обе стороны, если на такси. Вот только денег жалко. По аппетитам нынешних дней у меня их на пустопорожние покатушки нет. На расходы пойду, если только наверняка буду знать, что оно того стоит – выпало счастье. Если сомнений не будет, что потом с налету «три конца отобью», как моя дочь выражается. Такой вот еще один заколдованный круг. Как с девочкой, жалующейся врачу, что в прыщах вся, и никто не любит.
Столько всего поменялось
Столько всего поменялось. Когда мне лет было, сколько сейчас моей дочери, услышь я из девичьих уст про «отбитые три конца», право, не знал бы, что и подумать, но уж точно никак не про заработки. Уж больно разбитные они нынче, на мой вкус. Разбитные и языкастые. У Антона Германовича, кстати сказать, старшая дочь, Нюша, такая же оторва, как и моя, даже побойчее и поскандальней моей будет. Иногда и через добротную кирпичную кладку ее слышно, будто кто радио приглушил. Впрочем, они, Кирсановы, все голосистые, разве что Антон Германович все больше отмалчивается, не участвует в перепалках.
«Это все вы, ироды, голь перекатная, романтики гарнизонные с трехметровыми вашими засранными кухнями, где двум тараканам не разойтись, а вы еще танцульки умудрялись устраивать, это вы меня такой сделали, генеральская парочка, а теперь, видите ли, недовольны они! Да сказать кому стыдно! Я как Золушка.», – выдает Кирсановым время от времени их дочурка, так ни разу и не удосужившись просветить соседей: почему же она «как Золушка»? А ведь людям еще как интересно!
«Виновные установлены, дело за приговором, – пропускают звук стены. Голос грудной, низкий, боль с иронией – жуткий коктейль. – Ну давай, дочь любимая, огласи вердикт.»
Это – Маша, жена Антона Германовича. Как-то пожаловалась, не мне, но в моем присутствии: «Если бы сама не родила, не поверила бы, что моя».
Раньше она заводилась, обзывала дочь неблагодарной «якалкой», сестру ей в пример ставила, отца защищала, но постепенно остыла. Наверное, поняла, что бессмысленно все это. Только отношения портятся, как негодным лекарством недуг лечить. Примирилась.
«Люблю тебя и все прощаю, – стала говорить дочери. – И ты простишь. Знаю ведь, что любишь».
Для меня загадка, каким образом снизошло на нее это примирительное озарение? Уже год, как ей удалили последний зуб мудрости, ночью, в дежурной стоматологии. Откуда такие подробности? По несчастью сам маялся в соседнем кресле, правда мой случай оказался легче. Щеку Маше так разнесло, что если бы она водолазом трудилась, то шлем брать пришлось бы на три номера больше, если такие здоровые вообще выпускают. Я ей все это рассказывал, пока меня вежливо не попросили заткнуться.
Антон Германович на сольных выступлениях дочери чаще молчит. Ни свиста, ни криков «бис», ни вежливых ободряющих аплодисментов. Домашние выяснения отношений ему не интересны. Они предсказуемы, однообразны и напоминают потерявший смысл и заездивший содержание, по неясным причинам сохраненный обряд. Это только соседи за стенами ожидают добротного, обстоятельного, без слюней примирения скандала, втайне мечтая о драке или хотя бы битье сервизной посуды. Непременно сервизной. Недостаточно им обычной, разрозненной, с выщербинками там– сям, какую своим ставят.
Меня всегда занимало: какого черта своим, кого любим, кем дорожим, мы готовы всучить блюдце с отбитым краем, тогда как для посторонних – самое лучшее не столе? Вроде как, перед чужими в лучшем свете предстать, а свои – это свои, они и так все про нас знают? Наверное. Одно утешает: в мире с этой странной привычкой мы не одиноки, показуха – не только отечественный сюжет. По этой причине в зарубежных вояжах я редко бываю в одних и тех же местах, чтобы не привыкали, и вообще не стремлюсь сближаться с кем бы то ни было до рюмок со сколами. Даже если не уважают, говорю себе, то пусть делают это с шиком. Таков мой скромный вклад в воспитание человечества.
И сидят измученные ожиданием соседи, замерев у обоев, натертых ушами до сального блеска, скрещивают пальчики: «Ну давайте же, наконец. Ну сколько можно сопли жевать. Дать бы ей раза, заразе такой языкастой! «Золушка» она, мать ее.»
Все скандалы Антона Германовича происходят на службе. Частые. Ему их с лихвой хватает. Дома он наблюдает за происходящим, отгородившись книгой, газетой, иногда уткнувшись в телевизор, хотя телевизор мешает прислушиваться и можно прозевать момент, когда понадобится его вмешательство. Невмешательство будет чревато резкой переменой темы скандала, в результате чего обе женщины ополчатся против него. Такое уже случалось, и не раз.
Обычно мать и дочь примерно с четверть часа выдерживают набранный с ходу темп, каждая свой. Обе при этом строго отслеживают, чтобы роли не перепутались, следуют заявленному в программе сценарию: юность упивается безоглядными обвинениями, обличает, унижает, витийствует, в то время как зрелость сдержанно и с достоинством соглашается:
– Все правда, доча, все так и есть.
Про всепрощение и любовь вы уже в курсе.
Потом – покаяние с обеих сторон, слезы в четыре глаза, сопли в четыре ноздри, а Антон Германович отправляется на прогулку по «нетерпящему отлагательств» делу.
«Золушка. – злится он, стараясь не наступить в непотребное в темноте прилегающих к Тверской переулков. – Ходячее невезение, а молитвы все об одном и том же: чтобы нашлась тетушка-фея или дядюшка-фей и наградили бедную Золушку немеряной денежкой, настоящими упругими сиськами, износоустойчивыми, но главное, чтобы без имплантантов. Имплантанты – пошлость, для имплантантов феи не нужны. – передразнивает он дочь. – Тьфу! И все равно любимая. Вот же дура! А насчет виноватых, – нехотя соглашается, когда сам с собой – можно. – Насчет виноватых, тут не поспоришь, тут, пожалуй, права.»
Вернувшись домой, обнаруживает, что от его коньячной заначки остаются голубиные слезы. Жалуется потом:
– Что за бабы! Я ведь и спрятал с умом.
– С умом. Профи. – передразниваю и язвлю я. – Потому и просрали.
И не дожидаясь вопроса «что именно?», сам уточняю без обиняков:
– Все просрали. Вот и заначку теперь.
Сам не знаю, что говорю, просто обидно, тоже, между прочим, на эту заначку рассчитывал. По-соседски.
Почему вдруг именно Вацлавах
Почему вдруг именно Вацлавак. Он же – Вацлавская площадь в Праге вспоминается сейчас Кирсанову? Неужто брусчатка причиной? Она, родимая, что же еще. Маша тогда сломала каблук только что купленных туфель.
Переобулась сразу у кассы, под неодобрительные, исподтишка – «Ой– ой, прям сразу и в обновке.» взгляды случайно встреченных в магазине соотечественниц.
«Да пошли вы все. Хочу щеголять, и буду»
И на тебе. Через двадцать шагов – хрусь!
«Вот же глазливые стервы!»
Пожилой, исключительно вежливый продавец, сущая для советского человека невидаль, без дискуссий и пререканий объявил, что не видит ровным счетом никаких сложностей, в Италии, мол, тоже случаются проблемы с качеством, и запросто поменял пару. Пока примеряли замену, продавец не переставал галантно извиняться, слегка туманно по содержанию, потому как пытался говорить комплименты на русском. «Мила-а пани-и» так или иначе звучало обворожительно. На прощание он положил в обувную коробку тюбик крема редкого темно-вишневого цвета, как раз для купленных туфель. Поинтересовался:
– Мила-а пани-и хочет идти в новых?
Маша вежливо отказалась:
– Спасибо. Пожалуй, нет, не хочу.
– Тебя хочу, – шепнула Антону на ухо, краснея и благодарно целуя мужа в щеку, второй раз за одну и ту же, по сути, покупку; везучий. – Но сегодня, увы, никак. И зря мы затеялись с туфлями, извини, это все я, дура. Будто других проблем нет.
– Ма-аш, ну чего ты.
Странно. Им обоим бы радоваться – так легко и непринужденно все образовалось, само собой, а вечер вдруг раз – и впал в безнадежную грусть. С тех пор ни Антон, ни Маша не любят мощеные камнем пространства, будь то улицы или площади. Впрочем, Машу Кирсанову не манят и загородные прогулки по тропинкам, проселкам и бездорожью. «Люблю только асфальт!» – обожает она повторять свой коротенький «манифест». Так возвышенно окрестила собственное заявление – декларация, программа и принцип действий в одном слове. Понимай: все прочие граждане, с иными воззрениями, отдыхают.
– Но раньше ты так любила собирать грибы, – удивился, даже несколько растерялся Кирсанов, когда «манифест» был «опубликован» впервые.
– Раньше, Антоша, мы обожали лопать лисички и в головы наши дремучие прийти не могло, что лисички – настоящие пылесосы по сбору всякой гадости из почвы и воздуха, – пожимала плечами Маша, наводя Кирсанова на философскую мысль, что женщины меняются намного быстрее жизни. И жизнь вынуждена под них подстраиваться, поскольку нет у нее, у жизни, другого выхода – жить-то надо!
В злополучных туфлях Маша вышла раз или два. Разлюбила еще тогда, на площади, в одночасье, будто они обманули ее, подвели. И неважно ей было, что пара уже другая.
Темно-вишневые туфли старшая дочь Нюша сносила, когда нога доросла. Младшая, Ксюша, ей до слез завидовала. Тем более, что несмотря на два года разницы ростом младшая сестрица старшую превзошла, а ступня все маленькая да маленькая. Вот незадача… Зато платья мамины сидели на ней чуть ли не лучше, чем на самой Маше. Поэтому младшенькой и запрещалось строго-настрого «шарить по чужим шкафам», а старшей – по обувным коробкам. Нюша соблюдала правило, Ксюша – нет.
– Уж если берешь что, так хотя бы запоминай, будь любезна, где и как висело. И в кого бы ты у нас такая беспечная?
– В тебя, мусичка, ну не ругайся, пожалуйста!
– Ох, подлиза! И задавака! Ну-ка, ну-ка? Подойди-ка сюда. Чем это ты надушилась, золотко?
А тюбик. Ну, тот самый тюбик с кремом редкого темно-вишневого цвета. Его так никогда и не распечатали. Да и не вспоминали о нем. Старшей дочке он был без надобности, чем-то подручным «шрамы» замазывала, как– то обходилась, а скорее всего и не знала о том, что есть такой в доме.
Маша наткнулась на тюбик случайно, на антресолях, полгода назад, во время ремонта. Призналась Антону, что плакала, вспомнив. Не то, чтобы заново драму переживала, да и не было никакой драмы, просто подумалось вдруг: как давно все это было.
– Антон, ты посмотри, он же каменный.
Пока Маша ворошила коробки с кинопленками и налаживала допотопный проектор, Антон Германович сходил в гастроном и вернулся с полудюжиной чешского пива отечественного производства, ожерельем сарделек, выдававших себя за чешские шпекачки – такую легенду им смастерил Кирсанов. Сардельки-шпекачки не подвели, пиво тоже, все получилось.
Память подсказывает Антону Германовичу, что пражане называют свой булыжник «кошачьими головами», и он отмечает с иронией, что отнюдь не впервые в жизни шагает по «головам», про себя усмехаясь явной двусмысленности.
Неужто опоздал?
«Неужто опоздал?» – задается Антон Германович вопросом, что давно на очереди, но забитый какой-то – не позвали бы, так бы и затерялся среди других, опасаясь высунуться. Людей с такими качествами руководители любят, да и вопросы «нешумные» собственно тоже мало кого раздражают, поскольку ненавязчивые, и жить не мешают. Гораздо хуже другие, что не никак хотят совпадать с подготовленными ответами. Эти как грипп с осложнениями.
«Ну точно, Манежная уже перекрыта. Наколдовал себе новых трудностей жизни. Нечего было выпендриваться, пердун старый», – ругнул себя Антон Германович.
Это он о предложении «новенького зятька», свежеиспеченного мужа старшей дочери, подобрать где-нибудь тестюшку на машине, домой подбросить. Вроде как не трудно ему, даже вроде как в удовольствие. «Нет же: «Сам доберусь! А понадобится – служебную вызову». И спасибо не выговорил, пожадничал слово. Гордый! Сам с усам. Водителя своего сам же отпустил на день. Где-то там, на Манежной, толкается, активист, а сказал – к матери в Клин срочно надо, дров там нарубить, деньжат подбросить и вообще. навестить. Чего, спрашивается, врал? Ладно, активист он. Знает, что не люблю, вот и таится, балбес. А то, что врать начальству – верный путь вылететь к чертовой матушке на огород картошку окучивать – этого он не боится! Ну получит у меня завтра «на орехи». Врать вздумал. Откуда вообще знает: что мне нравится, а что нет? Слышит много? Длинноухие нам не нужны, менять надо водителя. И чего я вообще сюда потащился? Вот и водителя, считай, выгнал, как будто не знал, что мать его год как перебралась из Клина в Солнечногорск, к дочери. Права была Машка: сиди у телевизора в теплых тапках и смотри. Все и так покажут. По нескольку раз на каждом канале! Еще устанешь повторы смотреть. Подышать дураку вздумалось. Хорошая шутка – в Москве подышать. Атмосферу почувствовать захотелось? Чувствуй теперь. Как же. Прогуляюсь-ка я по Красной площади, а заодно гляну, что там на Манежной! Чего-то нам еще не известно, чего-то нам еще любопытно!» Тот Антон Германович, что про себя произносил эти слова, был ироничен, надменен и вообще – хоть куда. Тот другой, что все это безмолвно слушал. Неприятно ему было все это слушать.
«Хотел воздуха – вот и дыши теперь!» – командует себе зло.
И впрямь пару раз глубоко вдохнул. Осадил: «Вот же в самом деле болван!»
Опоздал.
Подходы к Манежной запружены, где-то там, за спинами – ограждение. Конечно, не препятствие для Антона Германовича с его «корочками» – «вездеходами», но проталкиваться, объясняться. «Да и стоит ли оно того? В самом деле, пройдусьл еще разок по кругу, раз уж притащился, а потом – через Васильевский на набережную, а там, даст бог, где-нибудь и такси словлю. Или битой по башке старой и бестолковой».
Легкий толчок под руку, случайный, «Простите!». Стайка молодых в натянутых поверх одежды майках – или жилетках? – с надписью «НАШИ». Не оглядываются на Антона Германовича, может быть, это вообще не ему.
«Не очень-то пунктуальны. Молекулы мирной гражданской войны, пока мирной… Или все же бациллы? – отвлекается он на новые предметы, это куда интереснее, чем себя, любимого, клеймить почем зря. – А может быть про войну я вообще загнул лишнего? Черт их разберет! Разные, наверное, встречаются в этой организации. «Наши». – и «хотелкины» и «могловы».» Так выразился один знакомый Антона Германовича, ему тогда не понравилось, поморщился, немало смутив собеседника. Теперь вот вспомнилось – и ни следа раздражения. Он еще раз повторил про себя: ««хотелкины», «могловы». А ведь ничего, недурно! «Хотелкиных» все равно больше, как и везде, как обычно. Этим все одно, где размножаться – что на воле, что в неволе».
Если по совести, то Антону Германовичу и движение «Наши» не по душе, и молодогвардейцы-единороссы, и прочие всходы ударной кремлевской посевной, продукты политического земледелия. Не каждый в отдельности, а все разом, в массе. Однако больше всего неспешно вышагивающего по Красной площади видного мужчину с офицерской или актерской выправкой, если в репертуаре наличествует военная тема, о котором при скудном освещении, обычном для этого позднего часа, можно сказать «моложавый», злят-бесят «небожители», что плодят все эти движения, объединения, швыряют им деньги, покупая сиюминутную лояльность юнцов. Те, пыжась от оказанного доверия, с готовностью откликаются на потребности старших товарищей, а заодно и подсматривают у них завидную жизнь, по наивности веря, что еще чуть-чуть, и такой же станет их собственная.
«Слишком много вас, а корытце с каждым днем мельчает и мельчает. Сколько голодных-то набежало! Что будет, когда своим умом допрете до этого, или подскажет кто вовремя, где чужих, не наших искать, что во всем виноваты? Вовремя. Для кого вовремя? И о ком ты все это, старик? Неужто о тех, кому все последние годы с отвращением преданно служишь? Эк развоевался. Гуса-ар! Нечего сказать.»
Антон Германович лезет в карман пальто за сигаретами, но они, как водится именно в таких случаях, преспокойненько поживают в другом.
«А зажигалка, черт ее подери, куда запропастилась?»
– Огоньку, отец?
Еще троица «наших».
– Хорошо бы, сынок. Век буду признателен.
«Вот и «сынок», сэкономленный на азиате, сгодился.
– С праздником тебя, отец!
Мог бы под дурака «закосить», поинтересоваться: «С каким-таким праздником?», но и без того противно. «Тебя.»
– Спасибо. Шустрее давайте, и так уже опоздали.
– Мы теперь все успеем.
«Своего-то понимания жизни – две чаинки на тазик, окрасить водицу и то не хватит, зато гонору хоть отбавляй!» – распаляется он, глядя в удаляющуюся спину «благодетеля» со товарищи.
Умом понимает, старый лис, что не в «наших» причина его нервозности и забившего гейзером обличительного запала. И даже не в их патронах и патронессах, распоряжающихся страной как удачным прикупом за ломберным столиком. В своей собственной тихой, унылой покорности. В том, что отдался целиком стабильно постылому ходу жизни. Жизни, в которой завсегда будет дураков без счета, что живота не щадя непременно порадеют начальству удобно собою повелевать, потому что неприкаянными они совсем уж беспомощны и никчемны. А так, глядишь, «отстегнут» им за заслуги должностенку какую на бедность и, глядишь, не дурак уже, сам начальник.
«Спасибо. Шустрее давайте. – юродствует Антон Германович мысленно над собой, так затягиваясь, что язык жжет. – Чего же поскромничали-то, Антон Германович, ради такой победы вполне можно было и в губы, взасос. Вот это праздник!»
От последней пришедшей в голову шальной идеи он аккуратно, внешне не вызывающе сплевывает. Впрочем, поводом могла стать и крупица табака, чудным образом пробившаяся сквозь все круги фильтра. Табак ох как не прост, с чертом дружит. Случается, одну табакерку на двоих делят. Не думаю, чтобы это Гоголь для кузнеца Вакулы черта в табакерке придумал, так сказать для компактного размещения лукавого. Есть поверье намного старше, что от табака черти силу теряют. И куда, интересно, она девается?
«Все равно какие-то они оголтелые.» – никак не получается у Антона Германовича справиться с собой, избавиться от не желающих отступать мыслей. Это «все равно.» – жалкая, не засчитанная попытка оправдать навязчивость мотива. Жалкая и неудачная. Так шлягеры проникают в мозг и селятся в нем, словно паразиты. Правда, шлягеры оккупирую жизнь не больше, чем на неделю-другую, потом дохнут.
«Родила царица в ночь. – непонятно к чему приходит ему на ум. – Еще одно поколение, пожертвованное. Не идее даже, лучше бы идее! Просто денежке. На говно разменяли. Вот и стала жизнь наша гуще, а народец пожиже. И причем тут царица? Искал бы сейчас зятеву тарантайку – лучше было бы? Кто его здесь парковаться пустит?! Бегай потом.»
Так и так не стоило с зятем договариваться
Так и так не стоило с зятем договариваться. Правильно, что Антон Германович отказался от услуг «новенького». Даже если бы повезло обоим – нашли друг друга, что вряд ли, – прел бы с ним битый час в пробках и молчал неудобно – говорить-то не о чем.
Говорить, наверное, все же было о чем – чего уж так-то. – вот только никогда бы они до общего не договорились. Однажды Антон Германович в разговоре с женой сгоряча назвал «новенького» Промокашкой: ничего, сказал, своего в голове нет у мужика, да и чужое, по большей части, нечетко. Правда, вынужден был согласиться с женой, через неохоту, что хотя бы про дачу зять сказанул удачно. Буркнул Маше в ответ, что было такое дело, потом уточнил: один единственный раз за все время, маловато для человека, а для Промокашки в самый раз.
– Дача, – напыщенно произнес «новенький» в первый воскресный визит на участок Кирсановых, – это место, где люди, одержимые погоней за карьерой и заработком, вымещают на природе злость от своих неудач.
И тут же прогнулся во избежание, без перехода:
– У вас, уважаемые, не дача. У вас – поместье. А природа-то какая! Ух какая. и слова не подберешь. Дочь тоже. То есть, все состоялось! Ну, в плане карьеры и вообще. И за сказанное!
Пил он хуже, чем прогибался. Так же настойчиво, и частил, но огоньку не хватало, задору. Потому еще до чая перекочевал на диван. Если не считать усилий дочери с тещей – а кто женский труд принимает в расчет? – перемещение «новенького» прошло почти добровольно.
– Неудо-обно, – сопел-мычал зять, пытаясь хоть как-то устроиться на бугристой поверхности и при этом не скатиться на пол. Не ясно было, о каким из двух неудобств ноет. В конец концов, инстинкты взяли свое, и он очутился в ложбинке под высокой диванной спинкой. Все Кирсановы знали про коварство этого места и хищнические нравы подпиравших снизу размякших пружин. Ночлег в странной позе давал знать о себе, как правило, поутру, когда наставало время разгибать ноги и распрямлять спину. Диван явно строили для недомерков, или для собак. Каждый участник застолья не отказал себе в удовольствии со злорадством – даже дочка, жена «новенького» отметилась – успокоить «уставшего» гостя:
– Удобно, удобно. Отдыхай.
«Хитрый засранец», – оценил его в тот раз Антон Германович. И угадал.
По мнению Антона Германовича, предшественник «новенького» сто очков вперед «засранцу» давал во всех смыслах. Зять с тестем, сговорившись, однажды даже на Валдай вместе смотались. По-тихому, почти на неделю. Отщипнули по несколько дней от отпусков в придачу к набежавшим отгулам, а женщинам своим, по неясной причине – скорее всего, из за растворенной в крови привычке конспирироваться, – сказали разное: зять выдумал командировку в Киров (мудро, потому что даже опытная женщина не способна придумать, что ей привезти из такого города), а вот Антон Германович сплоховал, про Ригу наплел. Пришлось у сослуживца срочным порядком бутылку бальзама по телефону одалживать, да еще упрашивать, чтобы на вокзал подвез, к поезду, к ночному, что было особенно неудобно.
Так ведь и не вернул Антон Германович должок. Когда вспоминает – стыдится своей необязательности. Правда, вспоминает все реже, несмотря на то, что емкость с целебным напитком – заметная, не похожая на другие, тоже заполненные полезным – по нескольку раз за вечер на глаза попадается, в баре стоит, целехонькая, ждет своего часа. А вот сослуживец сплоховал, умер, не дождавшись, когда у должника совесть проснется.
На Валдае родственнички отдохнули хорошо, душевно: водочка, костерок, ушица, еще водочка, байки. Антон Германович, сколько знаю его, всегда был по части трепа большим мастаком. Ему ведь о работе правду рассказывать не положено. С годами, поди, и метки уже подрастерял, или вытерлись они, как мех на изгибе воротника – «где она, правда?» А говорить с людьми надо, иначе не поймут, да и не в почете у нас молчуны за выпивкой. Вот так и выпестовал в себе талант балагура. Это, к слову сказать, его собственная, Антона Германовича версия. Я ни спорить не стал, ни глумиться. Думаете, не хотелось? Еще как!
Зять оказался на радость хорошим слушателем, впечатлительным, но немного, на вкус Антона Германовича, наивным. Возможно, «принятое на грудь» дало себя знать. Мог и подыграть старшему товарищу, благоразумно потешить тестево самолюбие. На охотах-рыбалках рассказчикам, даже таким многоопытным и внимательным, как Антон Германович, легко потрафить.
Они, что глухари на току, только себя и слышат. Опять же, магия живого огня, обаяние звезДной ночи…









































