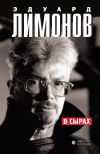Текст книги "Аркашины враки"

Автор книги: Анна Бердичевская
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Самая страшная
Назавтра была пятница, мой последний, прощальный рабочий день в з/у.
И я, конечно, снова пришла в мастерскую, полная высоких чувств. Ну и любопытно все же было услышать следующую историю.
На этот раз мы с дядькой столкнулись в коридоре з/у, когда он шел бриться в общественный туалет. Аркаша мимоходом передал мне ключ от мастерской и сказал:
– У меня для тебя подарочки. Жди.
Я открыла дверь, поставила чайник на плитку и стала ждать. Но почти сразу в мастерскую вошла Марья Федоровна с хозяйственной сумкой.
– Ты?.. – сказала она не здороваясь. – А дядька твой? Видела его?
– В коридоре встретила, он бриться пошел.
– Ладно. И хорошо, что я его не застала, он бы ругаться начал. Вот, передай ему.
Маруся достала из сумки две литровые банки и, ставя их на верстак, пояснила:
– В этой черная смородина, в этой черноплодная рябина… И чтобы жрал! Поняла? Это ему необходимое лекарство. Ведь сдохнет, а есть не будет…
Она безнадежно махнула рукой и пошла к двери. Но остановилась и еще сказала:
– Ну ладно, меня не слушает, врачей не слушает, может, тебя услышит… устами младенца истина глаголет. Уж ты поглаголь!. А уходить будешь, ко мне зайди. Расскажешь, как он.
Марья Федоровна ушла, а я осталась в недоумении – что за страсти вокруг варенья?
Но тревога на Марусином лице передалась мне, и когда Аркаша вернулся, я внимательно посмотрела на его выбритую физиономию. Лицо, как всегда, было одутловатым и бледным, еще и влажным. Похоже, он не только побрился, но и умылся, а полотенцем вытираться не стал. Может, оно в туалете оказалось недостаточно чистым. Полотенцами в мастерской служил все тот же «обтирочный материал», которым я мыла полы в з/у. Я оторвала свежее бязевое полотнище и протянула Аркаше. Он вытер лицо и посмотрел на бязь. И я посмотрела. По рыхлой мягкой тряпке ползло розовое пятно.
– Вы порезались?
Мой вопрос повис в воздухе. Аркаша отвернулся и, как шарфик, завязал обтирочный материал вокруг потной шеи свободным узлом. Даже с каким-то шиком. Я вспомнила Евгению Павловну с ее шелковым шарфом, серым, в розовую полоску…
Дальше все пошло почти как всегда. Дядька сел на свой стул, привычным движением потянулся рукой под верстак, но вдруг выпрямился, так ничего и не достав. Как будто вспомнив важное. Что-то в лице его изменилось. Щеки обвисли, и взгляд потух. Он разглядывал банки с вареньем, оставленные Марусей. Я начала было глаголить, объяснять, откуда они взялись, но он вяло отмахнулся и ответил скучным голосом:
– Да знаю я… это мое лекарство, а то сдохну… Ну, ладно, заваривай чай покрепче. И налей мне одну заварку. Пора Аркаше Косых сдаваться – переходить на черный чай с черноплодным вареньем.
Он сказал это так спокойно-спокойно, а во мне сердце дрогнуло. Дядька снял с гвоздя на стене черную и помятую кастрюльку с длинной ручкой, достал крышку к ней, тоже почерневшую, велел налить в кастрюльку воды до половины и поставить на плитку.
Все, что Аркаша велел, я поспешно и точно стала выполнять, как медсестра в операционной. Вода вскипела быстро, и тогда мой дядька достал из картонной коробки бумажный кубик индийского чая со слоном, велел его открыть и высыпать весь чай в кипяток.
– Закрой крышку, пусть покипит минут десять.
Я и это выполнила. Про чифирь я от мамы слышала, что это такая зэковская дурь, но варить не приходилось. Мама рассказывала, что настоящий чифирь пахнет пареным банным веником, так оно и оказалось. Только еще очень горьким пареным веником.
Я нашла в шкафу почерневшую фаянсовую кружку и вылила в нее черную жижу, придерживая и отжимая ложкой чаинки.
– Молодец, – сказал Аркаша. – А ты завари себе простого чаю и нажимай на варенье. Какое предпочитаешь?
Я предпочитала из смородины.
Вялый и печальный Аркаша покряхтывал и потел, попивая чифирь и закусывая черноплодкой, я уж думала, что ему сегодня не до историй. Но минут через пятнадцать он вытер своим обтирочным шарфом пот со лба и снова посмотрел сначала на бязь, потом, чуть веселее, на меня.
– Ничего, – сказал он. – Пока живы, не помрем! А помрем, так хоть пожили. Что тебе первее хочется – подарок или неприличную историю?..
Я выбирать даже не попыталась – Аркаша сделал выбор сам:
– Значит, слушай. Как говорила моя любимая девушка-музыковед Оля Спиридонова, начинаем третью часть Марлезонского балета.
Он вдохнул побольше воздуха, выдохнул и начал даже как будто весело.
О ТАЙНАХ ТАЙНОГО АГЕНТА
…Значит, отчислили меня из карагандинской разведшколы и отправили в Москву. Ну как же, у меня же в Москве «рука» – товарищ Шарафутдинов. А все же не верится. Еду я поездом, размышляю и на всякий случай опасаюсь – чего этот красный командир Шара на этот раз со мною исделает. Еду в общем вагоне, в затрапезном штатском виде, мешочником без мешка. И без документов. Но с предписанием совершенно непонятным. На одной стороне бумажки адрес: Лубянский проезд, 10, подъезд 4. А на другой стороне слова: «податель сего», а дальше абракадабра из букв и цифр, типа «господин-420», но гораздо мудренее и, конечно, без всяких «господ». Ну ладно, думаю, отправлюсь я с вокзала на этот самый Лубянский проезд, а там будь что будет. Но на Ярославском, не успел я на московскую землю кирзовый сапог поставить, как взяли меня с двух сторон под белы ручки два добрых молодца и куда-то на трамвае повезли. Ехали долго. Улочка тихая, вроде окраинная, названия нигде не видать, темная подворотня, у входа в нее мужик пьяненький сам с собой бормочет, за подворотней дворик глухой, квадратный, посередке «грибок» с песочницей без песка, под грибком тоже мужик сидит, ничего не делает. Вкруг двора четыре дома – трехэтажные, обшарпанные, часть окон заколочено, и не скажешь, что мы в Москве, районный городишко какой-то. Зашли в один дом, поднялись по замызганной лестнице на третий этаж, там кривая дверь на одной петле висит, так что сбоку щель. Чую, кто-то на нас из щели смотрит. Дверь открылась… и началась моя новая безымянная жизнь.
Встретил нас старичок с бородкой и в очках. Один из моих конвоиров спросил:
– Константин Иванович дома?
Старичок отвечает:
– С утра на дровяные склады ушел, обещал быть к обеду.
– Тут его племянник из Ярославля приехал. Переночевать ему надо.
Старичок на меня глядит, слова говорит ласковые, но голосом безразличным:
– Ждем, ждем, проходи, племянник Петя, гости у нас хоть три дня, хоть тридцать три.
И я прошел, понимая по своему разведобучению, что весь этот трёп – сплошная липа: одни пароли, отзывы и азбука Морзе, ничего больше. И бородка на старичке клееная, и очки фальшивые, а сам он не старичок вовсе, а чемпион по самообороне без оружия, неизвестно какого звания, возможно, майор. В общих чертах оказался я прав. Конвоиры мои ушли. Старик в той же конторке меня покормил из двух алюминиевых кастрюлек горячим рассольником и макаронами по-флотски с американской тушенкой, и чаю налил из чайника, затем подал многократно сложенную карту, оказалось, что Москвы. Потом повел меня в другую комнату и на кровать показал.
– Сегодня спишь здесь. Перед сном изучи эту карту вдоль и поперек, от того, как изучишь, жизнь твоя зависит.
И вышел, дверь притворив, но щель оставив.
Кроватей там стояло четыре, у каждой – тумбочка. А еще шкаф трехстворчатый с зеркалом, понимаю так, что один на четверых постояльцев. Но никто больше в комнату не вошел. И сидел я на указанной койке часа три, изучая столицу по карте. Ну, это я умел и не позабыл. Нашел Лубянский проезд, и площадь Дзержинского, и Красную площадь, и Чистые пруды, и Садовое кольцо, и Бульварное. Да и всю карту со всеми названиями будто сфотографировал. Спать лег, как стемнело. На рассвете будит меня мой старичок, только помолодел слегка – ни бороды на нем, ни усов, только очки. Трясет меня за ногу и говорит:
– Петя, пора. Тебя дедушка ждет!
Я спросонья спрашиваю:
– Какой еще дедушка?
– Родной. Там увидишь. А меня Константин Иваныч зови. Считай, что я с дровяных складов вернулся. Можешь и дядей Костей звать. Вставай, брейся, умывайся…
Когда я из санузла в комнату с кроватями и шкафом вернулся, ни одежды моей на тумбочке, ни сапог кирзовых под кроватью нет. Старик без бороды, Константин Иваныч, на меня смотрит хитро, подходит к шкафу и спокойно так три раза в дверцу стучит. А из шкафа мужик выходит. Как в сказке «Трое из ларца», только пока один. Ну, думаю, где один, там и три. Мужик стоит и не мигает даже. В правой руке у него вешалка, на которой б/у мундир младшего лейтенанта – гимнастерка, погоны, портупея с ремнями, галифе. А в другой руке сапоги хромовые, до блеска начищенные. А на голове у мужика – фуражка военлета с голубой тульей. И оказывается, что эта фуражка тоже мне.
Дядя Костя по плечу меня хлопает и смеется:
– Да одевайся ты, черт. Опоздать рискуешь.
Я перед зеркалом нарядился, как актер в театре, лицо изобразил скромное, лейтенантское, деловое.
Дядя Костя спрашивает:
– Куришь?
Отвечаю:
– Если угостишь.
Он достает пачку «Беломорканала».
– Карту изучил?
– Вполне, – говорю.
– Ну и ступай по указанному в своем предписании адресу. Там в дверях будет такой же, как ты, младший лейтенант стоять. Ты к нему подойдешь и скажешь: «Тезка, огонька нет?» Он тебя спросит: «Что куришь?», а ты ему в точности ответишь: «Предпочитаю «Казбек», но в наличии «Беломорканал». Угостишь его папироской, он тебе даст прикурить и пропустит. Поднимешься на лифте на шестой этаж, выйдешь из лифта – перед тобой дверь сама откроется. Кто тебе откроет, тому отдашь свою бумажку. Дальше – как бог даст и начальство скажет. Всё запомнил? Учти, если за полчаса не доберешься, если в вопросах хоть слово перепутаешь – считай, что тебя на свете нет, да и не было никогда. При провале сюда не возвращайся. Ума хватит – вербуйся в глушь, или укради чего, или как хочешь. Но, думаю, тебя отыщут. А теперь полезай в шкаф. Время пошло!
Открыл он створку, я в нее шагнул, дверца за мной закрылась, а передо мною открылась. И вывалился я из шкафа в другую, следующую, жизнь. Там комната высокая и светлая, за столом тот мужик, что на стук из шкафа вышел, чай пьет. С сушками, как вот ты… Посмотрел на меня, говорит: «Тебе туда». Прошел я коридором, спустился по чистой лестнице, вышел из дому… только и дом, из которого вышел, был не трехэтажный, а пятиэтажный, и улица не та, и табличек с номерами на домах нету, и трамвай по ней не ходит… Где я?.. Ну, думаю, пропал. Однако через полчаса стоял я у четвертого подъезда десятого дома в Лубянском проезде, угощал «тезку» – младшего лейтенанта – папиросами, ни одного слова не перепутав. Так-то.
Предписание свое отдал старушке, похожей на Крупскую. Потом я несколько часов провел в каком-то чулане пустом и без окна, просто на стуле сидел в ожидании сам не знаю чего. Не ел со вчерашнего, а и есть не хотелось. Воду пить – в туалет, ближайшая дверь по пустому коридору. Пью из-под крана много, от лишней воды освобождаюсь там же, в туалете. И снова в чулан, на свой стул.
Чего-то я там всё думал, думал… Про штрафбат, к примеру. Боюсь ли? Ну, убьют. И чо? Война ведь! Смерть – норма жизни. А вот боюсь, что мой геройский папа узнает, что я не добровольцем, а чуть не предателем, да под конвоем, да с позором в Красную армию загремел… Ведь помрет от любви и горя. Любви его боюсь, в которой до ненависти один шаг. Контуженый старовер-большевик, понимаешь?.. Но чего-то еще больше боюсь. Неволи вечной? И тут же, в чуланчике, уже вовсю тоскую по воле. По березовым рощам, по гармошке, по хорошей моей Катьке Лабутиной. Ведь никогда больше, никогда этого не будет, хоть в штрафбате воюй, хоть в чулане на стуле сиди… Правильно зэки говорят, когда клянутся о серьезных вещах: век воли не видать!.. Чего страшнее-то?..
Однако дождался я, Крупская заглянула в чулан и сказала:
– Пройдемте со мной.
И пошли мы тихонько по коридору пустому и темноватому, а в конце свет. Эта старенькая Крупская еле ноги передвигала, так мне казалось. Добрались мы до конца, там хоть и свет, а тупик: в одну сторону эркер, из которого закатное солнце бьет, по другую – дверь высокая, не как все остальные, а дубовая, двустворчатая, с ручками медными и начищенными. Я на свет божий глянул. Ты знаешь, что такое эркер? Ваше поколение, хоть вот-вот и будет жить при коммунизме, про эркеры не ведает. Знаешь?.. Ах, да, у тебя ж мать чуть не архитектор. В общем, углубление в стене и окно в нем. Глянул я в окно, а там закат в полнеба, и площадь Дзержинского глубоко внизу, машины крутятся, а подальше, меж высокими домами верхушки кремлевских башен видны. Впечаталось в меня это зрелище. И снова я про отца подумал, знал бы он, что я, его Аркашка, вот сейчас Кремль вижу…
Слышу голос старушки:
– Молодой человек, помогите дверь открыть.
Я, конечно, помог, дверь тяжелая. И вошли мы в приемную. Моя Крупская на своих тяжелых ногах за столик с печатной машинкой проковыляла и села. Отдышавшись, скомандовала:
– Проходите в кабинет, вас ожидают…
В кабинете этом, не таком уж и большом, сидел за письменным столом с зеленой лампой усатый человек в кителе. Над ним портрет другого усатого человека в кителе, Сталина. Я вспомнил, что на мне форма лейтенанта и фуражка с голубым околышем, рука сама к козырьку пошла, честь отдал и каблуками щелкнул. А что сказать, не знаю и молчу.
– Так вот каков ты, сын Семена Косых! – сказал человек за столом.
И я понял, что стою перед самим товарищем Шарафутдиновым. И произнес он огорченно:
– На отца не похож.
Он тоже не был похож на того безбашенного Шару, про которого мне отец рассказывал. Тот мог сгоряча шашкой снести голову врагу революции. Этот же – рыхлый, невеселый, и рот капризный. Ну вот совсем он мне не понравился. И ничего интересного не сообщил. Пару раз высказался матом по поводу моего поведения. Еще сказал, что отец у меня герой. Я и так знал. Спросил, чем я увлекаюсь, я ответил – фотографией. Он похвалил. Встал, подошел ко мне. А я, хоть и не великан, рядом с товарищем Шарафутдиновым почувствовал себя великаном. Отец раненого Шару через пустыню нес. Такого бы и я вполне мог, пожалуй… Он стоял близко, пах хорошим табаком и вроде коньяком. И так мне выпить захотелось. Но он не предложил. Сказал, что проверку я прошел, признан годным к службе, и чтоб отправлялся туда же, где ночевал, и чтоб слушался приказов «дяди Кости». Я уж честь отдал, чтоб уйти, стою – рука у козырька. А Шара меня по погону похлопал. И вижу, в узких глазах Шары слеза стоит.
– У меня, знаешь, деток нет, – говорит. – Напиши отцу. Мол, воюешь. И звание свое можешь назвать – младший лейтенант, а вот что летчик – этого не надо. Ты, Аркаша, свое отлетал. Больше прыгать с парашютом тебя не пошлют.
Так он мне сказал, и я поверил. С тем и ушел. И отцу не написал ничего. Что попусту врать? В шутку или по делу соврать могу. А так-то обычно честный.
И стал я честным тайным агентом. Главное для меня было – не знать, почему и за кем слежу.
Вначале нравилось! Москва – город интересный, я про него все узнал. И в театрах побывал, даже в Большом, и в консерватории, и в Третьяковской галерее, где иконы Рублева, да и наши, рябовские «Три богатыря», рассмотрел их внимательно. Неплохая вещь. Но меня Врубель потряс. Каждый день я гримировался и переодевался, что твой народный артист. И бегать приходилось, и прятаться. Газетами с дырками для глаз я тоже пользовался – вообразил, что сам придумал. А еще в «Шерлоке Холмсе» об этом Конан Дойл писал. И казенным фотоаппаратом «лейка» с бесшумным спуском пользовался в свое удовольствие. Молодой был. И смешно, и страшновато случалось, во всех складочках столицы побывал, где мразь и грязь, где хрусталь и мрамор… Но мамаша твоя совершенно права – и на тайных агентов есть тайные агенты. Я это быстро почуял и ухо востро держал. Работал справно. «Дядя Костя» молча меня одобрял. Но не долго, года полтора-два.
Один, всего один только проклятый раз оказался я в деле при задержании. Тут и покатилась жизнь моя в пропасть, а душа в ад.
Была у меня под наблюдением барышня, очень мне нравилась. В консерватории училась, письма на фронт то ли отцу, то ли брату посылала, получала ответы, смеялась и плакала. А я – наблюдал. Был у нее и любимый человек. Немолодой уже, секретный физик. Я за ними обоими приглядывал, изображая из себя лейтенанта в потрепанной форме, типа фронтовика в отпуску по ранению с рукой на перевязи. И не больно-то скрывался, легенда у меня была, что я в эту барышню тайно влюблен. А так ведь и было. Она в Хлебном переулке жила, в полуподвале, окошко почти вровень с землей. Я на ее подоконник то ландыши, то сирень подбрасывал – весна была. Ну и не без ревности наблюдал, как ее физик к ней захаживает. И злился все больше. Вот однажды не выдержал и проявил, понимаешь, инициативу. Утром он от нее ушел, а я возьми и доложи, кому всегда докладывал, что физик к барышне пришел с папкой-скоросшивателем, а ушел – без папки. Соврал-таки, сука. И не в шутку, и не по делу. Шеф мой оживился, велел бежать обратно в Хлебный и с ее дома глаз не спускать. А сам сразу позвонил своему шефу, прямо при мне (чего никогда прежде не было). И что-то мне вдруг поплохело!
Как муху сортирную съел… Однако побежал, раз велено, в Хлебный переулок, наблюдать. А меня уже и за живот хватает. По кустам сирени скрываюсь и, уж извини, гажу там, как отравленный. И вот под вечер гляжу из куста, воронок подкатывает. Выходят из него трое, в штатском, а шаг военный. Барышня моя дома и одна, точно знаю, в окошке свет тлеет. Зашли эти трое в низенькую дверь, все тихо. Жду. Не меньше часа. Стало быть, у нее там обыск. О, господи ты мой боже. Не было в моей жизни ничего позорней и чернее того часа. И никогда этого уже не поправить. Лучше б я о пустыню разбился!
Наконец, выводят мою барышню, она в плащике, с узелком крохотным, значит, с вещами на выход и – безвозвратно. Я рот себе заткнул, чтоб не завыть. Увезли ее. Оружия у меня не было, а то б застрелился, Иуда, на хуй. И веревки не было. Пошел да напился так, чтоб умереть. Но выжил.
Аркаша сидел потный, с глазами темными. Таким дядьку я и представить не могла. И тошно мне было с ним, от него. Он встал, сорвал с шеи бязевую повязку, будто она его душила, и выскочил из мастерской. Я взяла бязь с верстака, а она влажная и вся в разводах розовых. Да что же это!
Он вернулся минут через двадцать, умытый, тихий, глаза прячет. Я чувствую, что надо бы мне уйти, а уйти не могу. Как такого, еле живого, бросить?..
Дядька сел. И сказал:
– Ладно, потерпи. Должен я досказать. Вся-то история длинная, так что уж я галопом по Европам буду. На хрен эти подробности.
И рассказал.
О БЕСАХ
– Что с этой барышней и с ее физиком дальше было, не узнавал и не знаю. Продолжал поганую свою работу, как зомби или вурдалак. Но при любой возможности в рюмочную или пивную забегал. Пил ежедневно, и не то что теперь, а много. Но по-тихому. Сходило с рук. И вот посылают меня следить за каким-то приезжим. Слежу за ним. А приезжие имеют обыкновение уезжать, так что идет он на Казанский вокзал и встречается там с другим приезжим, который ждет его на втором этаже, в ресторане. Ресторан в Казанском вокзале был шикарный. Высокий, с колоннами, скатерти крахмальные. Нам по нашей службе денег под отчет много давали, и одежду, и форму – любую, в разных местах по Москве специальные склады были. Я мог и полковником, а при необходимости и генералом нарядиться. В тот раз был штатским. Шляпа, усы и очки. Столик выбираю за колонной от моих подопечных, все мне при желании видно и всегда слышно. Болтают они всякую чушь. Я из-за колонны снимки своею бесшумной «лейкой» делаю. И подзываю официанта. Заказываю графин водки и порцию селедки иваси. Сижу, выпиваю. Графинчик скоро кончается. А я совсем трезв и плохо мне, черная тоска грызет. Заказать еще водки? Мои-то подопечные уже третий графин уговаривают. Всё же, думаю, надо бы на себя посмотреть, как я выгляжу. Спустился по парадной лестнице на один марш, там зеркало во всю стену. Поглядел на себя – отвратного вида мужик. С усами, в очках и в шляпе. Но трезвый. Поднялся снова в ресторан, шляпу, пальто снял, на стул положил. Мои по-прежнему чушь несут, довольно пакостную, но не по воровской и не по шпионской части, что-то про баб. Заказал я новый графинчик и соленых огурцов к нему. Не заметил, как выпил, а огурцы остались. Я снова к зеркалу, осмотрел себя пристально, вижу усатого мужика без шляпы, с усиками и в очках, не старого, но уже лысеющего, глаза блудливые, настоящий бес. Но трезвый. Вернулся, заказал, выпил. И еще бегал, и снова пил, и в какой-то момент отпустила меня тоска… Стало мне хорошо и беспамятно.
Очнулся я от головной боли. Не голова, а нарыв. И «тукает», именно как нарыв. Вижу – лежу в огромном кабинете с лепным потолком, на черном кожаном диване, и не абы как, а как в литерном вагоне – на белой крахмальной простыне и под одеялом с пододеяльником. Язык пересох, в горле ком. Помираю. Пытаюсь простонать, прохрипеть хоть что-нибудь. Не выходит. Но вдруг склоняется надо мною глупое лицо, вроде знакомое. Человек в белом пикейном пиджаке и с подносом в руке. На подносе граненая стопка и тарелочка с огурцами. Я ж такие в ресторане и ел, малосольные! Мотаю головой, не хочу, мол. Официант кивает, исчезает и появляется вновь. На подносе стакан чаю в подстаканнике МПС66
Министерство путей сообщения.
[Закрыть]. С лимоном. Я пью, и голос возвращается. Спрашиваю – где я и как меня звать. Официант отвечает, что как звать, не ведает, а лежу я в кабинете начальника Казанского вокзала и что скоро за мной приедут… Кто приедет? – спрашиваю. И вдруг сам понял кто. Бесы! Даже от ужаса сел и ноги с дивана опустил. Обнаружил, что на мне только майка да трусы. Официант видит мое недоумение, говорит, что все в чистке и вот-вот принесут. И еще говорит – опохмелиться все же надо. Я совет принял, стопку выпил, огурцом закусил. И вспомнил, как бегал по лестнице на себя в зеркало глядеть. Официант подтвердил, так и было. Рассказал, что подопечные мои напились и лицами в закуски упали, я же держался порядочно. Потом встал и пошел. На улице дождь, пальто со шляпой я на стульях в ресторане бросил. Мою шляпу и пальто осмотрели. Внутри шляпы был химическим карандашом написан номер, на пальто пришита казенная бирка, а во внутреннем кармане мой жетон обнаружился… В ресторанах, особенно вокзальных, народ всегда опытный. Завзалом послал официанта доложить дежурному милиционеру о пропаже клиента, а сам сообщил о происшествии начальнику вокзала – все ж не простой клиент, тайный агент пропал.Отыскали меня на запасных путях, возле стрелки. Я лежал щекой на мокрой рельсе, на ней же отдельно лежали усы. И разбитые очки между шпалами. Четыре железнодорожника отнесли меня в кабинет начальника.
Да, немыслимое уважение ко мне, пьяному безымянному шпику, было проявлено. Начальник огромного столичного вокзала – это ж не меньше, чем полковник, скорее даже генерал… А уж генералы не глупее официантов и знают, что тайных агентов, даже пьяных, за жабры брать и потрошить не надо. Что я за птица, какими опасными тайнами владею – кто знает? Только ведомство мое и знает. Пусть оно и разбирается.
Но и мое ведомство не очень хорошо понимало, что я за птица. Засланный я был казачок, как бы и не «свой». Может, и подсадной – от высокого начальства, от товарища Шарафутдинова. Приехали за мной и вернули туда же, к «дяде Косте», он под замок меня посадил, но слова грубого не сказал. Даже в зубы не дал. Неделю я сидел, вернее, лежал на койке мордой к стенке. Депресняк был полный. Потом отправили меня на воронке поздним вечером в неизвестное место. Обыкновенный жилой дом в Лефортово. Конвойный на лифте до квартирки секретной меня доставил, завел в прихожую и ушел. Слышу голос хриплый:
– Входи, сучий сын.
Вхожу, а в гостиной товарищ Шара, глаза красные, в кресле сидит и коньяк пьет. Сам в халате. Он меня минут десять матом крыл, а меня – нет, не брало. Для меня это уже давно ничего не значило. Отматерившись, говорит даже как-то удивленно:
– А ты, Аркаша, с первого раза изменился… сильно сдал.
Я соглашаюсь, а сам думаю: ведь и ты, дедушка Шара, на своей треклятой службе не похорошел. Отец мой, хоть и без уха, тощий и припадочный, но человек, а ты – бес…
А товарищ Шарафутдинов продолжает рассуждать:
– Слух о тебе по управлению пошел. Тебя сейчас, Аркадий, либо надо под расстрел списывать, либо упрятать куда с концами.
Ну, думаю, лучше под расстрел.
– Понимаешь, ты у нас в кадрах. С твоими проделками дело на тебя заводить – смех и грех, анекдот на анекдоте. Травить тебя тайно или топить – это только новые глаза и уши привлекать. И чего это, скажут, Шарафутдинов за муравьем гоняется?.. Так и до меня, и до твоего отца доберутся. И зачем мне, в самом деле, эта суета?..
Так он вслух размышляет и смотрит на меня со скукой. И подводит итог.
– Нет. Всего этого не будет. Мы позориться не станем. Мы тебе, сыну героя, выдадим характеристику геройскую и отправим в другое подведомство нашего ведомства… за высокую стену… чтоб никто тебя за нею впредь не увидел. В самое сердце Родины спрячем. Кремль будешь охранять, Аркаша…
Честно сказать, я не поверил. Подумал – темнит Шара, все равно расстреляет. Однако вернули меня к «дяде Косте» в нашу мелкую конторку. Он на меня поглядел с интересом и выдал характеристику, в которой я – самый инициативный работник подразделения, вскрывший в центре столицы СССР группу шпионов-диверсантов, охотившихся за советскими научными разработками оружия новейшего типа. И еще я, проявив отвагу, особо отличился при инциденте на запасных путях Казанского вокзала, обездвижив двух неизвестных злоумышленников и получив при этом сотрясение мозга.
Перед тем как я покинул подразделение «дяди Кости», он же вручил мне еще и почетную грамоту, подписанную товарищем Берией. Лично.
Так я попал в охрану Кремля. От караульной службы меня освободили, по случаю сотрясения мозга я стал писарем. И начал со скуки к праздникам стенгазетку «Красный воин» выпускать и лозунги для красного уголка писать. А потом и портреты девушек по фотокарточкам для сослуживцев рисовать – ребята у нас были здоровенные, деревенские, тосковали сильно. Наконец сподобился большой портрет Багратиона в красном уголке писать на настоящем холсте. Работал вечерами, допоздна. Вдруг однажды ночью заходит небольшой и лысый, в круглых очках. Китель расстегнут, руки в карманах. Подвыпивший. Вылитый Берия. Один-одинешенек, без охраны. Ну быть не может! Стоит за мною, смотрит молча. Я было повернуться, отрапортовать. А он говорит с акцентом: «Нэ отвлекайтэс, товарищ, работайтэ. Хорошо получается!» Это он о моем Багратионе. И ушел, напевая. А через какое-то время меня перевели в личную охрану Берии. Там уж не деревенские работали, мужики сухие, мускулистые. Но тоже ведь люди. И портреты жен-матерей им были нужны. Мне комнату дали, по кремлевским масштабам – каморку, метров двадцать. Я там трудился, мастерство совершенствовал. И Лаврентий Павлович любил изредка ко мне заходить. Звал Аркашей, кисточку попросит и где-нибудь подмажет нужным цветом. Пуговицу на груди у дамы обведет, даже в глазу искру белилами я ему разрешал ставить.
Тихо там, в Кремле, было. Что я в этой тишине чувствовал? Сам не знаю. Близ царя, говорят – близ смерти. Еще, однако, говорят – как царь с нами, так и мы с царем. Он мне – Аркаша, я ему – Лаврентий Павлович…
В начале пятьдесят второго из Рябово мне пришло известие, что маманя моя при смерти. Нет, не отец написал, как-то по ведомственным каналам было сообщено. Берия про каждого из нас, кто в его охране служил, знал всё. И он мне сам лично сказал: «Отпуск даю, поезжай. Только сильно НЭ ПЕЙ». И улыбнулся, посмотрел сквозь очки ласково. Не только отпуск дал, а полный чемодан продуктов выдать повелел.
Мать я живой не застал… Однако без меня не хоронили. На поминках выпил я крепко. Но остановиться смог. Помню, отец на меня и на кладбище, и на поминках как на чудо заморское смотрел – сын Аркашка в офицерской форме приехал, старший лейтенант, в Кремле служит! Но соседям не хвастал и вообще помалкивал. И всё плакал по мамушке моей. А я плакать не мог.
Зато сейчас вот все реву и реву…
Действительно, слезы так и катились из глаз моего дядьки, он опустил мокрое лицо на руки, и плечи его дрожали, и всхлипывал он, и опущенной головой мотал, бормоча что-то невнятное. Я протянула руку через верстак, положила ему на плечо. Плечо перестало дрожать, Аркаша затих. Когда поднял голову, лицо его было хмуро и мокро, он снова вытер его бязевой тряпкой и снова убедился в розоватых свежих разводах, а старые, утренние, уже побурели. Потянулся было под верстак за чекушкой, но передумал.
– Завари-ка мне снова «слона». Будем Марусю слушаться.
Я заварила. Аркаша молча дождался, зачерпнул столовой ложкой черноплодное варенье и стал потягивать чифирек. Страшная бледность постепенно прошла, он стал похож на себя обычного. И закончил свой рассказ тихим голосом, не глядя на меня.
ИСТОРИЯ ПОСЛЕДНЯЯ
– Что там еще-то было? И много, и будто ничего. Две недели после похорон жил дома. Вернулся в Кремль, сидел там за высокой стеной тихонько, бухгалтерию вести доверили, в редкие увольнения по музеям ходил, нашел в Пушкинском музее изящных искусств женщину приятную, одну из тех, что в музейных залах в углу на стульчиках сидят. Мы с нею с разрешения Берии поженились. Домой к ней на квартиру коммунальную ходил я редко, хотя вроде и любил жену-то. И сейчас люблю.
Как-то Берия мне говорит:
– Ты, Аркадий, помню, отличился в деле о предателях-ученых, разработчиках новейшего оружия. Пора тебе снова заняться наукой.
Оказался я на полигоне в городе С. А потом и в в других местах – в Ч., в П. и в Х. Подвергся я там по своей же глупости и необразованности нескольким научным экспериментам с мирным и не мирным атомом… Попал в настоящий, в секретный госпиталь. Профессор сказал, что сейчас не умру, но детей у меня не будет. Что не мужик я. Амба… Так мне наука за мой смертный грех отплатила.
Удивительно, но в том госпитале я за собой заметил, что стал женщин и замечать, и любить, и жалеть, как никогда раньше. И за это все нянечки с горшками и «утками», все сестры со шприцами и таблетками, даже и некоторые профессорши в очках мне улыбались.
В общих чертах, меня подлечили, сказали, что к кабинетной службе годен. Снова в Москву, в Кремль, я угодил в конце зимы пятьдесят третьего. Из-за кирпичной крепостной стены мало что слышно. Давно куда-то сгинул мой дедушка Шара, может, на пенсию, может, помер. И про «дядю Костю» никогда я больше не слыхал. А вдруг и Сталин пятого марта помер. Не знаю, своей смертью или нет. Одно точно: шеф к нам зачастил, при встрече со стариками вроде меня руку жал и уже всех звал по имени. Нормально мы к нему относились. Ничего плохого, кроме хорошего, его охрана от него не видела. Но, как оказалось вскоре, отдать за него жизнь, ринуться с автоматами на танки мы готовы не были. Не тот случай… Но все же постояли с автоматами несколько часов на Кремлевской стене у древних бойниц. И я, хоть и был канцелярской полудохлой крысой, стоял с сослуживцами, видел, как на Красной площади в грохоте и дыме танки строились. При моей-то зрительной памяти номер каждого танка вспомнить могу. Но не хочу…
Уж как с Лаврентием Палычем было закончено – до сих пор точно не известно. Но и нас, служивших в его охране, всех загребли, каждого оценили, как водится, по заслугам. Мне припомнили почетную грамоту, лично Берией подписанную. Но учли и то, что, судя по этой грамоте и по характеристике, «дядей Костей» сочиненной, был я полный герой – жопа горой.
«Судьба играет человеком, она изменчива всегда…» Удивительно, но через несколько месяцев, проведенных в КПЗ, я был отправлен в бессрочную ссылку на родину, в деревню Рябово. Герой-сын к отцу-герою вернулся. Правда, в сопровождении охраны из двух автоматчиков-новобранцев.
От такого счастья моего папу хватил кондратий. Он же меня любил.
Парализовало его немедля, как увидел сына в шинели без погон, в фуражке без кокарды, стоящего в дверях в сопровождении двух архангелов в белых полушубках, с автоматами. Декабрь был, снег стеной валил…
Пока отец жил, а протянул он еще два года, мы с парнями срочной службы внутренних войск лишних движений не делали, даже не трепыхались. Охрана моя аккуратно получала свое воинское довольствие и командировочные на постой, отцу пенсия и пособие приходило, мне – паек арестантский в денежном выражении, жили сытно все вместе в нашей избе. В Рябове оказались чуть не богаче всех, даже председательши колхоза Катерины Захаровны Лабутиной. Она мою избу стороной обходила, один только раз и виделись.
Потом мои стражники по дембелю отбыли. Один в свою Бурятию, второй женился на рябовской девушке, переехал к ней, ребеночка они там родили. И позвали меня в крестные отцы. Я пошел. Церкви в деревне давно не стало, крестили дома, попа привезли издалека. Я, как сын старовера и революционера, попов не уважал. А этот понравился, молодой, тощий, в чем душа. И точно – верит. И в Отца, и в Сына, и в Святого Духа. Стал я выполнять, что там положено, смотрю на попа и думаю – есть же люди! Свободные. И велел этот попик мне, крёстному младенца, когда по службе будет он говорить о нечистой силе и всяких бесах, а потом вопрошать душу младенца: «Отрекаешься?» – трижды твердо отвечать: «Отрекаюсь!»
И вот стал поп вопрошать, а я твердо и даже громко от лица и души младенца стал отвечать – ОТРЕКАЮСЬ! А на третьем разе, как прошибло меня, – вдруг заревел во весь голос и со слезами! Я, подлый, не то чтобы тут же уверовал, но и от бесов во имя младенца Павла точно отрекся.
Так и стал жить. Не то чтоб провославный христианин, но стал дышать, на людей и в небо глядеть, еще старинные староверские книги из сундука достал и по вечерам стал их читать сам себе. Трудно было разбирать, но как-то кой-чего понял. Особенно протопоп Аввакум сильно и внятно действовал. Длилось это с полгода. Я уж думал, не выписать ли мне мою тихую жену из Москвы, да и обвенчаться с нею. Что ж, что я не мужик, зато свободная живая душа… Но не успел. Одного, без папаши, без стражников моих, в пустом доме опять взяла меня тоска – совсем нечего было мне в Рябове делать.
Я заметила, что голос Аркаши стал слабнуть и голова клониться на сторону. И все же он продолжал.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?