Текст книги "Токио. Колокола старого города"
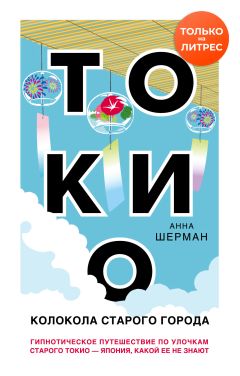
Автор книги: Анна Шерман
Жанр: Путеводители, Справочники
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Когда руины оказались на поверхности, строительная компания стала настаивать, чтобы всемерно ускорить возведение дома престарелых.
– Я обратился в столичный муниципалитет с просьбой, чтобы тюрьму сохранили. Но там сказали, что сохранить оставшееся не в их власти, этот вопрос в ведении администрации района. Прибыли археологи для изучения развалин. За сохранение остатков тюрьмы выступили два нобелевских лауреата, но когда администрация района провела голосование, результат был 40:1 в пользу дома престарелых.
Единственный голос «против» подал сам Накаяма.
– Ваши шансы были ужасно низкими! – посочувствовала я, припоминая, как по-японски сказать сокрушительное поражение. Существует много слов, означающих проигрыш, наверное, не меньше, чем слов, обозначающих время. То, как вы проигрываете, и сколько раз, имеет значение.
– Да, – ответил Накаяма. – А ведь взглянув на эти развалины, вы с первого раза могли понять, как жили тогда люди!
– Да, их очень жаль.
– Я направил петицию в администрацию района, и там решили сохранить каменные стены. Их можно будет увидеть и рассмотреть сквозь стеклянный пол.
– Как вы добились, чтобы они пошли на это? – спросила я, помня о соотношении 40:1 не в пользу Накаямы.
Он довольно улыбнулся.
– Дело в том, что глава администрации хотел – сильно хотел – уйти в отставку в определенном звании, с определенными почестями. Но если бы против него была бы хотя бы одна жалоба, он всего этого никогда бы не получил.
– Всего одна жалоба? – переспросила я, опершись на лакированный столик.
Накаяма кивнул.
Я перевела взгляд в угол, на доску для игры го. Подумалось, что это самый красивый предмет из всего виденного мной в Японии, да и где-либо еще. Стратегическая игра, в которой игрок пытается окружить камни противника своими.
– Не хотелось бы мне играть против вас, – заметила я.
– Эта доска слишком хороша, чтобы ею пользоваться, – пожал плечами Накаяма. Он продолжал улыбаться. – Мне было почти жаль главу администрации района.
– За этой доской лучше мечтать.
– Обидно, что мы не сумели сохранить старую тюрьму. Можно было бы увидеть, какой она была в самом начале 1600-х. Она двенадцать раз горела, и после каждого пожара ее перестраивали, с самого начала – по карте.
Пожары… Я представила тюремщиков, стены, металлические замки.
– А те, кто был там заперт, они как?
Накаяма перестал улыбаться.
– Когда город горел, надзиратели открывали двери и всех выпускали. Когда пожар тушили, у заключенных было трое суток, чтобы вернуться обратно в тюрьму.
Я подняла брови.
– Да-да, они возвращались. Все всегда возвращались22. Если сам не вернешься… тебя найдут. И убьют. Лучше было вернуться в тюрьму самому.
Драматург кабуки XIX века, Мокуами, вырос в Нихонбаси, всего в десяти минутах ходьбы от Кодэмматё. В его поздней пьесе о самурае, схваченном в момент кражи из сокровищницы сёгуна («Четыре тысячи золотых монет, как листья сливы»), Мокуами приводит зрителя в стены старой тюрьмы23. Писатель расспрашивал людей, которые там бывали, надзирателей и осужденных. Он описал тайный язык обитателей тюрьмы, их повседневный быт, иерархию и кодекс чести. Вереница тюремных сцен в пьесе открывается эпизодом с бедным провинциальным актером, которого заставляют исполнить «голый танец», да так, чтобы окружающие забыли про чувство голода. Дополнительную жестокость сцене придает то, что этот персонаж у Мокуами танцует под ритмичные крики торговца сладостями за стенами тюрьмы (Кодэмматё славился своими кондитерскими). «Всё лучшее для вас! Всё лучшее для вас!» – с плачем повторяет за ним пляшущий актер.
В течение двух с половиной столетий тюрьма оставалась местом ужаса и тайн. Мокуами показывает новичков, попавших в западное крыло, пользовавшееся самой дурной репутацией. Им приходилось проползать через дверные проемы, а потом между вытянутыми ногами сокамерников, чтобы уяснили: каков бы ни был их статус на воле, теперь они ничто. Мокуами изображает пахана в камере, наблюдающего за арестантами с высоты башни из положенных один на другой матов «татами», отнятых у самых слабых и незащищенных. Этих затолкали скопом в угол, называемый «дальней дорогой». Драматург повествует о болезнях и голоде, о красивых молодых парнях, ищущих защиты у более сильных, о старых дрязгах, улаживаемых в драках, о вновь прибывших, наказанных за то, что не сумели достать денег, чтобы откупиться от тюремного насилия. «Твоя судьба в аду зависит от наличных денег, которые у тебя есть», – пишет Мокуами, и это одна из самых цитируемых фраз в пьесе. «Это ад номер один. Второго такого нет».
Кодэмматё в изображении Мокуами – кривое зеркало города, лежащего по ту сторону тюремных рвов, со своими ритуалами, иерархией, правилами24. Сидельцы подразделялись по классу и статусу. Самураи, чей ранг давал им право на аудиенцию с сёгуном, занимали особые помещения на первом этаже. Буддийские монахи, синтоистские священники, а также женщины помещались в верхних комнатах. Внизу, на «дальней дороге», обитали рядовые заключенные, не имевшие денег и вынужденные делить на шестерых или семерых единственный мат «татами», часто оставаясь совсем без пищи25.
В пьесе Мокуами «Четыре тысячи золотых монет» грабителем сокровищницы восхищаются, высоко ценя его отвагу и неукротимый дух. Пахан в тюрьме предлагает ему красивое кимоно и пояс, чтобы одеться перед казнью. «Ты должен умереть в прекрасной одежде, – говорит главарь. – Ты заслужил все это – благодаря яркости твоего преступления».
– Тут очень тихо, – говорит Накаяма. – Живя здесь, мы не ощущаем, что находимся в самом центре города.
Я прошла за ним следом по коридору, где тени окутывали свет и звук, а потолок вздымался так высоко, что упирался, похоже, в самое небо, хотя наверху наверняка всегда царила ночь, настолько потемнело там дерево. Коридор огибал углом небольшой сад камней – горки с деревцами сасанквы вокруг пруда с карпами, которые скользили и плескались в воде. Все это больше походило на Киото, чем на Токио.
– Прежде чем войти в святилище, вам нужно очиститься, – сказал Накаяма. Он открыл небольшую круглую лакированную коробочку и достал из нее щепотку благовоний, растер пальцами, жестом приглашая меня сложить и потереть ладони.
– А это, пожалуйста, съешьте, – протянул он баночку с гвоздикой.
Я взяла крошечный стебелек и пожевала. Удивительно, насколько легко удалось проглотить гвоздичку и какой сладкой горечью наполнился рот.
Мы вступили в зал буддийского храма, который вряд ли был красив, однако нес печать достоинства своего времени. Золотые листья на потолочных балках более чем за век потемнели от дыма. Накаяма включил мощную светодиодную подсветку, и ее направленный свет заиграл на священном изображении в центре зала – статуе Кобо Дайси, на лице которого испарения ладана за тысячу лет оставили матовый цвет мокрой древесной коры.
– Во время землетрясения 1923 года местные жители погрузили скульптуру на платформу и дотащили до токийского вокзала.
Представить только: толпы кричащих, толкающихся людей, а верующие грузят тяжелую деревянную фигуру на платформу и, выбиваясь из сил среди дыма пожарищ, тянут ее мимо брошенных машин и телег, огибая образовавшиеся на дорогах провалы.
– А это нэндзю, молитвенные четки. Как думаете, сколько им лет?
Накаяма протянул янтарные бусы, я покачала их на руке. Всегда считала, что четки делают из дерева, но эти были слишком легкими, даже для пробкового дерева, и внутри каждой блестящей сферы едва виднелись белые черточки. Я смотрела на белые шелковые кисточки, приобретшие сероватый оттенок.
– Эпоха Мэйдзи? Им лет сто двадцать пять?
– Очень хорошо, – ответил Накаяма вежливо. – Однако им четыреста лет. Когда-то они были позолоченными. Но время все течет и течет. Оно никогда не останавливается, даже на секунду. Мы иногда оглядываемся назад: «Мне нужно было поступить так, я должен был сделать эдак…» И через эти наши сожаления, эти размышления мы и движемся вперед…
Над нашими головами свисал развернутый желтоватый свиток: «Для спокойствия и утешения тех, кто умер».
– Именно потому, что наша жизнь длится всего лишь миг, она так много значит, – произнес Накаяма.
Я вышла из храма к яркому солнечному свету Кодэмматё, увидев напротив колокол, переживший тюрьму, которую стерли с лица земли. Накаяма поклонился, вновь улыбнулся и пошел обратно в храм. Его шаги были легки.

В 2002 и 2003 годах, когда богемные анклавы Омотэсандо отступили перед натиском застройщиков и модных магазинов, мои любимые кофейни стали закрываться одна за другой – Café des Flores на Омотэсандо-дори, Aux Bacchanales в квартале Харадзюку. Внезапно, где их никогда не было, возникли четыре кофейни «Старбакс». Оставалась только одна старая кофейня Дайбо – на том же самом месте с 1975 года. Ее обветшалое четырехэтажное здание выстояло среди сверкающих коробок из стекла и бетона. Я приводила сюда тех, кого любила, или тех, на кого хотела произвести впечатление, пока смотришь, как Дайбо поджаривает в полумраке кофейные зерна; как кофе разливается летом через зазубренные осколки льда, зимой – в фарфоровые чашки.
Когда в кафе было тихо, я практиковалась в японском с Дайбо, который немного говорил по-английски. Я проверяла на нем слова и фразы, но независимо от того, что я говорила, Дайбо про себя посмеивался. Я называла словарь велосипедом. Или употребляла выражение невиданная катастрофа там, где надо было сказать небольшая неприятность. Дайбо любил поправлять меня. «Надо стараться!» – повторял он, убежденный тем не менее, что мой японский всегда будет ужасным. Его жена, иногда работавшая вместе с ним в кафе, беседовала со мной по-английски. Как и Дайбо, она была родом из Снежной страны; они познакомились на студенческой постановке пьес Жана Ануя. Это было в 1960-х, когда в Японии сходили с ума от французской культуры. Ее семья не хотела, чтобы он увез ее в Токио. Тогда Дайбо уговорил ее бабушку научить его делать лапшу «соба» из гречневой муки и понравился ей. А раз бабушка одобрила партию, Дайбо добился разрешения перевезти невесту в большой город.
Лицо у госпожи Дайбо похоже на цветок, ирис.
В отсутствие жены Дайбо обслуживанием занималась красивая, но неприветливая помощница Маруяма, которая принимала заказы и выписывала счета. Если Дайбо куда-нибудь уходил или был занят сортировкой кофейных зерен, кофе готовила Маруяма. С ней я никогда не заговаривала.
Чем дольше я жила в Токио, тем больше кофейня «Дайбо» становилась местом, куда я шла, когда что-то не так.
В этом смысле я была не одна. Однажды в кофейне появилась сумасшедшая японка. Став рядом со мной, она высыпала на прилавок содержимое огромной сумки и принялась рыться в тюбиках губной помады, использованных носовых платках, пакетах чистых бумажных салфеток, обломках карандашей, обрывках бумаг и щеток для волос.
Маруяма свирепо взглянула на женщину, осквернившую безукоризненно чистый прилавок. Ее лицо выглядело маской театра но: «разгневанная красавица». Впрочем, она ничего не сказала, потому что Дайбо ничего не сказал. Он, как всегда, улыбался.
– Что я могу вам предложить? – спросил он.
– Мне капучино. Можете сделать для меня чашку?
– Нет. Я не подаю кофе со вспененным молоком.
– То есть что значит «не подаете»? – выдохнула она, продолжая рыться в своем утиле: косметике, канцтоварах и прочих цацках, которые она запихивала обратно в кожаную сумку. – Как это нет капучино! Во всем мире его подают!
– А мы нет, – мягко ответил Дайбо. – Не желаете чего-нибудь другого?
– Дайте мне кофе с молоком, что ли, – согласилась она.
Дайбо повернулся спиной и снял с полки винтажную чашку Бидзэн. Он мне как-то говорил, что любит простую глазурь и что эта чашка – его любимая, «потому что видно, как ее обжигали. Глина не умеет лгать. Она всегда остается самой собой». О чашках из белого китайского фарфора, которые я всегда выбирала (абсолютно белые, без единого изъяна), он отзывался: «Они красивые, конечно, но никогда не знаешь, что у них под глазурованным покрытием. Я им никогда не доверял».
Дайбо поставил кофе на прилавок. Женщина пила и становилась тише, разумнее, спокойнее.
Настала моя очередь.
Дайбо положил зерна для моего кофе в мятую, старую алюминиевую мерную кружку. Смолол зерна и насыпал молотый кофе в матерчатый фильтр. Он смастерил его сам из небеленого тонкого полотна и толстой проволоки, которую согнул, пользуясь бутылкой от виски. Взял кофейник из нержавейки и принялся лить горячую воду сверкающей нитью, капля за каплей, на кофе. Он был абсолютно спокоен, двигались только руки…
Дайбо налил в кофе молока, процедив его так, чтобы на поверхности не оставалось никаких пленок. Чашка была белой, как луна.
Выпей! И исцелись.
«Храм Асакусы»
浅 草
Сэнсо-дзи олицетворял границу между тем и этим светом, ту, что отделяет смерть от жизни26.
Нам-лин Хур
Асакуса: Легендарная равнина Канто
В баре стеклянные стены. На много этажей ниже протянулись районы Ханакавадо и Каминаримон: бледно-золотистый свет фар, золотые огни уличных фонарей, золотистая подсветка под карнизами храма Сэнсо-дзи, золото на каждом освещенном снизу уровне красно-золотой пятиэтажной пагоды, стоящей рядом с храмом. Пятна золота на Вратах Грома, ведущих к храму. На крыше зала «Сухое пиво» компании «Асахи» красуется «Золотое пламя» Филиппа Старка, которое каждый в Асакусе именует не иначе, как kin no unko, золотая кучка. Башня Скайтри («Небесное дерево») и несколько неоновых баннеров караоке-баров придают всему ландшафту оттенок цвета «электрик». Слишком темная река Сумида, текущая в кромешной черноте на восток, совсем не видна.
Я сидела в баре в полном одиночестве и читала Сутру лотоса.
Трудно услышать эту Дхарму27… Также трудно встретить человека, который может слушать эту Дхарму. Если сравнить, то это как с цветком удумбара, который всем нравится и всех радует, но который распускается всего раз за долгое-долгое время.
Я вспоминала, как выглядит цветок удумбара, как вдруг кто-то тронул меня за локоть; его пальцы были легки. Он был молод, с замечательной челкой и в дорогом костюме.
– Простите! – обратился он. – Наш… коллега хотел бы попрактиковаться с вами в английском. Вы не присоединитесь к нам?
Он запнулся на слове коллега, указав при этом на три пустых стула между мной и древним, почти лысым человеком в двубортном костюме в тонкую полоску. У того были очки с очень толстыми линзами; левый глаз был закрыт настолько плотно, что веко казалось пришитым.
– Мне и тут отлично сидится, – ответила я, вновь уткнувшись в Сутру лотоса.
– Вы говорите по-японски! – воскликнул молодой человек с выражением преувеличенного удивления. – Замечательно! Можно ли нам в таком случае присоединиться к вам?
Я пожала плечами. Молодой человек сделал жест в направлении бармена, который толкнул дедов стакан с вином вдоль стойки. Официантка подала мне порционную кастрюльку: мясо с картошкой.
– Вы не будете есть? – спросила я.
– Никогда не притрагиваюсь к западной пище.
– Тогда, пожалуйста, простите, что я начинаю первой, – произнесла я, прибегая к одной из тех японских разговорных формул, которые служат для заполнения пустот, когда не знаешь, что сказать.
Старик вручил мне свою визитную карточку с пышными титулами: председатель и генеральный директор.
Два молодых сотрудника вышли из бара, прыская со смеху будто маленькие мальчики, когда их старший товарищ намеревается употребить нечто несъедобное: живую улитку, лягушку, медузу.
– Откуда вы?
– Я живу в Англии, но…
– Плос-сядь Пикадилли! Я люблю Англию! – Он сделал глубокий вдох и с энтузиазмом исполнил «О Дэнни Бой». Остальные посетители бара усердно его игнорировали. «В густой тени или в палящем зное, о, как тебя мне будет не хватать! О, Дэнни Бой! Я так тебя люблю-ю-ю!» Потом он спел куплет из «Люби меня нежно» и, наконец, балладу на мандаринском диалекте. Дослушав балладу, я зааплодировала: его китайский, хотела я того или нет, произвел на меня впечатление.
– У меня вторая жена в Тайбэй и очень, очень большой… – Он помедлил, улыбаясь и приподнимая брови.
– …дом вон там. Тринадцать этажей! Вы можете его увидеть из этого окна! – Он указал на зеркальное смотровое окно.
– Вы живете около храма?
– Да. В Адзумабаси, всю свою жизнь.
– Вы не эвакуировались во время войны? – Слово эвакуироваться я не знала и потому сделала руками движение, как будто отгоняю птицу. От столешницы бара к потолку. – Ради безопасности?
– Нет. Я все время был в Токио. Бомбы падали всюду. – Настал его черед изображать жестами то, на что у него не хватало слов: зажигательная бомба со свистом рассекает воздух, попадание, взрыв. – И все-таки я люблю Америку. То, что было, – это война. Если война начинается, никто ничего уже не может поделать… Американцы не были плохими людьми. – Он жестом показал на обручальное кольцо, блестевшее у меня на руке. – Вы никогда не думали завести второго мужчину?
– Никогда, – сказала я, потягивая вино из своего бокала. – Мне нравится простота.
Он выпрямился, как будто я его оскорбила, коротко что-то буркнул бармену, и тот запустил его стакан к прежнему месту – на три стула западнее. Долгим взглядом мой собеседник смотрел на свою визитку, словно хотел и ее получить обратно.
Я продолжала есть. Старикан достал немыслимых размеров увеличительное стекло и стал внимательно разглядывать свой айфон. «Би-джи-нес», – произнес он ледяным тоном, отталкивая стакан с остатками вина. Затем оплатил счет, взял портфель и шаткой походкой направился мимо меня к выходу.
– О! Всё напрасно! напрасно! Я слишком стар для вас, – произнес он так громко, что все, кто был в закусочной, оглянулись на нас; как будто он отказывал мне.
Он смотрел на восток, в сторону тринадцатиэтажного дома.
Когда старик ушел, молодой бармен хмуро посмотрел на меня.
– Это наш постоянный посетитель, – сказал он.
Вечером следующего дня, когда я пришла в этот бар поужинать, хозяйка позаботилась о том, чтобы усадить меня отдельно, почти спрятав за кофемашину.
Романист Кавабата Ясунари однажды написал, что стоя на мосту Кототой близ Асакусы, он вдруг почувствовал простор равнины Канто, раскинувшейся вокруг. Меланхолия всего города текла под этим мостом28. Нихонбаси и тюрьма Кодэмматё – то место, где начинался Эдо в 1590 году, когда первый сёгун из рода Токугава Иэясу занялся перестройкой разрушенного замка. Но Асакуса возникла по крайней мере на тысячу лет раньше – как деревушка среди пустого ландшафта, где были только травы и лабиринты рек29. Средневековая путешественница, монахиня из Киото, описывала переход через просторы полей, где ничего не росло кроме леспедецы, камыша и пампасной травы. Эти травы были столь высоки, что по полю мог проехать всадник и остаться незамеченным. «Три дня, – писала монахиня, – я шла быстрым шагом через обширные поля, не отдавая себе отчета, куда я хочу прийти… Кругом была только равнина, протянувшаяся позади меня и передо мною одинаково далеко»30.
Великая река, протекавшая своим путем, пока что-либо не заставляло ее поменять курс, в половодье и в засуху, была единственным ориентиром.
Литераторам западной Японии настолько близок образ восточных пустошей, что даже если сама равнина с появлением поселений и ферм менялась, правила ее описания оставались прежними. Она вечно была дикой местностью, беспросветной и почти пустынной.
Равнина не столько славилась собственным ландшафтом, сколько служила оберткой для элегантного Киото. Даже прежнее ее имя, Бандо означало «восток проходов». А более позднее название – Канто – значит «восток барьеров». В сказаниях и песнях восточные пустоши были пристанищем бандитов и изгнанников. На самом деле никому не хотелось туда наведываться и тем более там обосноваться. Даже ворам и изгоям.
Красавица и убийца. Это два лика Асакусы.
Сначала была красавица – в 628 году31. Небольшая статуя Каннон, богини милосердия, которую три брата на рыбацкой лодке вытащили из воды. Сюжет запечатлен на гравюрах – ослепительное сияние воды, тяжесть таинственного предмета, натянувшая пеньковые веревки сетей… Это Асакуса до Асакусы: неровный кряж горы Цукуба на северной стороне, камыши, заросли софоры, косые линии волн Токийского залива, еще не имевшего названия32. Тогда это было просто Внутреннее море.
Деревенские жители воздвигли для статуи простой алтарь. Но после того как один монах, взглянув на лик божества, ослеп, для статуи соорудили футляр, скрывающий опасный лик. Позже кто-то вырезал из дерева копию статуи, ее поставили в сторонке в другом футляре, напротив первого изваяния. Оттого богиня Каннон стала вдвойне таинственной, вдвойне священной.
Никто из живущих ныне не видел первоначального изображения богини Каннон. Размеры статуи никем не описаны. Во время больших пожаров, когда святилищам угрожала опасность, статуи вывозили на лодках по реке Сумиде, а футляры прятали в паланкинах. Скрытое глубоко в недрах храма Сэнсо-дзи изваяние пережило и зажигательные бомбы 1945 года.
Убийцей была старуха, жившая в пустошах у реки. Никто точно не знает, когда это было. У старухи была красивая дочь, которую та использовала в качестве приманки, чтобы завлекать доверчивых путников в свою каменную хижину. Мужчины укладывались вместе с дочкой на ложе с каменным изголовьем. Когда они засыпали, старуха разбивала гостю голову. Всю поклажу путешественников она забирала себе, а их тела сбрасывала в ближайший пруд. Таким образом она умертвила 999 мужчин.
В одном из храмов близ Сэнсо-дзи прежде выставляли пресловутое каменное изголовье, на котором почивали странники.
Позже Кавабата создал собственную версию этой истории: тысячный путник услыхал звук тростниковой флейты. «Она звучала как голос, и этот голос пел: Когда настанет ночь, даже если тебе негде преклонить голову, не останавливайся в одиноком доме на заросшей тростником равнине Асакуса»33. На следующее утро путник проснулся в храме Сэнсо-дзи, спасенный богиней милосердия. Голос тростниковой флейты был голосом богини Каннон.
В других версиях этой истории дочка старой карги влюбляется в тысячного гостя. Или: она хочет искупить свою вину за убийства. Она намерена умереть, пожертвовав собой ради тысячной жертвы. В темноте старуха по ошибке убивает собственное дитя. В раскаянии и горе старая женщина топится в том самом пруду, куда отправила своих многочисленных жертв.
Еще вариант: она становится богиней и начинает защищать тех, на кого раньше устроила злодейскую охоту. Одним движением в одно мгновение – от абсолютного зла к абсолютной божественности. Старинные сказители не видели противоречия в этом переходе от зверства к прозрению.
В Асакусе мир дьяволов и демонов сосуществует с небесным миром Будд и малых божеств. Асакуса в Токио уникальна: история не должна была становиться ловушкой. Чудесное спасение возможно.
К началу XIX века горожан Эдо все больше мучило то, что традиционные Будды и синтоистские боги о них забыли. Один современный писатель жаловался: «Сегодня все духи (kami) взошли на небеса; Будды отправились в западный рай; а все эти и «те» миры вышли из употребления…»34
Новые «модные» божества заполнили пробелы в убеждениях и верованиях, и территорию Сэнсо-дзи заняли их алтари.
Бэндзайтэн была водяным божеством, обитавшим в одном из прудов Асакусы. Теперь она возродилась в качестве богини литературы и музыки, и ей устроили небольшое святилище рядом с колоколом времени, одним из древнейших на равнине Канто. Колокол был крупный, величественный: внутри такого вполне мог спрятаться взрослый человек, совсем как в старинных преданиях. Рядом с этим другие колокола выглядели игрушечными. Деревянные столбы колокольни источил жучок, и они разрушились. Даже камни потрескались.
Надпись на табличке: RŌJO BENZAITEN. Старая женщина Бэндзайтэн, которая была третьей дочерью Царя драконов. Черные с позолотой двери святилища были распахнуты внутрь. Удивительно: раньше я видела красное святилище всегда запертым, будто шкатулка. Но был день Змеи, и святилище открыли: ведь змеи – вестницы богини Бэндзайтэн.
Никогда еще не приходилось видеть изображения такого живого, такого пронзительного. Я долго изучала ее лицо, потом отвернулась. Эта Бэндзайтэн пристально смотрела в даль. Ее кожа была затенена, волосы – как гладкий лист, белые, как вишневый цвет Ёсино. Запах благовоний, плывший от алтаря, жег горло.
Позади пожилая женщина бросила в ящик для пожертвований монеты, перед тем как молиться; на ней было серебристое летнее кимоно с черным поясом оби, перевязанным накрест треугольными рыболовными сетями. Когда она вернулась на проход, ведущий к главному залу Асакусы, ее железная трость застучала по камням. Появился полицейский. Он поклонился статуе Бэндзайтэн, словно приветствовал высокое должностное лицо.
Я медленно спускалась по отполированным каменным ступеням, подаренным храму знаменитым музыкантом, игравшим на кото, и размышляла о том, кому поклонялся полицейский. Бэндзайтэн – богине знания и музыки или старухе-убийце?
У квадратной каменной ограды исигаки перед алтарем на корточках сидела женщина. На вид ей было семьдесят, хотя она могла быть и моложе; возможно, родилась в первые годы войны. На ней было тонкое платье цвета вишневого ликера. Серебряные волосы падали на плечи, а на темени были совсем по-девичьи заколоты и зачесаны наверх, как у Барбары Иден году так в 1965-м. Сделано это было аккуратно и даже мастерски.
Беловолосая Бэндзайтэн.

Мужчина рядом со мной подпирал подбородок кулаками. Явно один из тех, кого японцы называют koffeemaniakku («кофеманьяк») или отаку35. Оба термина воспринимались вначале как грубые, особенно отаку. В издании 1990 года Japan’s Basic Knowledge of Modern Words слово объясняется как «фанат, дискриминируемый другими. Скрытны, психически неуравновешенны и одержимы деталями. Не способны к нормальной коммуникации. Обычно не придают значения внешнему виду и часто одеты плохо». Одним словом, чудик. Фрик.
Культуролог Джонатан Абель проследил, как в двухтысячные слово отаку постепенно стало означать того, кто увлечен ролевыми играми или мультиками аниме. Слово утратило отрицательную коннотацию и в конце концов стало означать «кого-то чрезмерно увлеченного, в том числе своим хобби, энтузиаста любого рода». Появились отаку трейнспоттинга, отаку рыбной ловли, отаку вина. Япония внезапно превратилась в страну, целиком состоящую из отаку36.
Кофейный отаку поедал Дайбо глазами: он наблюдал, как тонкая ниточка воды по капле стекает в хлопчатобумажный фильтр и превращается внизу в коричневато-красные бусины; как опрокидывается в фарфоровую чашку, заполняя ее на три четверти.
– Я пишу книгу о токийских кофейнях. Но эта… – он прервался на полуслове и с благоговением посмотрел по сторонам. – Ни дать ни взять – учебный курс.
– Вы, должно быть, пьете очень много кофе. Для ваших исследований.
– Да.
– А я знала человека, который изучал влияние кофеина на обезьян37. Выяснилось, что от кофеина они не бодрствовали больше обычного, но у них нарушалось чувство времени.
За длинной деревянной волной своей стойки нас слушал Дайбо. Он выглядел озадаченным. Я снова и снова пыталась объяснить по-японски, и, наконец, – кофейному отаку – по-английски. Оба смотрели с недоумением и даже с некоторым беспокойством.
– Но откуда, – спросил в итоге Дайбо, – обезьяне знать о времени?
Я подумала о животных, о лаборатории с компьютерами и пластинами для нажатия, огоньками индикаторов для правильных и неправильных ответов; о гранулах с ароматом бананов в качестве вознаграждения и о том, как призывно стучат по их маленьким кормушкам, если обезьяна дала правильный ответ.
Да, верно. Это для обезьяны время – интервалы между пахнущими бананом гранулами.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































