Текст книги "Смерть от любви (сборник)"
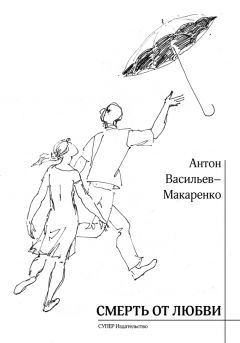
Автор книги: Антон Васильев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
На крышу на четвереньках выбрался Карслон.
– Зря пришли, – сказал он, добравшись до приятелей. – Сегодня мы ничего не увидим.
– Почему? – расстроилась Ира.
– Смог.
– Что смог? Кто смог? – не поняла Ира.
– Ветер западный. Со стороны цементного завода. Так что небо для нас закрыто.
– Ну жизнь! Ну, жизнь! – запричитал Витя. – Я всегда говорил: за атмосферой нужен глаз да глаз. Ишь, цивилизация как распоясалась! Дымит, речки-озёра портит, гадит по-всякому. И между прочим, самолёт за один рейс сжигает столько кислорода, сколько его вырабатывают несколько гектаров леса за год! Вот и дыши тут дрянью всякой, отходами!
– Вы специалист? – осведомился Карлсон, поражённый зрелищем Витиной скорби.
– Соответствуем! – загадочно произнес Витя. И пояснил: – Следим за чистотой атмосферы. А цементная пыль, между прочим, травмирует мерцательный эпителий дыхательных путей.
– Витя! – сострадая, крикнула Ира, прижимая к груди руку в недозавернутом, длинном рукаве. – Давайте пойдем в планетарий.
– Там небо ненастоящее, – печально сказал Витя.
Теряев вздохнул, оглядывая небо и крыши под ним.
– Хоть бы где пожар случился, – сказал он. – Я бы чего-нибудь героическое совершил.
И тут все увидели, что из открытой двери балкона, на котором, как всегда, стояла коляска с орущим благим матом младенцем, выпархивают лёгкие, чёрные клубы дыма.
– Может, в кухне чего пригорело? – с надеждой сказал Витя.
– Нет дыма без огня, – сказал Теряев.
– В натуре, – сказала Ира.
И тут они увидели огонь. Он был в глубине квартиры, не сильный ещё, но уже определенный, крепнущий с каждой минутой.
– Пожарных надо, – на ходу бросил Витя и исчез в чердачном окне.
Дым густел. Младенец орал.
– Этот агрессор в шляпе чердак запер! – заорал Витя, вылезая на крышу.
– Верёвки есть? – спросил Теряев Карлсона. – Конкретно!
– Как будто.
– Тащи сюда! – заорал Витя.
Карлсон встал на четвереньки и медленно двинулся к чердачному окну.
– Я найду, – опередил его Теряев.
– Полундра! – завопила Ира. – Свистать всех наверх! – и пронзительно свистнула, вложив два пальца в рот.
– Девочка, перестань шуметь! – строго попросили из окна соседнего дома.
Теряев и Витя связывались верёвками.
– Ты пойдешь первым, – сказал Витя. – Я сильнее. Буду страховать.
Они пошли. Чтобы попасть на балкон дома напротив, надо было преодолеть четыре крыши.
– Ребята, подождите! Я с вами. Я помогу, – просил Карлсон и, бледнея от страха высоты, полз на четвереньках за спасателями.
– Крысы! – кричала Ира. – Затаились в своих норах!
– Девочка, прекрати безобразие, – строго распорядились из окна соседнего дома.
– Кричи «Пожар», – посоветовал Теряев.
Он стоял на краю крыши. Надо было прыгать на соседнюю.
– Ребята, я с вами. Подождите, – умолял Карслон и сполз.
– Свалишься с крыши – отлуплю! – коротко предупредил Витя.
Теряев прыгнул.
– Пожа-ар! – кричала Ира.
– Где?! – спросили из соседнего дома.
– Заведи верёвку за трубу, сказал Витя Теряеву. – Если не допрыгну, пойдешь дальше один.
Он допрыгнул, и они вместе побежали дальше…
…А в депо пожарной охраны уже получили сигнал бедствия, и зазвенела тревога.
Пожарные бежали к своим машинам. Взвыли сирены, и машины сорвались с места, понеслись по городу…
Внизу во дворе бесновался Суровый Сосед.
– Так всегда! – донеслось снизу. – Сперва по крышам…
– Куриная твоя башка! – крикнула Ира и пронзительно свистнула. – Прячьте спички от детей!
Карлсон зацепился штаниной за торчащий угол железного листа, скатился по крыше, застрял на самом краю в прутьях барьерчика и затих.
Прилетел попугай Август, сел рядом.
Из двери балкона летели черные хлопья. Орал младенец.
Теряев спускался по пожарной лестнице. Нога его скользнула по ступеньке, и он сорвался, пролетел метра три и повис на веревке.
– Ты там давай поаккуратнее! – попросил сверху Витя.
– Полный потряс, – пробормотала смотревшая на них Ира и завопила: – Чего уставились! Из-за вашей тупости людям приходится подвиг совершать! Страхуйте свое гнусное имущество от пожара!
Заскрипели рамы открывающихся окон…
…А пожарные машины с оглушительным воем мчались по улицам, не задерживаясь у красных глаз светофоров…
…Теряев спускался по верёвке по стене дома. Спрыгнул на балкон.
– Давай! – крикнул он вверх Вите, придерживая верёвку.
Витя начал спускаться.
– Эй, вы! Ироды! – надрывалась Ира. – Человек погибнет, а вам и дела нету!
– Ты – птица. Тебе хорошо, – печально сказал Карлсон попугаю Августу.
Теряев и Витя тушили пожар в комнате: заливали горящий журнальный столик и тлеющую обивку дивана водой из чайника и бульоном из кастрюли, роняя в пепелище оранжевые морковки.
– Надо снять с крыши Карлсона, – сказал Теряев.
А во двор с гудением и воем ворвались красные машины пожарной охраны.
Ира затанцевала, размахивая длинными рукавами Витиного свитера.
Суровый Сосед суетился внизу, командуя и мешая пожарным.
Лестница пожарной машины с жужжанием потянулась вверх, к крыше, на краю которой лежал онемевший от ужаса Карлсон.
Витя и Теряев стояли на балконе.
Теряев оглядел крыши, посмотрел вниз и сказал:
– И как это мы сюда добрались?
– Не тряси решетку, – попросил Витя, вцепившись обеими руками в балконную решётку.
– Я не трясу. Это ты трясёшь.
– Она сама, наверное, трясется, – сказал Витя, глядя вниз.
– Бедняга, – сказал Теряев, качая коляску с орущим благим матом младенцем, – все тебя позабыли – позабросили.
– А вот интересно, – сказал Витя, наблюдая, как пожарные извлекают Карлсона из прутьев барьерчика, – что нам дадут – медаль за героизм или пятнадцать суток за хулиганство?
Теряев сидел в своей комнате, на диване, а у теряевского стола пристроилась немолодая, полная женщина в джинсах, со значком на кожаном пиджаке – «Пионерская правда».
Перед журналисткой лежал блокнот и ручка. Журналистка так лучезарно улыбалась Теряеву, что он удивлялся и робел.
– Скажи мне, Теряев, ты хорошо учишься?
– Я учусь неровно.
Журналистка расстроилась.
– Что ты думаешь о своем поступке?
– Я думаю, это подвиг.
– Стало быть, ты – герой?
– Да, – сказал Теряев.
– А ты не думаешь, что считать себя героем не слишком скромно?
– Почему? – пожал плечами Теряев. – Если у нас с Витей получился подвиг, значит мы герои. Разве нет?
– В общем, конечно, – замялась журналистка. – А как ты думаешь, на твоём месте так поступил бы каждый? – с надеждой спросила она.
– Не знаю. Может, кто-нибудь и не поступил бы, а упал бы и разбился. Мы тоже могли упасть и разбиться, и подвиг бы не получился.
– Ты боялся разбиться?
– Я не успел. Всё как-то очень быстро произошло.
Ответ журналистке понравился.
– Скажи мне, как вы пришли к решению забраться на балкон и спасти ребёнка?
– У нас не было другого выхода.
– Как это не было? – оторопела журналистка.
– Он был заперт. Нас заперли на чердаке, – пояснил Теряев, – за то, что мы лазали смотреть на небо.
– И всё?
– И всё. А что? – обеспокоился Теряев. Он видел, что журналистка расстроилась, и ему было её жалко.
– А кем ты хочешь быть?
– Всем понемножку, – сказал Теряев.
– Это как же?
– Превращаться во всё по очереди. Сейчас я – Теряев, потом я – кенгуру, потом я – астероид, еще потом – я – берёза или, например, дуб, а ещё потом…
– Понятно, понятно, – остановила его журналистка.
Она уже не улыбалась так лучезарно. У нее было озадаченное лицо. Она посмотрела на попугая Августа и спросила:
– Я знаю, что твои родители в Африке. Ты очень по ним скучаешь?
– Нет.
– Но ты, конечно, хочешь, чтобы твои родители приехали и были с тобой, – сообщила журналистка.
– Не знаю… Я ведь тогда не смогу ждать от них писем.
Журналистка усмехнулась, а потом и вовсе начала смеяться.
Глядя на неё, Теряев тоже заулыбался.
– Ты пионер? – спросила она, уже записывая ответ.
– Я хотел, – грустно сказал Теряев. – Но меня не приняли.
Журналистка испугалась и уронила ручку.
– Почему?
Теряев подумал, хорошенько припоминая всё, и перечислил:
– Я не осознаю своих ошибок. Я несерьёзно отношусь к жизни, хожу в баню и плохо воспитан.
– При чем здесь баня? У вас что, душа нет?
– Есть…
– Ну и ну, – пробормотала журналистка.
– Скажите, пожалуйста, вы всё-всё про меня в газете напишете?
– Баня, подвиг, кенгуру, – сказала журналистка, – винегрет какой-то. Цельности не хватает.
– А я люблю винегрет, – сообщил Теряев.
– Я тоже, – прошептала журналистка, – а вот наш редактор не очень.
Она задумчиво посмотрела в окно, потом на Теряева и спросила:
– Скажи, Теряев, чего тебе недостаёт до полного счастья?
Теряев долго думал и смотрел вокруг себя, а потом сказал:
– Мороженого.
Шёл классный час.
Теряев сидел за партой, нахохлившись и стискивая от волнения руки. Не отрываясь, смотрел на Барсукову – председателя совета отряда, не очень, однако, понимая, что она говорит.
А Барсукова стояла возле учительского стола и говорила:
– И поскольку Тарасюк по-прежнему прогуливает уроки, не готовит домашнее задание и грубит учителям, мы не можем принять Тарасюк в ряды пионерской организации. Садись, Тарасюк.
Тарасюк была длинная, тощая девочка.
– А ну вас всех, – беззлобно сказала она, сдув со лба челку, и села.
– Теряев! – вызвала Барсукова.
Теряев вскочил так, что едва не опрокинул стул.
– А вот с тобой, Теряев, дело обстоит совсем иначе, – расцвела улыбкой Барсукова. – Ты оправдал доверие товарищей. И принимая во внимание совершённый тобой героический поступок – спасение ребенка на пожаре, мы нашли возможным не дожидаться конца испытательного срока, данного тебе, и принять тебя в ряды…
– Ур-ра! – закричал Теряев, выбивая барабанную дробь по крышке парты.
И была Красная площадь. Голуби, иностранцы, милиционеры и молодожёны.
Теряева принимали в пионеры в здании Исторического музея.
Бабушка, Ира и Витя стояли в пёстрой родительской толпе. Они видели, как Теряев вышел на ковёр к красному знамени с тяжелыми золотыми кистями.
– Я, вступая в ряды Всесоюзной пионерской организации, – закричал Теряев, – перед лицом своих товарищей торжественно обещаю: горячо любить свою Родину, жить, учиться и бороться, как завещал великий ленин, как учит Коммунистическая партия, всегда выполнять Законы пионеров Советского Союза.
Забили барабаны.
Комсомолец, застенчивый долговязый юноша, подошёл к будущему пионеру повязать пионерский галстук.
Пальцы плохо слушались его. Теряев ему помог.
– Спасибо, старик, – сказал юноша, вручил Теряеву барабан и отошёл.
А потом Теряев в пионерском галстуке, одуревший от радости, с барабаном на ремешке через плечо стоял среди остальных, уже принятых в пионеры, и ласково прикасался пальцами к барабану.
Теряев вдруг поморщился, как от нефизической боли, или острой жалости, или горечи прощания, и прослезился.
А над головами людей, в коридорах и залах музея, над тачанками и пулемётами грохотали детские голоса:
– Я, вступая в ряды Всесоюзной пионерской организации имени Владимира…
Ира и Витя стояли неподалёку от здания музея, возле Витиного фургончика.
– Все, – сказал мрачно Витя. – Теряев превратился в пионера. Теперь ему будет не до нас. Накрылась теперь наша баня.
Ира внимательно посмотрела на Витю и сказала:
– Хочу куклу.
– Чего?!
– Куклу хочу, – у Иры стало отчаянное, тоскливое лицо. – Должен же быть кто-то, кому ты нужен, кто нужен тебе.
– Я подарю тебе куклу! – испугался Витя. – Ирочка, ты только не плачь!.. Едем! В «Детский мир». Здесь совсем рядом, – и он взял Иру на руки и посадил в машину.
Ира засмеялась.
Обходя фургончик и садясь за руль, Витя пробормотал:
– Уж мне эти женщины! Никакой логики!
Был яркий, осенний день. Улетали птицы. Их клин был так высоко над землёй, что совсем не было слышно голосов. Зато был слышен голос Теряева. Он пел:
– Летят перелётные птицы
В осенней дали голубой.
Летят они в жаркие страны,
А я остаюся с тобой.
А я остаюся с тобой,
Родная навеки страна! —
Не нужен мне берег турецкий,
И Африка мне не нужна…
– Корни не повреди, – предупредил Витя. – Бабушка сказала, что главное – это здоровые корни, хоть и слабые.
На крыше Теряев и Витя извлекали берёзку из плена штукатурки и железа. Они осторожно, пальцами и совками освобождали тонкие берёзовые корни.
– Бедная ты моя, бедная, – бормотал Теряев.
Во дворе, глядя вверх, стояли бабушка и Ира. У ног – ведро. Ира держала лопаты.
Суровый Сосед приблизился взглянуть в ведро.
– Навозная болтушка, – строго сказала бабушка.
Суровый Сосед брезгливо шарахнулся в сторону и тоже посмотрел вверх.
– Опять?! – мрачно сказал он.
На крыше передвигались Теряев и Витя, сидел Карлсон с биноклем и летал попугай Август.
Теряев и Витя, освободив березку, собрались уходить.
– Вы без меня идите, – сказал Карлсон. – Я здесь на посту посижу. За Землёй посмотрю. Вдруг опять пожар случится или ещё чего.
– Ну, извини! – простился Витя.
Витя и Теряев в лифте опускались вниз. Витя держал в руках деревце, а Теряев стоял у застеклённой створки и глядел, как у самого его лица мелькают металлические перекрытия и сетки шахты. Не оборачиваясь к Вите, он сказал:
– Ты знаешь, а я больше в Африку не поеду.
– Это ещё почему? – искренне удивился Витя.
Теряев обернулся к нему и посмотрел на березку в Витиных руках долгим нежным взглядом:
– Я за Ирой в лагерь поеду, – сказал Теряев. – Пропадёт она там без меня.
– А-а-а… – протянул Витя. – Ну, извини.
…Они сажали берёзку во дворе в заранее приготовленную для посадки ямку.
Витя вбивал в ямку колышек, чтобы потом привязать к нему деревце.
Теряев погрузил корни берёзы в навозную болтушку, в ведро.
– Подержи её там подольше, – сказала бабушка.
– Да будет лес! – сказал Теряев задумчиво.
– До солнца! До звёзд! – завопила Ира. – Даёшь непролазные дебри! Перевернем весь мир с ног на голову! – и она хлопнула Теряева по плечу.
Он посмотрел на Иру и сказал:
– С головы на ноги.
Ира посмотрела в задумчивые теряевские глаза и несколько поутихла.
Суровый Сосед ходил вокруг и всё собирался что-то сказать, но слова не находились.
Теряев опустил корни деревца в ямку.
Витя и Ира принялись зарывать, иногда поливая водой.
– Помногу-то землю не бросайте, – предупредила бабушка.
Она посмотрела на птиц в небе, на внука и его друзей, на Сурового Соседа, грустно сидевшего в отдалении, на посаженное деревце и сказала, ни к кому особенно не обращаясь:
– Выживет. Примется и выживет.
И берёзка пошелестела в ответ маленькими жёлтыми листьями.
Конец.
В сценарии использованы стихи А. С. Пушкина, Б. Заходера, М. Исаковского, Д. Садовникова, песня «Варяг» и детский фольклор русского народного поэтического творчества.
М – 1982.
Антон С. Васильев-Макаренко
«Красная и белая»
«Дёжкин карагод» литературный сценарий полнометражного художественного фильма М – 1989
Предисловие
В концертно-театральном мире предреволюционных лет России не было, пожалуй, личности более романтической, почти легендарной, чем Надежда Васильевна Плевицкая, урождённая Винникова. Трудно поверить, что искусство этой крестьянской певицы-самородка могло найти столь восторженный отклик у самых требовательных и интеллектуально утонченных слушателей.
«В госпоже Плевицкой теплится священная искра, – писал критик С. Мамонтов, – та самая, которая из вятской деревни вывела Федора Шаляпина, из патриархального старокупеческого дома – Константина Станиславского, из ночлежки золоторотцев – Максима Горького».
Ныне пришло время вспомнить о тех годах, когда юная Дежка, дочь простого мужика Курской губернии, неожиданно стала звездой русской эстрады, когда её имя на афишах печаталось аршинными буквами, а билеты не её выступления шли втридорога. И прав был критик, писавший, что именно она «внесла в репертуар популярной песни, выродившейся в форму так называемого «цыганского романса», оздоровляющий народный характер.
Плевицкая запела о гибели «Варяга», о пожаре Москвы 1812 года, о разбойнике Чуркине, о событиях, разыгравшихся на старой Калужской дороге и в диких степях Забайкалья. Аудитория эстрадных концертов и миллионы слушателей грампластинок услышали из её уст песни-баллады о замученном кочегаре («Раскинулось море широко»), о каторжниках, угоняемых в ссылку («Когда на Сибири займется заря»), о смерти бедной крестьянки («Тихо тащится лошадка»).
«Песни Плевицкой, – восторженно писал критик тех лет, – для национального самосознания и чувства дают в тысячу раз больше, чем все гунявые голоса всех гунявых националистов, взятых вместе». Одно только это, отнюдь не устаревшее с прошедшими десятилетиями соображение дает нам сегодня уверенность в том, что фильм о Плевицкой и её экранный образ в исполнении такой замечательной артистки российской эстрады, как Татьяна Петрова, является фильмом нашим насущным не только как зрелище, но и как хлеб.
Путь из деревенской избы в монастырскую келью, оттуда в бродячий балаган, ресторанный «хор лапотников», далее – триумфальное выдвижение безвестной кафешантанной певицы в эстрадную звезду первой величины и, наконец, трагическая гибель во французской каторжной тюрьме – все это кажется невероятным, поражает остротой жизненных контрастов. Биография Н. В. Плевицкой (1884–1941 гг.) могла бы составить основу не одного романа, не на одну серию потянула бы история похищения генерала Е. К. Миллера в сентябре 1937 года в Париже и суда над Плевицкой и ее мужем генералом Николаем Скоблиным, подозреваемым в доныне недоказанном преступлении. Но нас, предполагаемых авторов будущего фильма, в первую очередь будет интересовать духовный путь, пройденный Богом данным талантом певицы по многострадальной земле Отечества и по кремнистым путям зарубежья. И думается, что на этом пути мы столкнемся с вопросами, которые смогут заинтересовать современного зрителя не меньше, чем так легко привлекающая внешняя канва, но мы не будем спешить и с ответами на них.
И в этой связи сразу хочется предложить и современную линию развития сюжета, которая, тесно сплетаясь с чисто исторической, прояснила бы тот интерес, который мы питаем к событиям, ушедшим в таинственную Лету. Кроме того, очень хочется отойти от академической формы «костюмного» фильма, который всегда так или иначе пахнет нафталином и пудрой, особенно если это фильм биографический. Хочется привнести именно ту меру условности, которая бы позволила одновременно быть свободным от штампованных форм и сосредоточить внимание на идее.
Итак, фильм в фильме: съёмочная группа, выехавшая на натурные съёмки в экспедицию в Курск и его окрестности, становится в прямом и переносном смысле слова перед проблемой замены исполнительницы главной роли. Под угрозой и судьба режиссёра-постановщика. Выручает случай: ассистент по актёрам находит героиню в церковном хоре кафедрального собора. Она оказывается простой женщиной с окраины города Верой Альковой, воспитывающей дочь и держащей козу, без которых она не соглашается ехать не то что в Париж, но и в первопрестольную Москву. Ну, а дальше все происходит совсем как в сказке о Золушке с тем только отличием, что мы не гарантируем подобного счастливого конца.
Не будем пугать призраком эклектики, а вспомним, что фильм, кроме всего прочего, мыслится и как музыкальный тоже, и поэтому известная доля юмора ему никак не помешает.
Разумеется, необходимо еще не раз продумать законность современных линий и закономерность переходов от одного плана в другой и обратно, а также выстроенность обоих планов в один сюжет развитием единой главной мысли, что и является сверхзадачей этой двухмерности.
Вместе с тем, такая постановка вопроса дает, возможно, единственный выход из ситуации, когда у нас в стране всё ещё находятся люди, обвиняющие Плевицкую в причастности к белому движению, а на Западе прямо обвиняющие в обратном…
Задача написания подобного сценария во многом облегчена наличием двухтомной автобиографии Н. В. Плевицкой, а также большим количеством статей, рецензий и интервью в русской прессе и в ряде современных работ и исследований, включая и те, что изданы за рубежом. Небезынтересно будет сделать попытку включения в фильм и фрагментов тех лент, в которых она принимала участие в качестве актрисы кино, в том числе в работах кинорежиссера В. Гардина.
Обрисовав в сих чертах образ и величие нашей героини, а заодно и наше художественное кредо, позволим привести, не вдаваясь более в подробный пересказ биографии и суждений, наброски будущего действа.
* * *
Дёжка и Машутка, деревенские девочки-подружки, выскочили из кустов на залитую солнцем опушку леса и остановились, переводя дыхание и осматриваясь.
– А ну как русалки защекочут?
– На поляне-то, поди, уже не защекочут.
– А им что поляна-то? Им бы только в колокол не ударили.
– А ударяли, нет ли, я не слыхала?
– И я…
Подружки прислушались. На все лады голосили и заливались задорным утренним пением птицы, у самых босых детских ножек сновали с деловым жужжанием пчелы и сердитые шмели.
– Ишь, заливает, – восхитилась Дёжка на соловья. – О чём это он? Верно, чует, что праздник нынче.
Почти касаясь нижними ветвями высоких трав и цветов, стояла посреди поляны белая берёза, манила к себе девчонок.
– Ты первенец, я последыш, нам бояться нечего, русалки первенцев и последышей не трогают.
– А солнышко играло на восходе? – не унималась Машутка.
– В покое подымалось.
– Верно. В эту Троицу оно стало степеннее, а в прошлую, Якушка баит, разными лентами полыхало и вертелось.
– Пошли, что ли, к утрене опоздаем. – Дёжка взяла Машутку за руку, хотя та была её на полголовы выше. – Эх, была не была!
Переполошив поляну своим тонким весёлым визгом, обе девочки кубарем подлетели к берёзе и обняли её белоснежный с редкими проталинами черноты стройный ствол с двух сторон, пооглядывались.
– Тихо, Машутка, – скомандовала Дёжка, и обе они затаили дыхание. Кругом все так же мирно, только высоко в небе кружила под облаками какая-то птица.
– Никак ворон кружит, – прошептала Дежка.
– Какой ворон – коршун!
– Нет, ворон, не спорь, я его еще с околицы приметила.
– Должно, Орешка-разбойник с постоялых дворов рядом ходит.
– Чур тебя, Машутка, беду накличешь, какой еще Орех?
– Рыжий такой, огромадный. О нем вчерась маменька сказывала, будто выходит он на шлях в темные ночи и грабит мужиков. Лицо все закутано, да узнают его по огромному росту – уж как ни прячь морду, а у нас таких ни одного в округе нету.
– Чего бы ему поутру-то здесь быть?
– Так, а кто ж его знает, праздник, народу много едет, вот и не сидится, небось, в берлоге. Раз в лесочке, где Крюковский Верх, нашли убитого купца, маменька говорит, что все уверены, что это дело Орешкиных рук. И с той поры мужики в город в одиночку не ездят, а сбираются обозами.
– А ворон причём?
– Не ворон, а коршун-стервятник, он ученый, он Орешке служит, на след наводит.
– Какой след?
– Кто заблудится если или от своих отбился.
– Ой, Машутка, мне что-то шибко страшно сделалось, побегли домой.
– А кумиться как же?
– Ой, верно! Так давай быстрей! Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь. – Дежка истово перекрестилась, старательно, широким знамением, и достала с груди серебряный крестик. – Целуй скорее! Буду тебе верной кумой.
Машутка бережно взяла на ладошку маленький крестик на суровой ниточке, нагнула к нему свое круглое и сразу ставшее серьезным личико и тихонько поцеловала трижды.
– И я тебе, Дежка, буду век верна, – со слезами на глазах проговорила Машутка, – потому тебя лучше во всем Винникове никого нету! Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь. – И Машутка в свою очередь достала из-за пазухи деревянный крест на розовой ленточке.
Дежка торопливо поцеловала протянутый крест, затем обняла Машутку, они трижды по-русски поцеловались и так, обнявшись стоя, замерли.
Ласковый шелест прошелся по молодой яркой зелени березовых веток, с которых, плавно раскачиваясь на легком ветру, с любопытством поглядывали на юных подружек лесные птицы…
С полными охапками цветов, еще мокрых от росы, с березовыми ветками на головах, Дежка и Машутка торопились домой, чуть не вприпрыжку семеня вдоль поскотины вверх от ручья. В это время ударил соборный колокол на колокольне Троицкой церкви, его державный звук важно и плавно наполнил окрестность, а девочки, застывшие было на миг, не сговариваясь, пустились еще быстрее.
Праздничный благовест заставил очнуться и рыжего разбойника Орешку, ночевавшего в прошлогоднем шалаше за гумном. Застясь от яркого солнца, бьющего с открытого поля прямо в заспанное, заплывшее с тяжкого похмелья лицо, он встает, шатаясь, у входа в свое недолгое пристанище, стараясь сообразить свою вчерашнюю жизнь и нынешние сны с днем настоящим, поводит, как мерин, толстыми губами, шумно дышит, потягивается и громко и серьезно зевает, отчего за ближним огородом заливается неистовым лаем кобель на цепи.
– Кабы ты, братец, сдох, – лениво и незлобно рычит в его сторону Орешка и оборачивается на приблизившийся звук чьих-то легких движений за шалашом.
Дежка и Машутка выбегают пред его суровые очи, застывают, натолкнувшись одна на другую, как вкопанные, и смотрят, открыв рты, на разбойника.
– Ц-ты! – топает сердито Орешка босою ступней в пыль, девочки вскрикивают, Машутка роняет цветы и бежит, а следом за нею и Дежка, но падает, оглянувшись на страшного мужика, и березовый венок слетает с ее головы на землю.
– Кума-а-а! – вновь вскакивает Дежка. – Кума…
Но верной Дежкиной кумы уже и след простыл; подгибаясь от страха в коленях и прихныкивая, Дежка кое-как трусит ей вдогонку, а веселый, настоящий разбойничий свист придает ей новые силы.
Орешка доволен и весел. Он подбирает цветы и венок, нацепляет его себе на макушку и запевает неожиданно чисто и ладно:
– Рассыпался дробен жемчуг, рассыпался
Подсыпался к красным девкам, к карагоду —
Поиграйте, красны девки, поиграйте,
Пошутите вы, молодушки-молодые…
Титр: «ДЁЖКИН КАРАГОД»
«Красная и белая»
В церкви тесно и душно, хотя северные и южные двери открыты настежь. Вот одна девочка не выдержала долгой службы, упала, ее выносят. Дежка стоит рядом с матерью, а позади них и сестры стоят. На Дежке платьице розовое надето, передник петушками расшит, а она все на братца старшего любуется, он сегодня в новой малиновой рубахе и сапогах. Рядом и отец стоит, на нем свитка надета, и все-то складочка к складочке прилажено, и даже шапку он держит в руке по-военному. Посмотрит строго на Дежку, она враз и присмиреет, потом опять забудется, начнет хор разглядывать.
Управляет хором учитель, помахивает белой и тонкой рукою, а в хоре тоже знакомых много, один дискантом поет, другой – звонким и чистым альтом. Дежка вертится, на месте не стоит, и мать ее сзади одергивает, шепчет жарко на ухо:
– Отваляю по чем ни попало, у тебя щас других дум, кроме молитв, никаких быть не должно.
А там и другая не вытерпела молодайка, на голосы заиграла. Вывели ее под руки, а кругом зашептались:
– Порченая, должно, Кузьминиха, ведьма, испортила, пропасти с нее нету.
А белая рука учителя все помахивает, манит взор. Дежка шепчет сестре украдкой от матери:
– Вот в эту зиму учиться пойду и, наверное, буду петь на крылосе, голос у меня не хуже, чем у Махорки Костиковой, которую все село хвалит. А я, не дальше как вчера, в лесу ее перекричала!
Мать хвать Дежку за ухо да рядом с собой ставит:
– Ты, как свеча, перед Богом должна в церкви стоять!
Обедня еще не кончилась, а на середине выгона уже раскинули свои палатки приезжие купцы.
У большой палатки молодой приказчик, надрываясь, зазывает покупателей:
– Тульских, вяземских, медовых!
Выйдя с надкусанными просфорками из церкви, Дежка и Машутка обернулись, перекрестились на теплящуюся над входом лампаду, поклонились в пояс и разом заговорили:
– А я еще обет дала замуж не идти и всем скажу, чтоб меня не дразнили «Сенькой сопатым»!
– А я попрошу, чтобы отец отдал мне старые ясли, а мать попонки и приданого моего, а остатнее пусть себе заберут.
– Чтой-то ты, Дежка, я в толк не возьму…
– Да слушай, кума! Я ясли прикрою попонками, заставлю их на зиму снопами и удалюся от мира в пустынь.
– И я с тобой!
– Вместе нельзя, Машутка, да ты слушай! Только далеко в лес забираться на житие отшельное страшно мне одной. Надо думать, можно спастись и в яслях на огороде, если чисто и безгрешно.
– Ну, ясно дело, чтоб безгрешно.
– И еще я попрошу тебя мне простить, что ругала тебя черным словом, – и Дежка поклонилась Машутке в пояс.
– Когда это? – живо поинтересовалась Машутка.
– А давеча, кума, как на Орешку-то наскочили.
– А, вон ты про что, кума! Тогда уж и ты меня прости, Христа ради!
– Бог простит.
И обе кумушки снова поклонились друг другу в пояс, чуть лбами не стукнулись.
– Карамель царская, орешки воловские, – зазывали купцы народ.
– И тех, и этих хочется, да брат всего три копейки подарил, – вздохнула Дежка, – много не купишь.
– Тебе чего, барышня? – кричит приказчик.
– Дай мне на копейку…
– Подходи, красавица моя, я тебе на две насыплю.
– Мне пряников.
– А каких же? Медовых или вяземских?
– Будьте добреньки, медовых мне, и еще… семечек на копейку.
– А сколько их у тебя?
– Три копейки, Николай подарил.
– Так хорошо, что три, Бог троицу любит, возьмите, барышня, тогда уж и карамельки царской, ни у кого такой больше нету!
Насыпали Дежке в платок на три копейки и пряников, и семечек, и карамельки, ажно в двух ладонях не помещается.
Завязала Дежка все в узелок, закраснелася, поклонилася и бежать прочь, в толпу народа.
А гулянье уж разгорается. Из соседней деревеньки девушки, как одна, в черных сарафанах, узких, с красной каймой, только цветные платки на головах, и все в белых чулках и ко́тах, на подковках. Стали молодухи в круг, одна запела:
– Ой, мать ты моя, Катярина,
На что же ты меня спородила,
Несчастную на горе,
Счастья-доли не дала.
И все, выбивая на месте подковами такт, приговаривают:
– Го со-со, го со-со,
Ну еще, еще, еще,
Счастья-доли не дала,
Молоду замуж отдала.
Свякровушка курлива,
Моя ладушка ревнива –
Го со-со, го со-со,
Ну еще, еще, еще…
Прижав узелок с покупками обеими руками к груди, Дежка стоит чуть поодаль и во все глаза глядит на поющих. А молодухи горят на солнце кичками, понёвами, ослепительно яркими передниками.
А тут же рядом запестрел громадный хоровод-карагод родной Дежкиной деревни – Винникова, и Дежка бросилась туда.
Игровую пляску первыми вели Якушка и Николай, Дежкин брат, а за ними пар двадцать, одна за другой.
Павами выступают девицы, а щёголи винниковские – с молодецким посвистом, да с присядкою, поют:
– А у нас на улице, а у нас на улице,
А у нас на мураве, а у нас на зеленой
Там много хороших, там много пригожих.
Что хороший молодчик, молодец Иванушка,
Он хорошо ходит, да манерно ступает,
Сапог не ломает, чулок не марает,
На коня садится, под ним конь бодрится,
Он плеткою машет, а ворон-конь пляшет.
Поехал молодчик к стежкам-дорожкам,
К стежкам-дорожкам, лагам ко болотам,
Где водица лилеет, трава зеленеет,
Сады расцветают, соловки распевают,
Кукушки кукуют: у кукушки нет дружки…
– Ты чего тут? – увидал из карагода Дежку брат Николай. – Купила ли пряников?









































