Текст книги "Смерть от любви (сборник)"
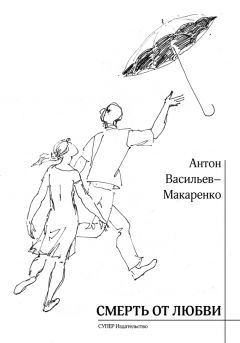
Автор книги: Антон Васильев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
А у самой сцены, за первым столиком, сидит старый купец, борода в серебре, и с ним другой, помоложе. Старик смотрел-смотрел на певицу и вдруг, точно рассердясь, отвернулся. Молодой что-то ему зашептал, сконфузился.
Плевицкая на мгновение смутилась от этой реакции сидящего перед ней слушателя, но продолжала петь. Временами пение было похоже на сказывание. Глаза меняли выражение, но с некоторой искусственностью. Зато мимика лица была что раскрытая книга.
Собинов внимательно рассматривал ее на эстраде в белом платье, облегающем довольно стройную, но мощную фигуру, с начесанными вокруг всей головы густыми черными волосами, блестящими глазами, широкими скулами и немного вздернутым носом. Что-то полутатарское было в ее облике, но вдохновение необычайно красило ее и придавало своеобразную грацию движений.
– Заставить смолкнуть такую аудиторию может только талант, – шепнул Собинов своей спутнице. – Она талант. Сегодня же приглашаю ее выступить со мной и Фигнером в концерте.
– Ты с ума сошел, мой милый, – улыбнулась соседка.
– Сейчас же пойду за кулисы и приглашу… Посмотри, какой у нее странный, оригинальный жест сцепленных кистей рук. Такого ни у кого не увидишь.
– Это называется заламывать пальцы, дорогой.
– Эти пальцы живут, говорят, страдают…
Купец за первым столиком снова повернул к сцене лицо, и Плевицкая увидела, как по широкой бороде его текут обильные слезы, почему он и отвернулся. И она успокоилась…
Небольшая гостиная Царскосельского дворца была наполнена великосветской знатью. Сам Государь-Император ласковым взором привечал взволнованную певунью, исполнявшую тем временем самую что ни на есть революционную песню о мужике-горемыке, попавшем в Сибирь за недоимки.
Довольно скромную фигуру Императора окружала блестящая публика, усыпанная орденами и бриллиантами. Одна из дам, путая русскую и французскую речь, все пыталась дознаться у стоявшего рядом генерала, о чем поет эта пейзанка. Генерал отмалчивался, пожимая плечами. Тогда она снова наставила на Плевицкую свой лорнет и спросила себя самое:
– Что это, «батожа»?
Концерт свой певица закончила заздравной чарой, услужливо переданной ей одетым в парадный мундир московским губернатором генералом Джунковским.
Поднеся Императору золотой кубок, Плевицкая спела:
– Солнышко красное, просим выпить, светлый Царь,
Так певали с чаркою деды наши встарь!
Ура, ура грянем-те, солдаты,
Да здравствует русский родимый Государь!
Грянуло громкое «ура», от волнения у многих засверкали слезы…
– Спасибо вам, Надежда Васильевна, – тихо промолвил Николай II. – Слушал вас сегодня с большим удовольствием. Мне говорили, что вы никогда не учились петь. И не учитесь. Оставайтесь такой, какая вы есть. Много я слышал ученых соловьев, но они пели для уха, а вы поете для сердца. Самая простая песня в вашем исполнении становится значительной и проникает в сердце…
Затем Плевицкую окружили дамы.
– Что это – «куделька», что такое «батожа»? – не унималась дама с лорнеткой.
– Куделька – это неспряденная пряжа, мадам, – пояснила Надежда Васильевна. – А батожа… батожа – с чего веревки плетут.
– Шарман! – осмотрела Плевицкую с ног до головы дама, – очень милы! – И отошла, поплыла по залу.
– Разве эта дама не русская? – тихо спросила Плевицкая генерала Николаева, стоявшего рядом.
– Она русская, но дура, – отвечал генерал.
* * *
Надежда пришла к театру и увидела у подъезда много автомобилей и экипажей.
– Господи, помоги, – помолилась она. – Как бы не провалиться.
«Запорожец за Дунаем», после которого ей петь, подходил к концу. Вот и занавес упал. За кулисами шумят, меняя декорации. От волнения перед выходом Плевицкая поссорилась было с аккомпаниатором.
– Эх, Рубинштейн! – съязвила она.
– Ух, ведьма! – огрызнулся Зарема.
Посмотрев внимательно друг на друга, они рассмеялись. Занавес, шурша, поднялся вверх. Надежда перекрестилась и вышла на ярко освещенную сцену. За ней тянулся длинный шлейф розового платья.
С первым же аккордом страх унялся, и Плевицкая захмелела в раздольной русской песне.
Сверху, из райка, ей кивали гимназистки, в первых рядах улыбались и что-то кричали… Успех был полный.
Белое московское утро в начале марта. Падает хлопьями тихий снег, ложится мягким пуховиком за окном на подоконник. Причудливо и пышно наряжены деревья, все стало там серебристым и светлым.
Так и не отходила бы от окна своей меблированной комнаты в старинном Замоскворечье Плевицкая, все смотрела, смотрела бы на эти белые колдующие хороводы, на притихшую запушенную улицу, по которой с храпом проносятся рысаки в дымке дыхания и снега, и бормочут, смеются, куда-то спешат бубенцы.
И вот за окном другого дома заснеженный Петербург.
Просторный светлый покой Федора Ивановича Шаляпина, светлая парчовая мебель, ослепительная скатерть на широком столе и рояль, покрытый светлым покрывалом. За роялем Федор Иванович разучивает с Плевицкой песню «Помню, я еще молодушкой была».
Сидя на диване в черной шелковой ермолке, Константин Коровин делает карандашный набросок.
Как песня закончилась, встал Шаляпин, схватил певицу своей богатырской рукой, да так, что она затерялась где-то у него под мышкой. И поплыл его мощный соборный голос:
– Помогай тебе Бог, родная Надюша. Пой свои песни, что от земли принесла, у меня таких нет, я слобожанин, не деревенский.
И попросту, будто давно с нею дружен, он поцеловал ее.
– Ты заметил, Федя, – подал свой голос Коровин, – у Плевицкой расширяются зрачки, когда поет. Это значит, душа горит, это и есть талант.
Великолепный зал Курского дворянского собрания, как пчельник, гудит от толпы.
В артистическую то и дело стучат, но никому не попасть.
– Просим пожаловать, но после концерта, – заслоняет собою дверь импресарио.
– Телеграммку примите! – просит жалобно чей-то голос.
– Ни телеграмм, ни писем, все по окончании, господа!
А Плевицкая не отходила от зеркала и так прихорашивалась, что горничная заметила:
– Уж так вы хорошо выглядите, словно к венцу.
– А мне, Машенька, все кажется, что не так я хороша, – вздохнула Плевицкая.
– Хороша, хороша, уж куда лучше!
– И сердце сжимается. Ну, право, как у невесты. Уж скорей бы звонок!
Зал загремел от рукоплесканий.
Плевицкая нашла родное побледневшее от волнения лицо старушки-матери во втором ряду. Поклонилась публике направо и налево, а матушке ниже всех и в особицу.
Акулина Фроловна поняла, заулыбалась, привстала в свой черед и поклонилась дочери прямо с места.
Все головы повернулись в сторону матушки. По залу пронесся шепот:
– Это ее мать, мать.
И еще сильнее загремел зал от рукоплесканий…
На другой день к Плевицкой приходили винниковские земляки.
– Здорово, Дежка, ты «Комариков»-то разделала!
– Чисто по-нашему, по-деревенски!
– Так и сияла вся, а серьги и жарелки на шее, как молонья, сверкали. Загляденье!
– А как вам мой аккомпаниатор? – поинтересовалась Дежка.
– Это который же будет?
– А вот профессор Иодко, виртуоз на цитре.
Крестьяне-земледельцы переглянулись. Один откашлялся.
– Эфтот барин с бородкой, что ли?
– Какой, какой, – заволновались другие, – в черной кацавейке который?
– Да, он самый!
– Этот, что с хвостиком позади?
– Да!
– Сидел на стуле, ровно… козел.
– А скрипел чисто немазаная телега, – подхватили другие.
– Как – «скрипел»? Он на цитре…
– И до того, Наденька, скрипел, аж невмоготу.
– Ах, да что вы, мои милые, это такой чудесный инструмент, и какой искусный музыкант, профессор Иодко, право же!
– Да что же мы, голубушка ты моя, разве сами не слышали? Пастух Давыдушка, глухой-от, на дудке куда серьезнее высвистывает!
– А про гармониста Ваньку Юдича и говорить неча, – заключил состарившийся Якушка. – Тот как заиграет, суставы ходором ходят!
А днем побывала Плевицкая и в Троицком девичьем монастыре, из которого убежала когда-то в мир. Ласково встретили ее монахини, угощали чаем, расспрашивали об ее успехах.
Обошла Надежда все кельи, все уголки обители, выглянула на чердаке в слуховое окно, что доносило до нее соблазны мирской жизни…
В заветной часовенке пред тем же образом и тою же негасимою лампадою стала на колени:
– Ныне к вам воздежу руце, святии мученицы, пустынницы, девственницы, праведницы и вси святии, молящиеся ко Господу за весь мир, да помилует мя в час смерти моея…
Из святых врат вышла под руку с Эдмундом Мячеславовичем, поворотились к надвратному образу отдать поклон, да вырос, как из-под земли, юродивый на культяшках:
– Раздергало тибе,
Раздергало тибе,
Как закипела кровь,
Как все ходит ходором –
Ходи хата, ходи печь,
Хозяину негде лечь.
– Дурак! – вырвалось у Плевицкого.
– Эдмунд! – убрала руку Плевицкая. – Побойся Бога.
– На печи горячо, на лавочке узко, – засмеялся юродивый, погрозил обоим пальцем и отскочил назад, и вроде сплясал на своих обрубках, поднимая вокруг себя теплую курскую пыль облаком.
Плевицкая бросила ему рубль и догнала мужа:
– Бедный мой Эдмунд! Хочешь, в лес поедем, тут Мороскин лес начинается за Сеймом, мы девчонками туда на Троицын день кумиться бегали.
– Что это – «кумиться»? Ничего не знаю. Впрочем, поехали, мне совершенно все равно.
В красном автомобиле терпеливо ждала, сидя на заднем сиденье, Акулина Фроловна. Плевицкий обошел машину кругом, отогнал прочь босоногих ребятишек и сел за руль. Надежда рядом с матерью. Крякнул дважды клаксон, черный дым с треском рванул наружу, поехали…
– Ну и храпунок! – удивилась мать. – Едешь себе, добро милое, как в люльке, и кнута не надобно, и кобыла тебе, прости Господи, перед носом хвостом не машет, а он себе похрапывает да едет. Вот умственная диковина, до чего дошел человек.
– Тут направо, Эдмунд! – скомандовала Плевицкая. – Через мост поедем.
Мощеная камнем дорога круто взяла на холм, с которого весь город с его святынями был как на ладони.
– Что, матушка, – взяла Плевицкая ее за руку, – скажи ты мне по совести: петь ли мне и дальше людям песни русские или домом своим зажить, скрепить свое сердце узами семейными?
– Что ж, доченька, по правде сказать, ты Богом отмечена и талант тебе послан, а песни поешь такие, что их и в церкви не грех петь да слезами обливаться…
Отвернулась мать, а в глазах у нее слезы стоят, да встречный воздух быстро их сушит.
А Надежда в другую сторону глядит, и у нее слезы. Съехала, однако, машина с горы и остановилась. Плевицкий пошел опять кругом ее осматривать, под днище заглядывать.
– А концерт-то, концерт как тебе, матушка, все ли понравилось?
– Как мать, хвалить тебя не стану, а то выйдет что «хороша наша дочка Аннушка, а кто хвалит ее – матушка да бабушка». Хучь тебя-то хвалят многие, сама давеча видела. Да вы куда собрались-то, уж не в деревню ли нашу? Нас ведь только к вечеру ждут.
– Хочу, маменька, Эдмунду Мячеславовичу лес Мороскин показать, где мы так хорошо гуляли когда-то, венки плели из цветиков лесных.
– Да уж ты не задумала ли тут чего, а ну рассказывай, по глазам вижу, что задумала.
– Да вот, вложить хочу средства свои, маменька, в родное сердцу место, пусть будет лес наш.
– Ох, Дежка, что ты, и подумать страшно, такие деньжища! Да ты бы лучше братцу-то родимому с домом подсобила, уж второй год крыша течет, все ему, бестолковому, руки не доходят.
– И крышу новую брату Николаю справим, и дом новый под ту крышу, под железную. Дом чтоб белый-белый был, чтоб слепил на солнце весь, да ворота резные и кругом забор тесов. Слышь, Эдмунд Мячеславович, справим дом деверю твоему, как думаешь?
– Дом – дело хорошее, Надежда Васильевна, – снова сел за руль Плевицкий, – а роднее брата никого нет. Можно и другой раз замуж пойти, и детей новому мужу нарожать, а брата родного и у Бога не вымолишь. Верно, Акулина Фроловна?
– Умные речи слышу, любезный зять, да откуда, удивляешь, у тебя мысли такие берутся?
– Да все дочь ваша просвещает меня. На ночь изволили рассказать сказку про рязанскую, кажется, женщину. Будто и сказка так называется, про рязанскую…
– «Авдотья-рязаночка», Эдмунд Мячеславович.
– Именно, что рязаночка! Хорошо, понял. – И Плевицкий рванул машину с места.
– Ну и храпунок! – не преминула удивиться Акулина Фроловна. – На нем бы, да в Святую бы землю Палестинскую добраться, а или в Киев хотя бы, слышишь, дочка?
– Ах, маменька! Слышу, слышу…
Десятитысячная толпа, собравшаяся вокруг летней эстрады Московского парка в Сокольниках, слушала, затаив дыхание, вдохновенное пение Плевицкой.
– Собирайтесь поскорее, стар и млад,
Звонко гусли говорливые гудят,
А под говор их я песню вам спою,
Быль-старинушку поведаю свою…
Поодаль, позади толпы, облокотясь на дверцу автомобиля, скучал Плевицкий, попыхивая дорогой гаванской сигарой.
А за кулисой критик Шебуев и близкая приятельница певицы Мария Германовна оценивали обстановку:
– Экая прорва народу нынче. Однако!
– Тыщ десять будет, не меньше, как на ярмарке в Нижнем.
– Что делает высокое искусство!
– Ах, Николай Николаевич, наивный вы человек, все об высоком…
– Простите, Мария Германовна, я не совсем вас понимаю…
– Да уж чего уж тут!
– Да уж вы скажете, сделайте милость!
– Да уж после скажу.
– Будьте любезны.
Раздался гром аплодисментов, взволнованная Плевицкая выскочила к друзьям:
– Ну как?!
– Волшебно, великолепно, Надежда Васильевна!
– Да сами извольте слышать, голубушка моя, какую бурю подняли. Вы – маг, маг, магиня!
Окруженная близкими и друзьями, Плевицкая потонула в цветах и комплиментах и когда собралась выходить, наконец, из уборной, то толпа была как наэлектризованная.
Никто не подозревал, что стрясется с ними через миг.
Как только певица показалась в дверях, к ней ринулись за цветами девицы, и так стремительно, что она покорно выпустила из рук букет, его мигом разнесли, а толпа понесла ее саму куда-то по кругу.
– Ах, это конец! – воскликнула Плевицкая и закрыла глаза.
Увидев, все же, ее полуобморочное состояние, молодежь постаралась образовать вокруг нее подобие цепи, что почти удалось.
А свиту затерли и разнесли не хуже букета. Мелькал где-то позади серый цилиндр Шебуева, пыталась докричаться и размахивала взметнувшейся над головами шляпой Мария Германовна. Толпа ревела что-то невообразимое и несуразное, люди залезали наперед и пытались заглядывать Плевицкой в лицо, будто она чудовище невиданное. Нашелся кто-то из гимназистов, крикнувший дурным голосом «ура», и часть толпы с охотою подхватила.
– Господа, успокойтесь, – надрываясь, взывал Шебуев. – Ведь это вторая Ходынка!!!
Отчаянно нажимая на клаксон, Плевицкий отважно вел свой автомобиль встречь толпы, рискуя подмять под колеса наиболее обезумевших.
Молодежь почти перекинула обмякшую кумиршу через борт автомобиля. Оказавшись в относительной безопасности, она тут же вспомнила про бедную подругу и стала искать ее глазами.
Мария Германовна показалась в самом жалком виде, оправляя на голове какой-то блин – еще недавно ее пышную шляпу. Она бранилась, красная от волнения:
– Дураки, сумасшедшие!
– Сидела бы дома, чем ругаться, – крикнул ей стоявший, вцепившись в автомобиль, почитатель, мигом переконфузившийся при виде того, как она садится в машину к Плевицкой.
При виде собирающейся помятой спешащей на помощь и невредимой свиты страх у Плевицкой сменился неудержимым смехом.
– Я вас всех очень люблю! – кланялась она из автомобиля восторженным москвичам и посылала воздушные поцелуи через голову мрачного водителя-мужа. А горничная Маняша, растрепанная толпой, с раздавленной картонкой, поправляла дрожащей рукой волосы и все бормотала:
– Ужасти, какой мы имеем успех. Ужасти!
Солнце, взошедшее из-за снежных альпийских вершин, отразилось в Невшательском озере и послало свой луч на широкий балкон к Плевицкой, в утреннем туалете вышедшей подышать вольным воздухом благословенной Швейцарии.
– Соловей кукушечку уговаривал,
Молоденький рябую все сподманивал,
Полетим, кукушечка, во мой зелен сад,
Во моем садике гулять хорошо…
Так пела Надежда Васильевна в этот сияющий августовский полдень, пела сама себе, стоя с бокалом воды в руках и глядя на цветущие пред нею на ограде балкона розы.
В это время поручик блестящего Кирасирского Ее Величества полка Владимир Шангин зашел без стука в номер и легко упал в кресло, отбросив свежие газеты на застланную постель.
Почувствовав присутствие человека, Плевицкая петь перестала, поставила бокал на ограду и вошла в помещение.
– Будет война, – в ответ на встревоженный взгляд сказал Шангин. – Укладывай, Надюша, вещи, завтра же надо ехать в Россию.
Плевицкая взяла с постели французскую газету и посмотрела с сомнением на крупные заголовки ничего не говорящего ей текста:
– Ради всего святого, Владимир, скажи, что случилось? Не пугай меня, милый, мне так хорошо с тобой!
– В Сербии убит принц Фердинанд, дорогая! Это война.
– Ах, я ничего не понимаю! Какое отношение имеют мои вещи к убийству чужого принца где-то… в Сербии?
Подувший с гор ветерок качнул ветку розы, и она коснулась небрежно поставленного рукой певицы бокала, бокал упал со звоном на кафельный пол балкона. Вода медленно растекалась по черным и белым клеткам, которыми он был выложен.
* * *
Октябрь 1914 года. Ковно. Военно-полевой госпиталь 73-й пехотной дивизии генерала Левицкого.
В палате на восемь коек дежурит сестра милосердия, в сером ситцевом платье и белой повязке. Она переходит от одного раненого к другому, склоняется над мечущимся в тяжелом бреду, поправляет постель, присаживается к другому, берет его за руку. Это Плевицкая.
– Сестрица, у меня завтра престольный праздник Покрова, – шепчет тяжелораненый. – На будущий год, Бог даст, отпраздную…
Он старается улыбнуться, а «сестрица» отворачивается, стирает быстрые слезы.
– А я вам завтра из церкви просфору принесу, вы не скучайте. Я вам кровать уберу багряными ветвями, братец, слышите?
Но он не слышит, забылся с неловкой улыбкой на устах, а руку не убирает, держит Плевицкую за запястье. Пробовала Плевицкая вырваться, да куда там! Проснулся раненый и просит:
– Ты бы спела, сестрица, про море синее. Все мне что-то нынче море снится. Вот никогда не бывал, а поглядеть охота…
– Это какую же тебе про море-то?
– Да вот спевала ты давеча в офицерском отделение.
– Так то ж на втором этаже было, – удивилась певица.
– А не важно, что на втором, нам тут заботы мало, у нас слух-то таперича так изострился, что мы со второго слышим. Спой, спой хорошая, я тебя Христом Богом молю. Вот как охота. – И больной аж голову от подушки оторвал – показать, как ему хочется послушать. – Да ты тихонько, моя милая, тихонько, слышишь?
– Как по морю, по морю синему,
Лелеет море синее,
Там плывет, плывет табун уток,
Лелеет море синее.
Раненый снова затих и закрыл блаженно глаза, его рука обмякла и выпустила Дежкино запястье. А с другой, соседней койки и другой раненый боец слушает, и ему хорошо.
– Откуль взялся серый селезенька,
Лелеет море синее,
Он и взял чирку за правую крылку,
Лелеет море синее,
А все уточки позакрякали,
Лелеет море синее,
Не крякайте, уточки, не крякайте, серые,
Лелеет море синее,
Когда Бог усудит, и вам это будет,
Лелеет море синее…
Раненый заснул и дышал теперь глубоко и ровно, видно, снилось ему море синее. Плевицкая невольно, как ребенку, умиленно улыбалась ему, потом тихо встала и пошла по палате. Казалось, все спали в эту тихую осеннюю ночь, и только вместе с лунным светом в большое окно палаты проникали далекие звуки то ли приближающегося грома, то ли артиллерийской канонады, что было гораздо вернее. И голос Плевицкой звучал:
– У Бога мы все равны, а тут лежит передо мною изувеченный неизвестный человек, и никаких чинов-орденов у него нет. Он, видишь ты, не герой, а свою жизнь отдает отечеству одинаково со всеми главнокомандующими и героями. Только солдат отдает свою жизнь очень дешево, иногда и по ошибке того же главнокомандующего… Да простят мне устроители судеб человеческих: с точки зрения законодателей, я, вероятно, думаю неправильно. Но по совести, мне кажется, я права.
– Сестра, – раздался слабый голос. Плевицкая очнулась и подошла к другому раненому, тому, что тоже слушал про море.
– Ты прости мне, сестрица, я тебя уж спрошу: и откуда ты наши песни знаешь?
– Какие это ваши, браток? – ласково спросила в свой черед Плевицкая, садясь на краешке его постели.
– Да вот смоленские наши. Неужто сама деревенская?
Плевицкая кивнула утвердительно:
– Курские мы, с деревни Винниково, не слыхал про такую?
– Нет, про такую не слыхал, – подумав, сказал боец и вдруг оживился: – А ты, сестрица, меня еще раз прости, незамужняя будешь?
– Да вроде нет, – пожала плечами «сестрица» и улыбнулась.
– Никак вдовая, – пожалел «братец».
– Никак нет, не вдовая, – нахмурилась Плевицкая, – все живы, слава тебе, Господи! – Она перекрестилась и отвернулась.
– Ты, сестрица, не обижайся, я, может, чего не так говорю, но ты только послушай. Дом у меня богатый, двенадцать десятин земли и сад. И главное, изба новая, необжитая, аккурат под свадьбу готова.
– Да, правда, хороший дом, ничего не скажешь, – согласилась Плевицкая. – А только где ж я там петь буду?
– А на выгоне можно! Над Днепром у нас там место высокое есть, во все стороны видно, уж лучше места для песни и не придумаешь. Соглашайся, душа моя. Эх, усудил бы мне Бог такую жану, то была бы не жизнь, а рай!
– Да что там двенадцать десятин, – заговорил вдруг молчаливый доселе обитатель соседней койки.
– И сад, – напомнил первый.
– Ну, сад. За садом уход нужен, а ей, вишь ты, петь надо в том саду, соловьем заливаться, а не горбатиться. Верно, сестра, говорю? Энтот ухажер и впрямь по клеверам тя погонит, что делать станешь?
– А хоть бы и по клеверам, – не согласилась Плевицкая. – Лишь бы войны этой проклятой не было. И были бы все живы-здоровы, а там уж как-нибудь да поладим. Да ты что не спишь-то, Иван?
– Да уж не спится вот при таком разговоре… Ох, подняться не могу, взглянуть на жениха твого… болит все!
– Да ты лежи, лежи, – забеспокоилась Плевицкая. – Не надо ли чего?
– Да чего надо? Не знаю, чего. Ты, сестрица, мёд какой больше любишь – липовый или гречишный?
– Да я, Ванюшка, всех вас одинаково люблю, только бы побыстрее на ноги становились.
– Да не об этом теперь речь. Пасека у меня на заимке имеется…
– Вон что! Чего ж ты раньше-то молчал?
– Да правду говорю, огромадная пасека, полсотни уликов на лесной лужайке стоит. Пчел видимо-невидимо, так и брызжут в разные стороны, так и стараются, и все для тебя, сестрица, все в радости сердечной к твоей доброте. Делать ничего у меня не надо, только пой да ешь с медом хлеб пшеничный. Слаще рая будет!
– Да уж теперь и не знаю, что делать, братцы, и меду поесть хочется, и сада с новой избою жалко.
– Решайся, сестра, как скажешь, так и будет, – подал голос первый. – А надо пасеку, завести дело недолгое, была бы земля с нами.
– Придется по жребию решать, – вздохнула «сестрица», – а покамест все вы мои женихи, и только то плохо, что спать не желаете, придется мне, видно, окно от луны зашторить!
«Женихи» хотели было еще поспорить, да Плевицкая возразила:
– Все, все, все… Товарищей ваших разбудим. Тут у нас и тяжелых двое. Спите, мои хорошие, утро вечера мудренее.
Подошла к окну, зашторила его, а сама за шторой встала и за Владимира своего помолилась. А гром тот все ближе и ближе.
И вдруг почудилось ей, что не из окна полкового лазарета смотрит она, а из вагонного окна все быстрее несущегося поезда. И вот даже аккуратная надпись по-немецки промелькнула на аккуратненьком же, словно игрушечном, здании небольшого вокзала – «Амалиенгоф»… Затем – стремительно и долго одновременно уносящийся в прошлое большой барский дом, темные ели вокруг, и вдруг большой деревянный крест на могильном холме, православный, восьмиконечный, который так же стремительно стал увеличиваться и словно упал, как звезда, на очи Плевицкой, ослепив, как молния, до боли. Она тихонько вскрикнула и закрыла глаза рукой.
Никто в палате, наполненной стонами и криками больных, не заметил тревожного звука.
* * *
Водолечебница доктора Абрамова в Петербурге. У ног величавой аристократки Елены Ивановны Апрелевой, сидящей в большом кресле, на маленькой мягкой скамеечке, положив ей голову на колени, сидела Плевицкая. Седенькая, похожая на испуганную мышь, компаньонка Амалия Ивановна сидела чуть поодаль и работала какое-то рукоделие. Елена Ивановна тихо гладила темные волосы печальной певицы и рассказывала, не торопясь, о былом:
– Ты, конечно, помнишь, Наденька, этот романс: «Сияла ночь, луной был полон сад»?
– «Лежали… лучи у наших ног в гостиной без огней», – продолжила цитату Плевицкая. – Я пою его иногда:
– Рояль был весь раскрыт, и струны в нем дрожали,
Как и сердца у нас за песнею твоей.
Встрепенувшись при звуках этого пения, Амалия Ивановна подняла брови домиком и вообще скорчила такую забавную рожицу, что если бы кто теперь посмотрел на нее, то непременно бы прыснул со смеху, если бы не расплакался от умиления. Но никто на нее не смотрел.
– Так вот, – продолжала Елена Ивановна. – Я была еще девочкой, когда мы всей семьей гостили в Ясной Поляне. Толстые были очень дружны тогда с маман и папа́. Тогда же в Ясной Поляне гостили Фет с женой и Тургенев, только что примирившийся с Толстым. В усадьбе любили сумерничать. Дочь Льва Николаевича играла и пела. После одного такого вечера Фет рано ушел к себе наверх. А утром за кофе Авдотья Петровна, его жена, сказала:
– А Афанасий Афанасьевич что-то писали.
– Ничего я не писал, – отвечает смущенный Фет.
– Нет, писали. На столе лежит, на синенькой бумажке написано.
Тогда молодежь, в том числе и я, побежали наверх, принесли синюю бумажку и стали читать вслух: «Сияла ночь, луной был полон сад»…
– «Лежали… лучи у наших ног в гостиной без огней», – снова запела очарованная рассказом Плевицкая.
– Да. Так вот, когда дошли до слов «прошли года томительно и скучно»…
– «И вот в тиши ночной твой голос слышу вновь…»
– Да, именно. То все как-то сконфузились, вспомнив, как некрасива была Авдотья Петровна: любовь поэта была одна мечта. И стихи, кажется, до конца не дочитали. В это время Толстой и Тургенев прогуливались по саду и мирно беседовали.
– А про Виардо помните?
– Нет, Наденька, я не знала Полину.
– Говорят, она была некрасива… тоже.
– Говорят… Помнится мне, в те дни пришло письмо из Парижа, которое несколько встревожило Тургенева. М-м Виардо писала ему, что ее в нос укусила муха, что нос распух и что она ходит, перевязавши платком лицо. В письме она прислала и рисунок пером, изображавший профиль с перевязанным носом. «Если это ядовитая муха и заразила кровь, то это опасно, – говорил Тургенев. – Я должен ехать во Францию». – «Все бросить: и твое Спасское, и нас, – возражал ему папа, – и твои занятия, и ехать?» – «Все бросить и ехать!» – твердил Тургенев. Чем кончилось, не помню, телеграммы из Буживаля были не каждый день. Кажется, муха оказалась неядовитой…
– Ах, какая во всем этом чистота! – воскликнула Плевицкая. – Она была великая певица или великая женщина?
– А разве это не совместно?
– Не знаю. Мне хотелось бы быть похожей на нее.
– И жить во Франции?
– Ах нет, только не это, я так люблю нашу милую родину, и так теперь страдаю за нее. За что Бог карает Россию?
– Сказано: кого Бог любит, того наказует в жизни земной.
– Это несправедливо!
– «Мне отмщенье и Аз воздам», сказал Господь. Его пути никто же исповесть.
– Я так люблю вас, милая Елена Ивановна. Скажите по совести, по правде, сколько вам лет?
– Зачем вам, голубушка вы моя? – снова погладила ее с улыбкой Елена Ивановна.
– Вы так моложавы, так обаятельно просты и так оживленны порой, что я, признаюсь, часто завидую вам. – Плевицкая ловким движением сменила позу, встала на колени и села на бедро, облокотясь о скамеечку. В вас можно влюбиться.
– Милая, хорошая моя, Дежка, я и не собираюсь скрывать свой возраст ни от кого, от вас тем более, но мне не верят.
– Сколько, сколько? – весело захлопала Плевицкая в ладоши и девочкою оглянулась на «мышь».
Амалия Ивановна с застывшим на весу рукоделием часто моргала от возбуждения белыми ресницами.
– Мне шестьдесят три года, – рассмеялась Елена Ивановна. – Но когда я говорю, что мне шестьдесят три, люди говорят: «Врет, ей семьдесят три», обязательно десяток прибавят. Ох уж эти люди!
– Ах, правда, – расстроилась Плевицкая, – уж мне эти люди!
И сердясь на этих людей, которые прибавляют красивым женщинам годы, Плевицкая быстро встала на ноги, гордо выпрямилась, прошла к открытому фортепиано и, сама аккомпанируя себе, запела во всю, казалось, силу, насколько позволяли стены:
– И много лет прошло, томительных и скучных,
И вот в тиши ночной твой голос слышу вновь,
И веет, как тогда, во вздохах этих звучных,
Что ты одна вся жизнь, что ты одна – любовь.
Надо ли говорить, что и госпожа, и ее компаньонка слушали, что называется, замерев. Но и кроме того, входная дверь номера осторожно приотворилась, и в нее заглядывал маленький смешной человек Чернявский, автор многих известных романсов. Глаза его горели угольями, а на устах играла двусмысленная улыбка.
– … Что нет обид судьбы и сердца жгучей муки,
И жизни нет конца, и цели нет иной,
Как только веровать в рыдающие звуки,
Тебя любить, обнять и плакать над тобой!
Наступила благодатная тишина. Входная дверь беззвучно затворилась и притворилась вновь. Плевицкая бросила туда испуганный взгляд.
Чернявский манил ее пальчиком на выход.
– Чего это вы так боитесь? – спросила Плевицкая шепотом, подойдя и глядя на него грозно сверху вниз.
– Да ведь тут сумасшедший дом, вот я и боюсь, как бы вы на меня не набросились. А вдруг вы буйная?
– Успокойтесь, Александр, сумасшедшие помещаются рядом, а тут отдыхающие люди. Не верите? Тут и Леонид Андреев наверху отдыхает.
С испугом и вопросительно Чернявский вскинул указательный палец к потолку. Плевицкая кивнула утвердительно. Тогда он покрутил тем же пальцем себе у виска и убежал.
* * *
– Средь далеких полей, на чужбине,
На холодной и мерзлой земле
Русский раненый воин томился
В предрассветной безрадостной мгле, —
пела Плевицкая и остановилась, глядя на сидящих перед ней рядышком на диванчике Клюева и Есенина.
– Как странно звучит мой голос, – наконец сказала она. – Давно уж его не слыхала, не такой был у меня. Нет сил. Сердце колотится, и я задыхаюсь… Чужой будто голос.
– Ах, Надежда Васильевна, не то беда, что у вас сил нет, – заговорил вкрадчивым голосом Николай Алексеевич, – а то беда, что песня эта ваша – нерусская, хоть и про русского воина вы петь изволите. И златокудрый юноша вам подтвердит. Верно, Сережа?
Сергей радостно блеснул глазами и скромно, как девушка, опустил голову.
– Стесняется вас, как девушка, – с любовью произнес Клюев и с любовью же взглянул на артистку. – А желаете, Надежда Васильевна, мы с вами вместе споем? Вернее, не споем, а сказывать будем, нараспев так, знаете, голос у вас и поправится, и размягчает.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































