Текст книги "Смерть от любви (сборник)"
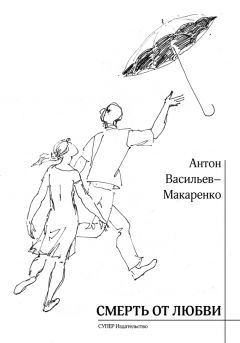
Автор книги: Антон Васильев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Вместо ответа Дежка живо показала ему тугой узелок на вытянутую руку.
А Николаю уж черед дальше идти, он еще что-то хочет сказать младшей сестренке, да не успевает, пляска увлекает его в сторону. А рядом уж взыграла гармонь у гармониста, и Дежка мигом забыла про брата.
– Сыграй, Сашутка, – просят гармониста, – сыграй заливного!
– Нет, не буду, – улыбается Сашутка, а сам потихоньку перебирает.
– Знамо дело, без магарыча какая игра. – Кто-то из здешних приносит Сашутке на подносе рюмку зеленого.
Сашутка, ловко закинув гармонь на плечо, не торопясь выпивает, и так у него соблазнительно получается, что весь обступивший люд ахает от удовольствия.
Уж после этого Сашутка ступает к карагоду, а карагод растягивается в большой круг, выскакивает Якушка да как засвистит, да как зальется прибаутками своими:
– Ай, где ж это видно, от кого ж это слышно,
Чтобы курочка быка родила, а бычок поросенка?
Тут даже Дежка с Машуткой переглянулись, да и прыснули со смеху…
– Поросенок яичко снёс,
На высокую поличку взнёс,
А поличка свалилася, и яичко разбилося.
Раз, два – чише, э-эх!
Я у Машки замашки покрал,
Голопузому за пазуху напхал.
Как маков цвет, горят девичьи лица деревенских невест. Слушают все Якушку, а сами с парнями приезжими переглядываются. Ловят эти перегляды Дежка с Машуткой, пересуживают:
– Нынче наши будут по три раза переодеваться.
– Кой три! Пока все не перемерят, не остановятся, гля, сколько гостей понаехало!
– Все женихи, все с подарками, – завидует Машутка.
– Тебе-то какая корысть? Ты ж замуж не пойдешь, вроде?
– Я-то?
– А обет давеча давала.
– Я ж забыла, Дежка, правда, решила – не пойду, чего хорошего?
Якушка не унимался, превозмогая природную хрипоту, наяривал:
– А слепой все подсматривает,
А глухой все подслушивает,
Безъязыкий караул закричал,
Безногий у погон погнал, ух ты!
С этим последним «ух ты» Якушка неожиданно обратился к девочкам-подружкам. Те с испугу оторопели, а как кругом засмеялись, так опамятовались и дали стрекача.
– И откуда он такую пропасть этих баек знает, – удивлялась на бегу Дежка, – неужто из своей головы берет?
– Известное дело, когда голова пуста, все их туда складывает…
– Богатство большое, кому достанется?
– Стой, Дежка, пить хочу, пойдем квас пить.
– Смотри, водяновские хоровод ведут.
И Дежка, схвативши крепко куму свою за руку, потащила ее к следующему хороводу. Метет, летает кругом ярко-цветной ликующий вихрь деревенского праздника.
– Есть хочу, – хнычет Машутка, но Дежка ее не слышит: душа ее раскрыта настежь навстречу музыке и песне…
– Рассыпался дробен женчуг, рассыпался,
Подсыпался к красным девкам, к карагоду.
В суконной серой поддевке и в красной рубахе, опоясанной зеленым широким кушаком, рыжий Орешка вовсе не походил теперь на разбойника. Он шел себе ни от кого независимо посредь народа и пел в удовольствие:
– Поиграйте, красны девки, поиграйте,
Пошутите вы, молодушки-молодые,
Приударьте во ладони, приударьте,
Раздразните ревнивых жен, раздразните…
Прячась то за взрослых, то за ларьки и лотки с товаром, Дежка и Машутка с горящими любопытством и страхом глазами, следовали за Орешкой поодаль, а тот, не замечая ни девочек, ни прочих перешептываний и взглядов косых, шел да припевал, да притоптывал, да приплясывал:
– …Чтоб ревнивые жены выходили,
За собой молодых мужьев выводили.
Поиграйте, красны девки, поиграйте,
Пошутите вы, молодушки-молодые…
А тут Орешке навстречу – поп из церкви:
– Ты, брат, почему нынче у обедни не был?
Молчит Орешка, насупился, голову повесил.
– Отвечай, брат, народ смотрит, ждет, чего скажешь.
Почесал Орешка в ухе, венок березовый с головы своей бесшабашной стащил и – бух на колени, да попу в ноги:
– Прости, батюшка, Христа ради, меня окаянного!
– Бог простит! Да ты доколь будешь народ православный пугать своим видом неприкаянным? У исповеди давно ли не был?
Молчит Орешка, и глаз не видно, только сопит носом в две дырочки, ажно песок пылью от того разлетается.
– Во имя Пресвятой Троицы, аз, недостойный иерей, властью, Богом мне данной, – кладет поп Орешке крест на макушку, – прощаю нонешнее твое прискорбное состояние не далее ближайшей же службы, понял? Не слышу гласа покаянного!
Тут Орешка промычал что-то, и плечи его содрогнулись… Народ одобрительно зашумел, засмеялся добрым смехом.
Машутка решительно дернула Дежку за рукав:
– Кума, пойдем домой, не то и нам достанется!
– Да, и правда, пора, ну, пойдем… Гля! – И Дежка вдруг показывает подружке зеленую бумажку под ногами.
– Три рубля! – воскликнула Машутка, а Дежка уж проворно подскочила сорокой и подхватила трешку с дороги, только ее и видели!
– Ну, Машутка, к мамочке бежим, покажем, сколько денег нашли…
И бросились они бежать что было духу. Машутка, задыхаясь от быстрого бега, говорила:
– Накупим себе нарядов, и все одинаково: тебе платье, мне платье, тебе полусапожки – мне, тебе полушалку красную, как у Катюшки Цыганковой, и мне. Полупальточки сошьем суконные…
– Сошьем, – отвечала Дежка. – Столько денег-то.
Дома у Дежки гостей полно. Мать неутомимо потчует наехавшую родню, хлопочет, раскраснелась и по-праздничному нарядна и оживлена.
Дежка глядит на мать через окно, любуется ею:
– Смотри, Машутка, лучше моей матери никого нет! – И как Машутка ничего не ответила, так и добавила: – Ну, конечно, никого нет!
А гости скоморошную поют, гульбишную, и мать, посмеиваясь, потешаясь, подхватила за другими:
– Вы комарики, комарики мои,
Комарушки – мушки маленькие,
Комарушки – мушки маленькие,
Всю ночку во лужочку провели,
А мне, молодой, покою не дали.
– Что же ты, егоза, и обедать не идешь? – увидав в окне Дежку, перебила свое пение мать. – Прямо от обедни да на улицу!
Дежка с гордостью помахала ей в ответ трехрублевой бумажкой, но мать не поняла за общим шумом, в чем там у дочери дело, и только махнула рукой, чтоб шли с Машуткой в избу, а гости все пели, и мать снова затянула вместе с ними:
– Я уснула на заре,
А на зорьке, на беленькой,
На ручке, на левенькой.
Не слыхала, не видала ничего,
Не слыхала, как мой милый друг пришел,
Шито-брано приподнял,
Здравствуй, милая, хорошая, сказал,
Здравствуй, милая, хорошая моя,
Хорошо ли почивала без меня?
Тут к Дежке с Машуткой выбежали Дежкины двоюродные сестры:
– Пришли ребята богдановские и заверские с гармошкой, а наши говорят, пусть они только попляшут, мы им ноги-то поломаем, к нашим девкам дорогу забудут, у них свои есть, мы к ихним не ходим…
– Ой, боюсь, девоньки, – тревожно тараторила другая, – Якушка будет задираться, озорной он, настырный!
– Без тебя, мой друг, постель холодна,
Одеялице заиндевело,
Под перинушку мороз холоду нанес,
Возголовье потонуло во слезах,
Долго, с вечера, стояла я в дверях,
Тебя, сударь, дожидаючи,
Судьбу проклинаючи…
На этих словах песни Дежка вдруг вздрогнула и опомнилась:
– Ой, я по маменьке как соскучилась, пошли, кума, – схватив Машутку за руку и не оглядываясь, Дежка заторопилась в дом.
Мать никакой радости по поводу найденных денег не выказала:
– Может, бедный какой обронил.
Эта простая мысль девочкам в голову не приходила, они растерялись и замешкались с ответом.
– Чего молчим, немые?
– Где ж его искать, обронившего? – пробурчала недовольная Машутка. – Народу на выгоне тьма-тьмущая.
– Ну, хорошо, – подумав немного, согласилась мать. – Куплю, да не так много: по платью, переднику, платочку…
Глаза у девочек просияли, они еле сдерживались.
– А теперь, великие постники, – продолжала мать, – обедать.
А на лужке в конце улицы парни, красуясь перед девками, уж подхватывали другую песню, заводя новый танок-карагод:
– Ой, за речкой, за рекой,
Близко реченьки Дуная,
Добрый молодец, гуляя,
Добрый молодец, гуляя, он все свищет, все гуркая,
Ах, все свищет, все гуркая, черной шляпою махая,
Черной шляпою махая, товарищей закликая:
«Братцы мои, ребятушки,
Щегольё села Винникова,
Вы сойдите на речку, на Дунай,
Вы побейте палички, ой, вы побейте палички,
Положите кладочки».
Тут же и качели стоят. Девки на качелях качаются, а сами вполовину уха парней слушают…
Первой на улицу выскочила Машутка, а за ней и Дежка, держа в ладонях с десяток яиц:
– Глянь, Машутка, нам мать еще яиц дала на пряники, но сказала, чтобы я погуляла немного, да и вернулась: нужно гусей на речку согнать, а то в закутке они искричались.
– Эти мне гуси хрипучие! – принимая свою долю, проворчала Машутка. – И зачем такая подлая птица на свет родилась!
У качелей, куда вихрем слетели вниз по улице Дежка с кумою, вовсю кипели страсти. Ребята качали теперь девок сами, а Калиныч, парень из соседнего села, разливался на гармони. На картузе у него над правым ухом перо павлинье, рубаха красная, вышитая, и суконная поддевка нараспашку. Девки на него заглядываются, а винниковские ребята хмурятся.
– А я под чужую гармонь плясать не буду! – грозится Якушка.
– Ишь, хамова ястреба, куражится! – свирепо плюется Иван Алешин. – Не разбился бы слёту!
И винниковские повернулись от качелей и отошли. А девки, те пляшут, они гостям рады, качаются, играют в горелки.
Младшие девочки поодаль свои игры заводят, играют в «селезня»: стали в круг, взялись за руки, «утка» ходит по кругу, а «селезень» за кругом. «Селезень» «утку» старается поймать, а девочки ему хода не дают, припевают:
– Селезень утку гоняет,
Молодой серу загоняет:
Поди, серая, домой,
У тебя семеро детей,
Девятая утка –
Шутка, Машутка,
Селезень Васютка,
Кочет Ивашка.
Селезень утку гоняет,
Молодой серу загонял…
И вдруг доносятся от качелей испуганные крики. Дежка с Машуткой побежали было туда, а навстречу уж летит сестра Маша, бледная от испуга:
– Пойдем, Дежка, домой. Иван Калинычу гармонию разбил, Якушка и наш Колька ему помогали. У Николая рубаха порвана.
– Достанется же ему от тятечки!
– И то, Дежка, пойдем от греха, про гусей-то забыли, – напоминает Машутка.
– Да-а, – закапризничала Дежка, – другие на улице гуляют, а тут гусей на речку гони. Вот и пропал праздник.
– Так я же с тобой буду!
– Вот уж верная ты кума, Машутка!
Выпустили Дежка с Машуткой гусей из закутка и погнали их под гору. А за рекой над лугом радуга стоит.
– Глянь, Машута, красота-то какая!
– И правда, Дежка, до чего же весело, плясать охота! – и Машутка пустилась в пляс, а за ней было и Дежка, да потом остановилась, глядя на радугу, и вдруг запела:
– Дунай-речка, Дунай быстрая,
Бережочки сносит…
– Ой, Дежка, как это у тебя здорово вышло! Прямо как Татьяна, сестра твоя старшая, поет.
– Правда, хорошо пою, что ли?
– Хорошо, Дежка, давай еще! – И они запели дальше уже вдвоем:
– Размолоденький солдатик
Полковника просит:
«Отпусти меня, полковник, Орешка
Из полку до дому…»
А с горы на плотину съезжал экипаж, в котором сидели барыня и барышни. Услышали они, как девочки поют, и барыня велела вознице придержать лошадей.
– Ах, мама, как мило! – захлопала в ладошки одна из барышень.
– Василия Абрамыча дочка-с, – обернулся к седокам возница. – Винникова. Знамо дело, и песни у нее отцовы, солдатские, что ни на есть. Важно поет.
– Рад бы я, рад бы отпустить,
Да ты не скоро будешь,
Ты напьешься воды холодной,
Про службу забудешь.
Смутившись под пристальными взглядами, девочки замолчали и встали с потупленным взором.
– Шарман! – изрекла старшая из барышень. – Надо бы их одарить во славу праздника! – И она приветливо помахала платком.
Возчик принял у барышни большой кулек со сластями, сошел с козел и поднес кулек Дежке:
– Пользуйте, Надежда Васильевна! Это вам от добрых барыней за хорошую песню!
А гуси словно услыхали эти речи, громко загоготали и крыльями захлопали…
* * *
– Если Бог есть, то Он все видит.
– А если нет?
– Что нет? Если не видит?
– Нет. Если Его совсем нет? То что?
– То не все ли тогда равно? Верно?
«Второй» пожал плечами. Шел дождь. Желтые от размываемой глины потеки обегали с крутого берега реку.
– Это Сейм?
– Сейм. По-русски Семь. Семь – значит много. Пришли поляки и назвали Семь Сеймом. Так и осталось.
– Почему русские не вернули прежнее название? Почему они такие покорные? Простота хуже воровства.
– Но это тоже русская пословица.
– Откуда ты знаешь? А может, исландская, и ее перевел при Петре какой-нибудь розенкрейцер Шварц.
– Шварц во времена Новикова, а при Петре Исландия все еще была на горизонте.
– Откуда знаешь?
– В «Комсомолке» вычитал.
– Плевицкий был поляк? Они венчались?
– Конечно, венчались. Впрочем, Эдмунд Мячеславович был, вероятно, католик.
– А Дзержинский?
– Что Дзержинский? Ты не знаешь, кем был Дзержинский? Дзержинский был коммунистом.
– Это я так просто, от дождя.
– Семь лет назад, когда я был «Вторым», мы снимали здесь фильм некоего дебютанта Бибарцева.
– Я знаю.
– И я бегал по утрам на Сейм вместе с двумя каскадерами. Они вставали один на плечи другого и прыгали с этого обрыва в реку. А потом один из них повесился в ленинградской гостинице, его звали Андреев.
– Как известного балалаечника?
– Не смешно.
– Прости, но я весь промок.
– Выпей коньяка.
– Не хочу.
– Чего это?
– Она не любит.
– Скажи – режиссер приказал. Нет, ты шутишь. Ты просто стесняешься. На, держи! – И режиссер достал из кармана початую фляжку. – Ты бы лучше думал об актрисе.
– Так об актрисе или о певице?
– О черте лысом, но чтоб мог мне сыграть Плевицкую!
– Ну, знаете, Альфред Никанорович, – перешел на «вы» «Второй», это вас может кто угодно сыграть, хоть Лия Ахеджакова, я уже не понимаю, что вам надобно.
– Ты бы лучше пил, не влюблялся в ассистенток, все бы понимал с полуслова.
– Виноват, я не влюблялся.
– А ослушаться боишься.
– Знаете, боюсь один остаться. Экспедиция долгая, а мне режим нужен.
– Да-с. Мы такими в ваши годы не были. Она тоже такой же прагматик? Впрочем, для сохранности реквизита это даже неплохо. Кажется, Иван Иваныч показался… Да куда это он? Крикни-ка в эту…
«Второй» достал из-под целлофановой накидки, которой был покрыт с головою, мегафон, называемый матюгальником, и что-то пролаял-прохрипел в сторону призрачной тени Ивана Ивановича.
Тень заколебалась, метнулась в сторону и исчезла.
– Вот так вот! – заключил Альфред Никанорович. – Все против меня. Смену съактировали?
– А ка-ак же, Альфред Никанорыч, как же!
Послышался топот копыт, и из туманной мороси слабеющего дождя показалась на белом коне Алёна, ассистентка по реквизиту:
– Альфред Никанорыч, белого привезли!
– Вижу, что белого. Слишком шикарно для Скоблина. Не Деникин, чай. А гнедые, что, все кончились?
– Товарного вида не имут, Альфред Никанорыч! Токмо что если для массовки. Тпру ты, тварь этакая!
Белый конь по кличке Кара на месте не стоял, не то ему хотелось с обрыва в воду, не то шарахался шуршащей накидки «Второго», который глядел на Алену во все глаза, забыв закрыть от восхищения рот.
– А Бог-то, Он все-таки видит, – пригрозил режиссер «Второму» пальцем. – Да не скоро скажет.
– А если все же нет? – очнулся «Второй».
– Тогда неча и огород городить, фильм снимать, – рассердился вдруг Альфред Никанорыч и зашагал было в туман, но на шум спрыгнувшей с коня в объятия второго Алены обернулся и добавил: – А ваш Бог – это я!
В желтой кепке из кожзаменителя и с пустой трехлитровой банкой в авоське Иван Иванович одичало шатался по пустой территории бывшего на берегу Сейма монастыря в поисках живой души или еще какой наживы и не находил.
Все громче и настойчивее доносилось сквозь дождь тревожное многоголосое мычанье коровьего стада, но хода к этим звукам тоже не обреталось.
Увидав над одной из угловых башен крепостной стены небольшой, но яркий красный флаг, Иван Иванович снял кепку и почесал свою небольшую плешивую голову:
– Лагерь у них тут, что ли? А коровы при чем?
Неожиданно для самого себя он резко поворотился вдруг в противоположную своему движению сторону, запнулся за какую-то проволоку и упал лицом в бурьян. Усиленный акустикой, откуда-то из церковных развалин послышался жутковатый женский хохот.
Грязное от мокрого сорняка лицо Ивана Ивановича просияло:
– Ага! Я ж чую, что есть!
Не по годам резво он вскочил на ноги и юркнул в ближайший провал. Потревоженные голуби взорвались над ним оглушительным хлопаньем сотен крыльев, Иван Иванович инстинктивно нагнулся и снова услышал тот же смех, значительно ближе и громче.
– Пьяный что ли? – спросили лукаво неведомо откель.
– Я? Пьяный?! – обрадованно переспросил Иван Иванович неведомо кого. – Да ни в жись! Чтоб я, да на работе, да ни за что! Да это, блин, проволока тама, в траве у вас тут натянутая, кой-то леший ее туда натянул! Слышь, что ли, эй! Ты кто?
Пустое оскверненное здание храма зловещие молчало. На стенах вместо росписи довольно явственно проступала всяческая намалеванная углем похабель. В сквозном проеме одной из стен близко и на уровне лица хорошо был виден красный флаг на башне.
– Что же это? Нехорошо в дождь оставлять, – показал пальцем на флаг Иван Иванович, не сомневаясь, что невидимка видит его.
– Будь готов! – был ответ Ивану Ивановичу откуда-то.
– Всегда готов! – с веселою охотою отозвался он и зачем-то приподнял над головой сетку с трехлитровой банкой. – А к коровам-то вашим тут как бы, это, пробраться, значит? А, я сам знаю! Шею бы не сломать! Эх, тяжела же ты, жись моя пролетарская! – С этими словами Иван Иванович вылез через пролом на карниз, а затем на реставрационные леса, которыми была обложена южная сторона собора.
– Лесам вашим лет больше, чем собору, – резонно заметил он и с этими словами, нельзя сказать, чтоб совсем неожиданно, провалился куда-то вниз…
Сто пятьдесят коровьих глоток взревели на разные голоса еще отчаянее и громче…
* * *
Первый луч солнца зажег монастырские золотые кресты на куполах. Тихо все на дворе, обнесенном высокой оградой, только слышится печальный звук колотушки да чей-то жаркий нежный шепот, читающий утреннее правило:
– Воставше от сна, припадем Ти, Блаже, и Ангельскую песнь вопием Ти, Сильне: Свят, Свят, Свят если, Боже, Богородицею помилуй нас…
Укутанное в темный платок бледное лицо Дежки-подростка с надеждой взирает на висящий перед нею в красном углу кельи большой образ, пред которым теплится лампада. Она продолжает молиться, но на смену слов молитвы вступает в звучанье ее внутренний сердечный голос, которым она повествует об ушедших навсегда в историю временах и который хоть и повторяет видимое нами, но ничуть не входит с ним в противоречие:
– На рассвете часов в шесть утра, как только пройдет колотушка, я быстро умывалась, зажигала лампады и убирала до пылинки большую келью, куда вскоре выходила и матушка Милетина. Она благословляла меня и спешила во храм. Конкордия уходила за нею. Звеняще и глухо ударял колокол, и с первым благовестом я тоже спешила на молитву.
Наше место, молодых послушниц, было при входе во храм, с левой стороны. Подле, за решеткой, тоже слева, виднелось множество остроконечных черных повязок молодых монахинь. А с правой стороны было место монахинь скуфейных, и тут же, впереди, стояло кресло матушки игуменьи.
Отроковица Дежка в паре с другой молоденькой послушницей выходит приложиться ко кресту, но перед тем повертаются к матушке игуменье лицом и низко кланяются, касаясь рукой земли.
– Все монастырские уставы нравились мне. Казалось, что в обители свято все, и что грешному тут места нет. Так минул год и другой. Мои покровительницы-старушки уже поговаривали одеть меня в черные одежды, чтобы я могла петь на клиросе.
День… Большой монастырский двор залит ярким весенним солнцем. Монахини и послушницы заняты своими обычными повседневными заботами, каждый несет свое послушанье. Щебечут птицы, через стену ограды доносятся с улицы звуки курского трамвая…
Вдруг на высокое крыльцо келейного корпуса в широко распахнувшуюся дверь выскакивает Дежка. Лицо ее испуганно, глаза растерянно переходят с предмета на предмет.
Она сбегает по ступеням крыльца и бежит через двор в открытую всегда для молитвы часовню, бежит под удивленными взглядами остановившихся монахинь и послушниц.
Строго следит за ее бегом из-под морщинистой десницы с раскачивающимися четками Конкордия…
– Мне тогда шел шестнадцатый… И зачем я выросла, лучше бы так и остаться мне маленькой Дежкой, чем узнать, что и тут, за высокой стеной, среди тихой молитвы копошится темный грех, укутанный, спрятанный. Лукава ты, жизнь, бес полуденный…
В часовне Дежка бросается на колени:
– Спаси, Господи, и помилуй ихже аз безумием моим соблазних и от пути спасительного отвратих, к делом злым и неподобным приведох; Божественным Твоим Промыслом к пути спасения паки возврати…
Она кладет поклон и снова обращается к иконам:
– Спаси, Господи, и помилуй ненавидящих и обидящих мя, и творящих ми напасти, и не остави их погибнути мене ради, грешной.
И тут же рядом, за стеной Троицкого монастыря, кипела на улице городская жизнь, сновал коренной да приезжий народ с базара в трактир, с продуктовых лавок в скобяные ряды, шли по улице циркачи, размалеванные клоуны, зазывали народ на представление.
– А может, оттого больно глазаста я стала и душа забунтовала, что судьба звала меня в даль иную…
* * *
– А пока на море кач-
Качкач-кач-ка,
Приходи ко мне, моряч-
Кач-кач-кач-ка!
Это надсадно старалась заталкивать в микрофон рвущиеся, видимо, из самого сердца звуки некто полупевец-полупевица на пропадавшей в дыму эстраде под низким потолком интуристовского ресторана при отеле «Соловьиная роща».
В это время бравым шагом в зал вошли трое мужчин в форме различных чинов белой армии: генерал, полковник и есаул. Рыжеволосая официантка Клара засеменила им навстречу с самой что ни на есть обворожительной улыбкой.
– В один распрекрасный день их все-таки поколотят или позвонят из КПЗ военной комендатуры, – поморщившись на вошедших, процедил сквозь зубы Альфред Никанорыч и отхлебнул из бокала минералки.
– Они все трое изволили сегодня на диспетчерской заявить, что таким образом входят в роль. «Осанку отрабатывают», – информировал уже знакомый нам Андрей Лысков по прозвищу «Второй».
– Согласно снимаемому эпизоду, Скоблин такой же полковник, как и Пашкевич, а не генерал, – полистала сценарий Алена.
– Я чувствую, они скоро откажутся подчиняться не токмо что режиссеру второму, но и первому, а единственно барону Врангелю. До этого допустить мы не можем, поэтому срочно надо готовить съемку объекта «Деревня под Фатежем» и отсылать всех в тыл, то есть, тьфу, совсем заговорился! В Москву.
– Но Плевицкая? – напомнила Алена.
– Что за идиотский сценарий! – хлопнул себя по лбу Альфред Никанорович. – Ни одного эпизода без Плевицкой. Сажайте дублершу, и будем снимать.
Алена и «Второй» заговорщицки переглянулись. «Второй» скосил глаза к переносице. Подошла Клара и швырнула на замызганную скатерть три антрекота; соус обильно плеснул на белую обложку режиссерского сценария с крупным заголовком «Дежкин карагод».
– Господа, кажется, это артобстрел, – изрекла Алена, глядя на покачивающиеся бедра удаляющейся официантки.
– Не иначе, с трофейного бронепоезда, – подхватил «Второй», но Альфред Никанорыч никак не реагировал…
– А пока на море кач-
Кач-кач-кач-ка!..
– в который раз подряд завыл знакомый голос из дыма…
– Говорят, сегодня утром на площади перед обкомом их случайно встретил местный писатель Лбов и разорался до того, что самому сделалось плохо. Вы, кричал, киношники, все бездельники, пьяницы и крамольники, вас надо в арестантские роты отдать.
– Он что, сталинист? – обратилась Алена в пространство.
– Если завтра не будет Плевицкой, меня снимут с картины и… картину снимут без меня! – с этими словами Альфред Никанорович ухватил зубами край антрекота и стал пробовать его откусить.
– Сенчина звонила? – задал риторический вопрос «Второй». Алена скривила губы и покачала головой.
– А Шаврина на телеграмму ответила?
– Нет.
– А эта, как ее, ну… вылетело из головы…
– Позвонила, обругала нас всех, что делаем ей предложение в последнюю очередь, и отказалась, сославшись на то, что Плевицкая – белогвардейка, изменница родины, и она будет жаловаться в министерство пропаганды, что вообще такое снимают.
– Разве есть такое министерство?
– Она так сказала – «пропаганды».
За столиком, где сидели трое «офицеров», раздался громкий дружный хохот. Один из них, тот, что наряжен был Скоблиным, произнес какой-то тост, они все встали с бокалами в согнутых в локте руках, трижды прокричали «ура!» и выпили.
* * *
Ловкие женские руки быстро перебинтовывали голову Ивана Ивановича, она – голова – радостно улыбалась, вертелась, мешая процессу, и не переставала верещать:
– А я-то, это, значит, лечу и думаю, сколько же это мне еще лететь осталось? Ну, думаю, место святое, авось в преисподню не угожу! А я, значит, в самый рай аккурат собрался, благодать!
Миловидная женщина лет тридцати невольно улыбалась таковым речам, но тут же хмурилась, глядя, ладно ли получается перевязка:
– Вы не вертитесь, пожалуйста, шибко-то, а то я вам больно сделаю.
– Ни-ни, что ты, я не верчусь, – завертелась голова еще живее и еще более заулыбалась. – Одно мне только, слышь, жалко: банка разбилась! Такая, я тебе скажу, небьющаяся посудина была, прямо заколдованная. Думал, ее со мной и в гроб уложат, ан нет, выходит, я ее небьющееся оказался!
– Или околдованнее, – снова улыбнулась женщина.
– И-их, точно! А я и не подумал. А тут кто-то у вас в соборе из-под крыши откудава-то со мной разговаривал. А кто – ничего не видно. Это, часом, не ты ли и была, милая?
– Это блаженная наша, Шурочка, поселилась туда и чудит.
– Домовая, что-ли?
– Блаженная, вам говорят, неужели не понятно?
– Да ить киношники мы, какое у нас понятие, срам один!
– А, вон что… – Женщина сразу поскучнела. – А я-то стараюсь, думаю, человек в беду попал, а он киношник, оказывается. Зачем пожаловали? Чего молчишь, безсовестный? – Она поднялась и пошла прочь. – Некогда мне больше с тобой, я и про тёлочек своих забыла… Иду-иду, мои хорошие!
Иван Иванович, кряхтя, поднялся и потёр спину, поглядел на пролом в потолке пристроенного к собору коровника, откуда пожаловал, и попробовал надеть кепку, но на забинтованную голову кепка не надевалась.
– Эх-ма, жись моя пролетарская, – повторил он и пошел следом за женщиной. – Эй, слышь, звать-то тебя как? Слышите, товарищ женщина?!
Но женщина не слышала, она бойко и сосредоточенно выдаивала корову и переходила к следующей, перенося с собой ведро с молоком.
– Стекла прибери, – строго обронила она, не удостоив Ивана Ивановича взглядом, оставила полное ведро и взяла пустое.
* * *
…Сестра катала Дежку на карусели, водила в зверинец. Звон зазывал публику в цирк. На подмостках бегал клоун с колокольчиком и хриплым голосом уговаривал публику скорее брать билеты, а то они не успеют. Из балагана вышла девочка лет двенадцати в красном костюме. Она была на удивление хороша. И стала вдруг бегать по проволоке, вертеться.
– Так кувыркаться и я бы, пожалуй, могла, учеба только нужна, – сказала Дежка, не отрывая взгляда от акробатки.
Смешил клоун, потом вышел хохол со скляницей горилки в руке и запел «Кумушки-голубушки, здоровеньки булы». Публика покатывалась со смеху. А тут вылетела на сером коне наездница, ловкая, быстрая.
«Хоть и грешно такой голой при народе прыгать, – думала Дежка, – а так я тоже могла бы. Уж если всюду грех – и в миру, и в обители, уж лучше на миру жить».
…В обществе студентов Дежка с подругой отправились в сад «Аркадия». Разноцветные гирлянды фонариков украшали вход в аллею, гремел военный оркестр, сновала нарядная толпа, и, кажется одна она была в косынке, а все в шляпах.
На открытой сцене, когда взвился занавес, Дежка увидела тридцать дам в черных строгих платьях с белыми воротниками. Дамы стояли полукругом, и все казались красавицами – такие прически пышные и цвет лица! И вдруг раздался лихой марш:
– Шлет вам привет
Красоток наш букет,
Собрались мы сюда
Пропеть вам, господа,
Но не осудите,
Просим снисходить,
А, впрочем, может быть,
Сумеем угодить.
Беззаботное веселье, господа,
Вот в чем заключается жизнь наша вся.
– Нравится ли вам, Наденька, хор? – любезно осведомился студент Волощенко, сопровождавший подруг.
– Еще бы не нравиться!
– Если вы хотите, то можете тоже в хор поступить, у меня тут знакомства имеются.
– Ах, еще бы не хотеть, господин Волощенко, да это же лучше балагана!
А дамы меж тем все старательно пели, что:
– Где играют, пьют,
Пляшут и поют,
Нас всегда найдешь ты,
Тут как тут.
Нам грусть-тоска – все нипочем,
Мы веселимся и поем,
Упрек людской – лишь звук пустой,
Довольны мы своей судьбой.
И вот первая репетиция будущей звезды. За пианино сидит Лев Борисович Липкин, а вокруг него стоит хор, разучивают марш «Пророк» из оперы Д. Мейбера. Когда Дежка входит, Лев Борисович говорит:
– А ну, Надежда, покажи, какой у тебя голос.
А Надежде стыдно: все разглядывают ее. Липкин дает аккорд, и Надежда дрожащим голосом ноту берет.
– Смелей, смелей!
Надежда берет посмелее.
– Ого, хорошо!
В уголке сидит дама в черном платье. Липкин зовет ее:
– А ну, Люба, спой свое соло, пусть Надя послушает, она может петь с тобой контральтовую партию в «Пророке».
Люба откашлялась.
– Ангел-хранитель, укажи мне спасение, – вдруг рванула она, – мой покровитель, дай утешенье. Сердце уныло в горьком томлении, кровь вся застыла от упоения…
Она фальшивила, но у нее был не голос, а голосище, Дежка даже оторопело подалась назад. А Липкин рассердился:
– Фальшь, фальшь! Ну, дуб ты этакий, повтори еще, а ты, Надежда, слушай и запоминай!
Люба пропела снова. Дежке дали написанные слова, и, к большому удовольствию Льва Борисовича, она пропела соло без ошибки.
– Вот и отлично, вот и прекрасно, – радовался он, – с тобой и Люба не собьется.
Подошла руководительница танцев, скромно одетая бледная женщина:
– А танцевать ты можешь?
Дежка молча кивнула.
– Сделай так, – сказала женщина и показала «па».
Дежка попробовала, но вышло что-то плохо.
– Да ты не держи рук перед носом, – прикрикнула руководительница, – а отбрасывай широко по сторонам!
– Хорошо, – улыбнулась Дежка, осмелев, – отбрасывать так отбрасывать…
И она размахнулась руками вправо, влево, так, что кругом засмеялись, а женщина отскочила:
– Ну ты, деревня, чуть зубы мне не вышибла… Но толк из тебя, вижу, будет. Принимайте, Лев Борисович, не прогадаете!
* * *
В зале нижегородского ресторана Наумова было шумно. На сцене красавица-артистка пела веселую игривую песню, под которую и пить, и смеяться было легко и просто.
Но вот объявили выход Плевицкой, и зал смолк. Певица вышла на сцену, и странно было смотреть: перед ней стояли столы, за которыми вокруг бутылок теснились люди, а такая тишина.
У зеркальных стен, спустив салфетки, стоят, не шевелясь, лакеи, а если кто шевельнется, все посмотрят, зашикают.
С интересом наблюдал эту картину Леонид Витальевич Собинов, сидящий отдельно за одним из столиков.
Плевицкая запела совсем невеселую песню:
– Тихо тащится лошадка…









































