Текст книги "Смерть от любви (сборник)"
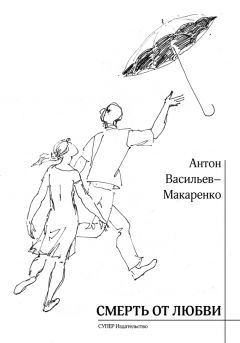
Автор книги: Антон Васильев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
– Это как же, Николай Алексеевич? – заинтересовалась Плевицкая. – Ах, верно, вы смеетесь надо мной!
– Да что вы, избави Бог. – И он достал из-под синей набойчатой рубахи маленькую книжицу изданных своих стихотворений и пролистал ее. – Я-то наизусть помню, а вы вот с листа попробуйте за мной после слов «и девичью песенку во ржи».
Плевицкая бережно приняла в руки открытую книгу, а Клюев, весь переменясь мгновенно в лице, отчего Есенин испуганно отпрянул в угол диванчика, заверещал:
– Я надену черную рубаху
И во след за мутным фонарем
По камням двора пойду на плаху
С молчаливо-ласковым лицом.
Вспомню маму, крошечную прялку,
Синий вечер, дрему паутин,
За окном ночующую галку,
На окне любимый бальзамин,
Луговин поемные просторы,
Тишину обкошенной межи,
Облаков жемчужные узоры
И девичью песенку во ржи…
Плевицкая мигом подхватила, и сразу ясно стало, что голос ее «размягчал» и поправился даже:
– Узкая полосынька
Клинышком сошлась —
Не вовремя косынька
На две расплелась!
Развилась по спинушке,
Как льняная плеть, —
Не тебе, детинушке,
Девушкой владеть.
Тут Плевицкая украдкой метнула взор на Есенина, но тот блаженно улыбался, взявшись по-щегольски пальцами за переносицу, и смотрел, видать, куда-то внутрь.
– Деревца вилавого
С маху не срубить, —
дрогнувшим голосом продолжила Плевицкая, но быстро выправилась снова:
– Парня разудалого
Силой не любить.
Белая березынька
Клонится к дождю…
Не кукуй, загозынька,
Про судьбу мою…
Плевицкая медленно опустила книгу и, раскрасневшаяся от волнения, прямо взглянула на Клюева широко раскрытыми глазами, Николай Алексеевич вскочил с места и закончил:
– Не прервут куранты крепостные
Песню-думу боем роковым…
Бред души! То заводи речные
С тростником поют береговым.
Сердца сон, кромешный, как могила!
Опустил свой парус рыбарь-день.
И слезятся жалостно и хило
Огоньки прибрежных деревень.
Раздались слабые одинокие аплодисменты. Хлопал Есенин. Плевицкая включилась в игру, поклонилась, как со сцены, и в свою очередь похлопала Клюеву.
– У вас, Надежда Васильевна, лучше моего вышло, я же вам пророчил, что выправится. А как вам стихи мои?
– Вы знаете, Николай Алексеевич, что я верная ваша поклонница.
– И все-таки, Надежда Васильевна? Не лукавьте, скажите, если плохо.
– А как называются стихи?
– Так и называются – «Я надену черную рубаху».
– Уж ты бы лучше и впрямь, Николай Алексеевич, черную надел, – заговорил вдруг Есенин, осмелев, и голос его оказался красивым и мелодичным и совсем не деревенским. – А эту синюю я уже видеть не могу. И что за цвет такой, что за симво́л?
Есенин, как казалось, подтрунивал над своим учителем, а тот поежился и, втянув голову в плечи, опустил глаза в свой черед и стал разглядывать пальцы, на которых вместо ногтей Плевицкая заметила поперечные синеватые полоски.
– И потом, что это за куранты крепостные с боем роковым, и на какую это ты собрался плаху «с молчаливо-ласковым лицом»? Ты, что, революционер?
– Ах, Сереженька, еретик, – проговорил тишайшим голосом Клюев и робко посмотрел на Плевицкую, будто опасаясь, что и она его станет корить.
Видно было, что это продолжение какого-то давнего спора. Плевицкая хотела сказать что-нибудь в утешение обоим и не нашлась. Разведя руками, она вышла в смежную комнату и посмотрела на себя в зеркало.
– Это не я, – прошептала она, глядя на свое отражение. – Это просто вешалка, на которой висит черное платье. – Взяв пудреницу, она стала поспешно поправлять свое пылающее нездоровым румянцем лицо и сердиться на пудру, которая не хотела ложиться так, как надо.
Потом читал Есенин:
– Гой ты, Русь, моя родная,
Хаты – в ризах образа…
Не видать конца и края –
Только синь сосет глаза.
Как захожий богомолец,
Я смотрю твои поля.
А у низеньких околиц
Звонко чахнут тополя.
Пахнет яблоком и медом
По церквам твой кроткий Спас.
И гудит за корогодом
На лугах веселый пляс.
Побегу по мятой стёжке
На приволь зеленых лех,
Мне на встречу, как сережки,
Прозвенит девичий смех.
Если крикнет рать Святая:
«Кинь ты Русь, живи в раю!»
Я скажу: «Не надо рая,
Дайте родину мою».
Есенин закончил и отвернулся к окну. Клюев плакал и по-детски вытирал глаза радужным фуляровым платочком, который носил на шее поверх пресловутой рубахи.
– Вы определенно решили меня сегодня размягчить, пролепетала расчувствовавшаяся Плевицкая. – Ну, что ж, спасибо вам, родные мои. Я вам так благодарна за вашу дружбу… А почему «за корогодом», Сергей Александрович, это что значит?
– Значит – за изгородью, – удивился ее вопросу Есенин.
– А у нас так не говорят. У нас карагод значит хоровод, а не изгородь.
– И хоровод, и изгородь тоже, – улыбнулся Есенин и ласково взглянул на проплакавшегося Клюева.
– И ряд чего-либо – тоже корогод, – обиженным голоском сказал Клюев. Наша жизнь – корогод.
– Николай Алексеевич, а я вам подарок нынче приготовила, – вспомнила Плевицкая, глядя на его сложенные по-мальчишечьи ноги, которые не доставали до пола. – Примерьте.
– Она выставила из угла комнаты новые сапоги.
– Вот истинная награда за настоящую поэзию, – рассмеялся Есенин, – а то бы так и ходил в кривых голенищах да стоптанных каблуках до полной победы!
* * *
– Можно знать по-веселейку,
Что не родная мать,
Пиво не пьяно, мед не солодон
И горелка не горька.
Звучит надгробный плач, поет Плевицкая, ее голос скорбящий плывет над замершим под восходящим солнцем опустевшим селом Винниковым. Похоронная процессия из церкви идет на погост…
– Горелка не горька, скрипка не звонка,
И веселье не весело.
Кого мы пошлем, кого мы найдем,
Да за родною матушкой…
Печально плывет погребальный звон, созвучный песне. На белых рушниках колыхается лиловый с позументами гроб. Кажется, все село пришло провожать Акулину Фроловну в последний путь.
– Соловей малый не долётает –
Матушка сама знает.
«Гуляй, дитятко, гуляй, милое,
Веселенько без меня…»
Гроб опускают в могилу, и вот уже родственники первыми бросают горсть земли на гробовую крышку, и Плевицкая, откинув черную вуаль и показав свое зарёванное, искажённое горем лицо, тоже наклоняется и берет земли.
– Что ты, что ты! – сквозь рыдания кричит ей брат Николай. – Тебе нельзя бросать.
А песня все звучит:
– Рада бы я встати к своему дитяти,
Да порядочек дати.
Желтые пески сыплются в глазки —
Не могу проглянути.
Мать сыра-земля к грудям прилегла,
Не могу продохнути…
* * *
Лето 1919 года в южной России сухое и жаркое. Если посмотреть с кургана, мерещится, что по дороге ползет, извиваясь, огромная серая кишка – это эскадрон идет «справа рядами», по два, весь окутанный черноземной пылью. Над пылью вылезает и колышется пика с эскадронным значком, треугольным малиновым флагом, что приводит в недоумение старика-хохла, со снятой с головы шапкой стоящего у дороги.
Полковник Скоблин едет впереди пулеметного взвода. Оранжевое солнце застыло над полями с неубранным хлебом. Край кажется брошенным жителями. На горизонте синее, как лес, длинное село с белой колокольней.
– Корнет Татищев, – хриплым голосом зовет Скоблин.
– Слушаю, Николай Владимирович, – подъехал верхом юноша.
– Что за село?
– Окрестности города Фатежа, полковник.
– Разведка вернулась?
– Ждем с минуты на минуту. Все тихо.
– То-то и плохо, что тихо. Н-но, пошла-а! – И Скоблин, понукая уставшую лошадь, поскакал ленивой рысцой в обгон эскадрона.
Стучали тачанки с пулеметами Льюиса, громыхали на разбитых ухабах. И ниоткуда, сколько ни прислушивайся, не доносилось артиллерийских раскатов. Казалось, идут колонны римских легионеров; солдаты несли на бедных своих головах круглые металлические шлемы.
К корнету Татищеву, держа в руках трехверстку, подскочил полковой адъютант:
– Легче сразу глобусом было обзавестись, каждые четыре дня карты меняю. – И снова исчез в пыли.
Прямо на ходу Татищев пытался раскурить махорку из трубки, направляя на нее солнечный луч сквозь увеличительное стекло.
– Нет, невозможно, – бормотал он по-английски. – Поручик врет.
К месту эскадрон подходил с песнями. Вспотевшие лошади шли по широкой улице с журавлиными колодцами и акациями в палисадниках. Коровы и овцы, возвращавшиеся с пастбищ, разбегались в проулки. Высланные вперед квартирьеры распределяли по дворам, где уже умывались некоторые счастливцы из авангарда. Испуганные ребятишки глазели в узкие оконца амбаров и щели изгородей. Хозяйка носилась как угорелая между домом и сараем, под ноги ей лезли куры, петух да кошка, каждому она кричала на украинский манер: «Кабы здохла! Кабы здох!».
– Учитель, учителя привели! – раздался крик.
В избу, занятую полковником Скоблиным, вошел, вталкиваемый солдатами, совсем молодой человек с белесыми волосами, в очках. У него дрожали кисти рук.
Два солдата, розовощекий кадет Залесский и корнет Татищев стали у дверей, солдаты обнажили шашки.
– Кто ты такой? – спросил Скоблин, не повышая голоса.
– Григорий Шатько, учитель.
– Тебя обвиняют в том, что ты коммунист. Это правда? Имеешь партийный билет?
– Сочувствующим был, – пробормотал учитель еле слышно.
– Что такое? – заорал Скоблин.
Учитель молчал и трясся мелкой дрожью от напряжения. Быстро обежав глазами столпившихся у дверей, задержавшись взглядом на лице сострадающего учителю Татищева, Скоблин еще настойчивее, явно подсказывая, продолжал допрос:
– Что такое? Социалист, меньшевик, сукин сын, да? Почему хотел бежать, говори…
– Кандидат в партию, сочувствующий, – в обалдении выдавил учитель, губя себя.
Лицо полковника перекосилось, но не гневом, а скорее, жалобным отвращением, и бросив на ходу вахмистру: «Распорядись тут, меня вызвали в штаб», он, не оглядываясь, вышел из избы и прошел через двор.
– Понимаю, – сказал вахмистр и тоже вышел во двор. За ним пошли все солдаты, кроме двух часовых и кадета Залесского.
– Через две минуты его повесят, – снова по-английски сказал Татищев и взглянул на учителя. – Подойдите. Водки хотите?
Лицо учителя передернуло, он стал соображать, и в глазах его загорелся страхом вопрос.
– Закурить не хотите? – снова спросил Татищев.
Учитель сделал знак, что нет. А за его спиной в окно было видно, как солдаты обвязывают веревкой крепкий сук дерева и пробуют, прочный ли.
– Вы верующий? – спросил Татищев, но учитель, казалось, не понял.
Подросток Залесский посмотрел на корнета с удивлением, хотел что-то произнести, но промолчал. Обнаженная шашка, которую он держал перед собой, задрожала.
– Молитесь, – почти крикнул Татищев, и, словно в ответ ему, со двора закричали:
– Ведите арестованного!
Часовой взял учителя за рукав, тот переступил шага два, потом рванулся назад:
– Закурить дайте!
Татищев дал папироску и сам зажег ее.
– Эй, вы, – донеслось со двора, – скоро ли там?
– Ну, пошли, марш, – командовал подошедший вахмистр. – В соседнем селе красные, будем сниматься, господин корнет! Там какую-то певичку поймали с ихним офицериком. Под сестру милосердия рядится. Говорят, большая знаменитость.
Учителя увели. Тяжелые шаги в сенях, потом со ступеней крыльца и по двору – заглушенные.
Татищев остался один. Жужжание мух становилось все громче и назойливее. Он поискал глазами образ и перекрестился.
– Становись на ящик, твою мать! – крикнули во дворе. Татищев подошел к окну и заставил себя смотреть. Учитель стоял боком, под деревом. Его голова возвышалась над всеми. Затянулся папиросой, потом бросил ее.
Кто-то перекинул веревку через голову сзади – точно в ребячьей игре. Другой выбил из-под него ящик. Корнет Татищев отвернулся и вновь заставил себя смотреть.
Окруженный солдатами учитель еще стоял выше всех, хотя голова склонилась набок. Все ждали чего-то. Вдруг тело учителя явственно вздрогнуло. Тогда, подождав еще чуть, вахмистр сказал:
– Айда, ребята, по коням.
Очнувшись, Татищев быстрым шагом вышел во двор и, сторонясь дерева, побежал к лошадям…
Рысью подъехал корнет Татищев к своему командиру:
– Разве это было необходимо?
– Ты про учителя? – спросил Скоблин. – Ну да, им это нужно. Вчера была неудача, промазали обоз и батарею. К тому же убит Лушин, которого все любили. В свое время у каждого из них убили, изнасиловали, разорили, сожгли. Помешать нельзя было. У нас в полку еще слава Богу, у других много хуже.
– Вахмистр говорит, певичку поймали, это кто?
– Плевицкая.
– Та самая?
– Надежда Плевицкая. А какая еще? Я другой не знаю! – И Скоблин, пришпорив коня, пустил его галопом и снова скрылся в облаке пыли. Было ему в тот день от роду 25 лет.
* * *
19 сентября 1937 года. Париж. Зал собрания Союза Галлиполийцев на рю де ля Фезандери был полон. На торцевой стене зала красовалось полковое знамя Корниловской дивизии. На банкете присутствовали генералы Деникин и Миллер, сидевшие рядом, многие общественные и политические деятели и писатели, в том числе и Иван Алексеевич Бунин, который, взяв слово, вышел из-за стола, оставив свой бокал и став у знамени:
– Один из наших беженцев недавно рассказал в своих записках о тех забавах, которым предавались в одном местечке красноармейцы, как они убили какого-то нищего старика (по их подозрению, богатого), жившего в своей хибарке совсем одиноко, с одной худой собачкой…
Меж тем как Бунин говорил своим ровным, негромким, но неспокойным голосом, зал смолк, только генерал-майор Скоблин продолжал шептать что-то по секрету своей супруге Надежде Плевицкой, сидевшей, однако, при этом очень прямо с гордо приподнятой несколько в театральной манере головой.
– Николай Владимирович, – вынужден был сделать замечание Миллер и сделал характерный жест кистями рук, означавший, что он удивлен подобной вольностью своего заместителя.
– …Ах, говорится в этих записках, как ужасно металась и выла эта собачонка вокруг трупа и какую лютую ненависть она после этого приобрела ко всем красноармейцам: лишь только завидит вдали красноармейскую шинель, тотчас же вихрем несется, захлебываясь от яростного лая. Я прочел это с ужасом и восторгом и вот молю Бога, чтобы он до последнего моего дыхания продлил во мне подобную же собачью ненависть к русскому Каину. А моя любовь к русскому Авелю не нуждается даже в молитвах. Пусть не всегда подобны горному снегу одежды белого ратника, да святится вовеки память его. Под триумфальными воротами галльской доблести неугасимо пылает жаркое пламя над гробом безвестного солдата. А в дикой и ныне мертвой русской степи, где почиет белый ратник…
– Кто это? – спросил своего переводчика человек, одетый в форму офицера французской армии.
– Господин Бунин, русский беллетрист, – по-французски же отвечал переводчик-француз.
– …тьма и пустота. Где те врата, где то пламя, что были бы достойны этой могилы? Ибо там гроб Христовой России. И только ей одной поклонюсь я в день, когда Ангел отвалит камень от гроба ее.
Потом пела Плевицкая:
– Занесло тебя снегом, Россия,
Запуржило седою пургой,
И холодные ветры степные
Панихиды поют над тобой…
Со слезами на глазах слушали бывшие корниловцы, алексеевцы, дроздовцы свою давнюю любимицу. И гордым взглядом окидывал собрание довольный муж ее, Скоблин. Шум, аплодисменты, крики «браво!». И хозяева, и гости в приподнятом настроении. Банкет удался на славу.
Обращаясь к Миллеру, Скоблин с пафосом объявил:
– Сегодня мне хочется дать доказательство нашей преданности нашему Главе, работающему в столь трудной и морально тяжелой обстановке. По нашей добровольческой традиции, от имени офицеров-корниловцев я прошу его превосходительство генерала Миллера зачислить себя в списки нашего полка.
Под громкое «ура!» до глубины души растроганному Миллеру была поднесена корниловская «розетка». Отвечая на бурю приветствий, Миллер сказал:
– Благодарю за оказанную честь. Российский Обще-Воинский Союз одним своим существованием осознаётся советской властью как наибольшая угроза и опасность. Мы достигли этого верностью заветам основателей и вдохновителей борьбы за Россию.
Снова крики «ура!», поздравления…
* * *
С банкета полковник Корниловского полка Борис Маркович Федосенко возвращался со своим давнишним приятелем и однополчанином полковником Магденко. Пройдясь полупустынной набережной Сены и спев вполголоса любимую «Распрягайте, хлопцы, коней», приятели, разогретые смирновской водкой и красным бордо, разоткровенничались:
– Хорошо ты живешь. Процветаешь, значит, недурно зарабатываешь? – спросил Федосенко.
– Да, жаловаться не могу. Вот что, дорогой, хочу сказать тебе кое-что по секрету. Только пусть это останется между нами.
– О чем разговор? Могила.
– Влез я в тайные дела. Не изменяя нашему белому делу, я зарабатываю на большевиках.
– Свят, свят, свят! – перекрестился Борис Маркович и остановился, глядя на Магденко так, будто видит его впервые.
– Слушай внимательно и не пугайся. Я уже несколько лет морочу им голову и получаю за это большие деньги. О моей связи с берлинскими большевиками знает генерал фон Лампе.
– Вот как! – пролепетал Федосенко.
– Да, и вижусь я там не с мелкой сошкой, а с заправилами советской разведки. На днях вернулся я из Берлина для доклада генералу Миллеру. Ну, почему бы и тебе не сорвать с них чуточку деньжат? Я помогу тебе, дам ход.
Федосенко идти дальше не мог, он прислонился спиной к парапету набережной и насупился, грозно сдвинул брови.
– Слушай внимательно, Борис, – не отступал Магденко. – Важное есть дело, очень важное. Большевики готовят убийство члена французского правительства, пока не могу сказать тебе его имя. Уже давно обрабатывают какого-то сумасшедшего эмигранта. Ну и должен выглядеть убийца не как какой-то анархист, а как наш брат, белогвардеец. Понимаешь, чем это пахнет для всех наших? Ведь это будет удар по эмиграции; что-то надо сделать.
– Сколько они платят? – глухо выдавил из себя Федосенко.
– На полторы тысячи франков в месяц можешь рассчитывать сразу. Ну, или шестьдесят долларов. Дадут тебе кличку, и будешь работать.
– Какую еще кличку?
– Ну, кличку конспиративную. У меня кличка «Крот», например.
– А у меня?
– Да что ты как маленький, очнись! Ну, будешь «Крыса». Не все ли тебе равно? Ты глянь, на кого похож стал. Как Чарли Чаплин в «Сити лайтс» ходишь. – При этом он поворотился к Борису Марковичу спиной и стал удаляться, помахивая ореховой тростью.
– Ладно, согласен! – не без особой свирепости закричал друг полковник.
Магденко тут же прекратил свое шутовство, вернулся твердой походкой и, глядя в глаза приятелю со всей трезвостью, сказал:
– Только вот что: дай слово, честное слово офицера, что ты никогда ничего не скажешь, особенно разведке генерала Миллера. Это может стоить тебе жизни. Учти, что около него двойные агенты.
– Ладно, даю слово.
– Но это не все, – продолжал Магденко. – Вот что еще, Борис. Ты Скоблина хорошо знаешь?
– Скоблина? Николая Владимировича? Ну, конечно.
– Так вот, – произнес Магденко многозначительно. – Понял? Будь осторожен! Он уже давно у них…
Федосенко отвернулся к реке. Его тошнило…
* * *
Андрей Лысков, второй режиссер съемочной группы фильма «Дежкин карагод», и исполнительница главной роли Вера Алькова пересекли площадь Согласия и свернули в сторону сада Тюильри, что тянется вдоль Сены до Лувра.
Как всегда, в это время рождественских каникул, здесь было много детей, с родителями и без, из разных стран и частей света. Светило ласковое, почти весеннее солнце, особенно много детишек окружало зеркальное блюдце воды вокруг фонтана. Там и сям группы высокорослых стройных негров по два-три человека, раздававших какие-то листовки, привлекали внимание тем, что запускали механических голубей, которые сухо потрескивали в воздухе пластмассовыми крыльями и, сделав круг, возвращались бумерангом обратно в руки.
Это привлекло особое внимание Андрея, и он предложил Вере присесть на скамейку:
– Я немного поснимаю на слайды, у нас еще есть время. Садись на сумку.
Он достал из пакета аппарат и застелил скамейку; Вера опустилась и закрыла глаза, подняв лицо к солнцу:
– Как хорошо, словно уже май месяц, – сказала она. – Когда начинается весна, я люблю вот так смотреть на солнце, сквозь веки. Тогда в глазах все такое красное-красное, первобытное, такое живое. Только я давно уже так не сидела, всё некогда…
Раздался щелчок затвора, она открыла глаза и увидела улыбающегося Андрея, опускающего от лица аппарат.
– Я люблю тебя, – сказал он громко.
– Я тоже, – тихо сказала она.
– Нет, я не верю, ты смеешься надо мной.
– Глупый, – она улыбнулась и снова закрыла глаза.
Андрей сделал пару снимков запускающих голубей негров и положил свой «ФЭД» в карман плаща; сел рядом.
– Ты почему его все время в карман кладешь?
– Потому что неприлично ходить с этой рухлядью по Парижу открыто.
– Почему?
– Не знаю, почему. Потому что подойдут и поколотят.
– Это еще за что же?
– За то, что «совьетик».
– Еще чего! Я не позволю, – почти всерьез сказала Вера, и Андрей посмотрел на нее с откровенной благодарностью.
Скамейка было достаточно длинной, и вот к ним подсела женщина с олигофреном лет двадцати, стала кормить его чем-то.
Андрей положил Вере руку на спину, потом обнял ее за плечо, привлек к себе и поцеловал в сияющий профиль.
Олигофрен засмеялся тоненьким девичьим смехом.
– Ты никогда не обращала внимания, что олигофрены всех народов похожи, как братья? Хотя у них не хватает всего одной хромосомы.
– Андрюша… Я не была нигде, и нигде бы не была, если бы не ты.
– Можешь повторить свою фразу?
– Зачем?
– Ты это как-то забавно сказала.
– Мальчик. Глупостями занимаешься.
– Нет, правда, посмотри на него. Точно такие же ходят по улицам Москвы и Курска, Тбилиси и чего угодно другого.
– И что же?
– Тут есть над чем подумать. Я подумаю и скажу.
– Вот! Вот, Андрей Михалыч, если бы ты так делал всегда, было бы дело.
– И ты бы вышла за меня замуж?
– Разумеется.
– И без козы?
Вера в ответ как-то странно посмотрела на него, затем подвигала губами вправо-влево и тихонько мекнула.
Олигофрен, все время с интересом наблюдавший за ними, снова рассмеялся, а Вера запела:
– Соловей кукушечку уговаривал,
Молоденький рябую все сподманивал,
Полетим, кукушечка, во мой зелен сад,
Во моем садике гулять хорошо!
Женщина, кормящая больного, сказала ему что-то по-французски и дала монетку.
– Ого! Десять франков, бери, пока дают, – подталкивал Веру пришедший в восторг Андрей.
– Ах, мерси, месье, – сказала Вера, прижимая руки к груди.
– Берите, берите, – сказала женщина по-русски с легким акцентом. – Это вам на память.
– В каком смысле? – спросил опешивший Андрей.
– Ну, уж, конечно, не на ваше идиотское общество! – воскликнула дама с язвительной улыбкой.
– Наверное, это и называется драматургией, – идя по саду Тюильри дальше к Лувру, размышлял Андрей, обращаясь к Вере. – То, что можно определить словом «поворот», после которого старые вещи предстают в новом качестве. В нашем фильме этого почти нет.
– Почему? – Вера слушала внимательно, даже с тревогой, несмотря на то, что двигались они в шумной, многоцветной толпе праздного народа.
– Потому что наш режиссер просто выстраивает ряд, а сценарист прикрывает свой непрофессионализм красивыми стилистическими фразами и парадоксальным диалогом.
– Что-то слишком умно.
– Ничего не умно, просто громоздко.
– Подожди, но фильм же биографический, как же здесь не быть этому ряду, как ты говоришь. Он даже так и называется: «Карагод», то есть ряд чего-либо.
– Но ведь есть еще, так сказать, биография души! Здесь же ничего у них не понятно! После сцены расстрела какого-то учителя кем-то под каким-то Фатежем, вдруг сразу Бунин говорит речь на собрании, на котором он в действительности никогда не был, и повторяет сказанное им за тридцать лет до того слово в слово.
– Но это же кино!
– Вот именно, что это «кино», и не имеет никакого отношения к серьезному искусству.
– Опять эти споры, я не могу! Была талантливая женщина, любила Россию, всем приносила радость, всем желала добра… Так и покажите ее так, чтоб дать этим людям немного тепла, чтобы было красиво и звучали хорошие песни.
– Слушай, Верочка, я знаю, что ты женщина, достаточно. Напрягись немного.
– Интересно! И ты хочешь, чтобы после таких слов я пошла за тебя замуж?
– А после каких? Ну, что значит это твое «чтобы было красиво»? А как она любила Россию? А кого она любила в этой России, почему она бросила красного Шангина ради белого Скоблина?
– Мальчик мой! Она и Плевицкого бросила ради Шангина вовсе не потому, что они были разного цвета.
– Ни слова, ни кадра про красную Одессу! И потом, извини меня, с девятнадцатого по тридцать седьмой год целых восемнадцать лет, целая жизнь! Почему она в Америке пела в пользу советских детей?
– Ты что, вообще, что ли? – всерьез озаботился Вера. Это же дети! Неужели ты думаешь, что она должна была влезать во всю эту политику, в которой и теперь черт ногу сломит, тьфу, Господи, прости!
– Ты что, правда так думаешь? – остановился Андрей.
– Да, а что?
– Нет, в самом деле?
– Ну, а как же еще?
– Хм! Тогда я, кажется, начинаю понимать Плевицкую. Она, видимо, действительно рассуждала точно так же, по-женски. То есть не умом.
– Можешь не повторяться. Тебе и так уже не светит.
– Это мы посмотрим.
– Ох ты!
– Да. А бедолагу Миллера она позволила кокнуть своему мужу потому, что любила, так скажешь?
– Нет, потому что мечтала посидеть лет двадцать в каторжной тюрьме! Конечно, потому, что любила Скоблина и верила ему.
– А ты мне не веришь.
– Тебе? – расплылась в улыбке Вера. – Тебе верю…
Они обнялись со всей той нежностью, которую позволяла обстановка. Совсем неподалеку двое рабочих в комбинезонах обновляли из пульверизатора розовой краской большие щиты фанерного забора, сплошь покрытые какими-то экстремистскими лозунгами, панковыми рисунками и просто общечеловеческими символами вроде пронзенного стрелою сердца…
У входа в Лувр, у возведенных Миттераном стеклянных пирамид посреди дворцового двора разом сошлись все члены экспедиции и разом, как водится, заговорили:
– Са ва?
– Са ва!
– Вы куда провалились?
– А мы не в ту сторону сели, как перейти, не знаем, вышли и пошли пешком.
– Иван Иваныч, он всюду пешком ходит и не опаздывает!
– Иван Иваныч! Бонжур! Он за ради экономии пешком ходит.
– Так не опаздывает!
– А я это! – возразил Иван Иваныч. – Я ить как же без языка-то куда сяду, я уж на глазок, меня Эйфелева башня отовсюду выручает. Я на нее иду, а там уже куда надо мне – сворачиваю. Или по Сене, например.
Заслышав русскую речь, прочие иностранцы, включая и белых, и желтых, и черных, и цветных, взяли постепенно группу в круг и даже стали фотографировать, показывая на них пальцами, подводя своих детей и заставляя их тоже смотреть, отчего один маленький мальчик не выдержал и разрыдался…
Быстрым шагом, возглавляемая новым режиссером-постановщиком Абрамом Семенычем Соловейчиком, съемочная группа ретировалась под мрачные своды одной из арок дворца, под которыми двое странствующих музыкантов играли нечто возвышенно-печальное на флейте и скрипке.
Вера Алькова с умилением стала слушать, отойдя в сторону, а Иван Иваныч подошел и бросил в лежащую на булыжнике бархатную шляпу желтую монетку достоинством двадцать сантимов.
Абрам Семеныч отозвал Андрея:
– Слушайте, молодой человек, посмотрите вот это, – он протянул Лыскову машинописные листки. – Передали утром через консульство от сценаристов. Надо что-то с этим делать. Я взялся переснимать фильм, а не печь очередной ералаш.
Андрей вчитался в исправленные чьей-то нервной рукой страницы текста…
…Уже знакомый зрителю интерьер петроградской квартиры Федора Ивановича Шаляпина. Белый рояль заставлен пустыми бутылками и грязной посудой. Из граммофонной трубы несется надтреснутое, хрипящее пение Плевицкой, нечто про ухаря-купца, удалого молодца. Диван, на котором еще не так давно блаженствовал Константин Коровин, занят подвыпившим финляндским коммунистом Рахия.
Еще несколько человек, в их числе сам хозяин комнаты и некто Куклин, бывший лабазник, сидели кто как и закусывали кто чем изготовленную, судя по чрезвычайной мутности, домашним способом водку.
– Надо же, – удивлялся Рахия, – до чего эстонец додумался: из гнилой картошки такую крепкую и хорошую вещь получает.
Говорил он, конечно, с акцентом и вместо Ш произносил почему-то Ц.
– Стало быть, вы теперь будете способны переменить свой гнев на милость? – спросил Шаляпин.
– А? Цто это? – не понял Рахия.
– Я имею в виду – в отношении театра.
– Нет! Нет! Невозможно! – в полный голос и откровенно заявил финн. – Потому цто таких людей надо резать!
– Каких «таких» людей? – поинтересовался Федор Иванович.
– А вот таких, как вы сам!
– Почему же? – осведомился человек, приставленный к граммофону переменять пластинки.
– Ни у какого целовека не должно быть никакого преимущества над людьми. Талант нарушает это равенство!
– Забавно, – сказал Шаляпин тихим голосом, но все услышали. – Ишь как на финна действует эстонская водка.
Песня про ухаря-купца в это время закончилась, пластинку перевернули, и голос Плевицкой снова запел, на этот раз «Когда в Сибири займется заря…».
– Вишь ты, как голосом забирает, – сделал замечание матрос, и до того слушавший пение с восторгом. – Важно-о!
– А я вам, товарищи, скажу, – заявил вдруг Куклин, – что ничего, кроме пролетариев, существовать не должно, а если существует, то существовать это должно для пролетария. Верно говорю? – спросил он у Шаляпина и при этом икнул раза два.
Вместо ответа Шаляпин налил себе в хрустальный бокал еще самогонки и выпил.
– Вот вы, актеришки, – не унимался Куклин, – вот вы, что вы для пролетариата – сделали что-нибудь или не сделали?
– Тошно, – сказал Шаляпин.
– Цто, цто? – спросил очнувшийся Рахия.
– Говорю, мы делаем все, что можем, – повысив голос до некоторой угрозы, говорил Шаляпин. – Для всех вообще, значит, и для пролетариев, если они интересуются тем, что мы делать можем.
– Никто ницего не понимает, – ответил загадочной фразой Рахия. – А в особенности Цаляпин не понимает.
– Да! подхватил Куклин. – Ты, Шаляпин, не понимаешь… Да что ты понимаешь в пролетариате?
И тут вдруг хозяин дома, что называется, взвился штопором. И позеленев от бешенства, тяжелым кулаком хлопнул по столу:
– Встать! Подобрать живот, сукин сын! Как ты смеешь со мной так разговаривать? Кто ты такой, что я тебя никак понять не могу? Навоз ты этакий, я Шекспира понимаю, а тебя, мерзавца, понять не могу! Молись Богу, если можешь, и приготовься, потому что я тебя сейчас выброшу на улицу!
Матрос, почуяв опасный пассаж в дружеской беседе, встал между Шаляпиным и Куклиным. С пластинки все пела Плевицкая…
– Вот, прислали, – в который раз обескураженно повторил Абрам Семеныч и развел руками. – Зачем?
– Да-с, но ведь это павильонная съемка, – повертел листки Андрей. – Зачем, в самом деле? И потом: что здесь? Я понимаю, если бы Шаляпин этого Куклина в самом деле через окно на улицу выбросил, был бы эффект.
– А что, в самом деле? – подхватил Иван Иваныч. – Здорово! А, Абрам Семеныч?
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































