Текст книги "Призраки и художники (сборник)"
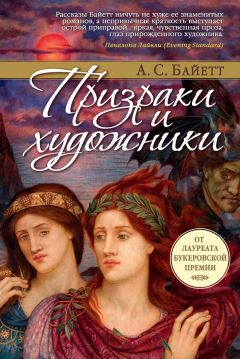
Автор книги: Антония Байетт
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
* * *
Позже, в номере гостиницы, после разговора с этим человеком, заживо себя схоронившим, Джоанна почувствовала грусть. Столько людей, думала она, разочарованны и озлобленны. А чем умершие хуже и почему мы должны предполагать, что хотеть большего – но при этом руками и ногами держаться за то, что знаем и чего добились, – не является неотъемлемой частью абсолютной природы человека? И пускай будут домики с пионами и отдел загробной жизни с отличными стальными трубами – отчего нет? И почему бы са́мому цепкому как раз и не сохраняться дольше всего? С чего я вознадеялась, будто у меня есть особое право либо изменить мир, либо тихо раствориться в пространстве? Эти надежды – часть бренного моего состава, существуют лишь в заданных и очень узких пределах меня самой. И, словно в ответ на ее мысли о разочаровании и злобе, вступили голоса, забормотали что-то у двери ванной, неразличимо, но с яростью, с такой яростью. Наша вечная жизнь, время до и время после нашего короткого пребывания на земле, и правда формируется нашими предками – такова была вторая, неудобная гипотеза Джоанны! Вспомнить хотя бы японского дедушку, председательствующего за завтраком, или родственников Бонни Рут, радостно собирающихся вместе. Ибо отдельный мужчина или женщина чем-то напоминает рождественник «джоанна хоуп», который несет в себе вечные гены, предписывающие раз и навсегда его форму и будущее. Голоса прикреплены не к покинутому саду, а к ее собственной крови и плоти, к ее сознанию. Можно пойти в Академию возвращения, попросить их узнать: что же в ней такого, почему она их слышит? А можно просто отгородиться от них, не подпускать к себе, не замечать. Джоанна подошла к двери в ванную. Представила, что́ там за ней: душевая занавеска, нескользящий резиновый коврик, блестящий красный фарфор; или, может быть, есть какой-нибудь пыльный верхний чулан, где приютились голоса? Послышался легкий шорох: сдвинули что-то пластмассовое, закапало из крана, кто-то начал монотонно причитать.
– Тихо, тихо, – сказала она. – Я вас слышу. Только вот чем помочь, не знаю и слышать вас не хочу. Разбирайтесь сами… Умоляю, оставьте меня. Раз и навсегда.
Тишина. Снова тишина. Крепись, подумала Джоанна, отворачиваясь к восхитительной безликой кровати с полоской неяркого света, с теплыми золотыми простынями.
Она подняла колено, чтобы залезть в кровать, и услышала:
– Конечно, обращайся ты с ней получше, она бы не была такой зловредной, выказывала бы больше понимания, больше почтения… в ней всегда было мало сострадания, это все твои недоработки…
– Ничего, она научится, когда придет полнота времени.
Когда придет полнота времени, тонкая завеса приоткроется, рассудила Джоанна, и настанет ее черед оказаться, отнюдь не тихоней, в той, ближней комнате.
Сушеная ведьма[23]23
Перевод О. Исаевой
[Закрыть]
Она высохла. Стояла засушливая пора, но эта сухость была в ней самой. Во рту все скоробилось, как тряпка под солнцем, язык песком скреб шелковистую сушь нёба. Истаяла влажная поволока глаз, щипало веки, и кололись корешки ресниц. И между ног было сухо. Она глотнула воды из ковшика, омыла рот – все равно что плеснула на раскаленный камень. Она заходила по дому, вымела глиняный пол, на котором тут же, как пот, опять выступила пыль, соскоблила пригорелый жир с маленькой дровяной плиты и белесый налет с больших горшков с соленьями. Подергала нитки, торчащие из мешков с просом, и лозинки, торчащие из корзин с чечевицей. Заново сложила лоскутные одеяла наверху и обмела каменную лестницу, сумеречную от закрытых ставен. Взяла свой яркий медный котел и пошла к желобу.
В деревне были две улицы крест-накрест и дома желтого камня, слепленного цементом, с сизыми деревянными рамами и рыжими дверьми. Половина домов прилепилась к подножью высокой горы, углубилась в нее погребами-пещерами. Другая – глядела на узкое дно долины и горную цепь над ней, вышитую по жаркой дымке синевой, речной и ледяной, с медной искрой. Воду в желоб приносил ручей, выбегавший из горы и возвращавшийся в нее чуть ниже с сердитым сосущим звуком. Женщины скоблили здесь свои котлы и били вальками длинные юбки на каменном краю желоба.
Оа хотела увидеть свои глаза. Она глянула в спокойную воду. Из желоба, глубокого, темного, с зеленью понизу, на нее глянуло ее собственное лицо – овальная тень среди солнечного блеска. Она склонилась ниже, и вот проступили черты: полая чернота волос, упавших по сторонам лица, черный рот, темные дыры глаз. В воде все превращалось в лиловые и зелено-бурые тени. Зеленовато-смуглая, без улыбки, смотрела на нее ее маска, сощурив темные, и впрямь очень темные, глаза.
Она взяла пемзу, горсть белого песка и начала тереть и без того блестящий котел. Она посмотрелась в его выпуклые бока, потом в круглое дно, оплетенное тонкими царапинами, в которых вспыхивали белые и цветные искорки. В котле ее лицо было другое, круглое и сияющее – солнечное пятно на горячей меди. Волосы лучились, черты расплывались и перетекали по гнутой поверхности. Здесь были цвета, если только им можно было верить: медно-коричневые впадины щек, медно-красные, сжатые, горящие губы. Глаза под изогнутыми бровями – глаза тоже, кажется, были красны.
* * *
У ведьмы дом чист без изъяна, а глаза красные. Есть такой возраст, когда женщина может стать ведьмой. Может, и у нее он наступил. Мужчин в деревне было мало: молодых угнали в армию, как ее мужа, воевать где-то на границе, за много месяцев ходу. Другие ушли к бандитам в их горную крепость. А те, кто остался, уже не взглядывали на нее тем взглядом, от которого делалось и страшно, и сладко. Под рубашкой груди ее были маленькие, мягкие, высохшие. Обвисшая плоть под обвисшей тканью. Женщина не может увидеть себя в глазах мужчины, так только в старых стихах говорится. Но можно по его напряжению почувствовать, как туго твое тело, как упруга поступь. Расчесываясь, она стала замечать кое-где среди черных длинные серебряные волосы. Они были грубее, как-то живей на ощупь и ярче… Неужто и правда глаза у нее стали красные?
Даже в сухой послеполуденный зной на улице была жизнь. Две дочки Ча Ан и прыткий, как лягушонок, сын Бо Ме сидели на корточках в пыли и о чем-то болтали. Завидев ее, они бросились врассыпную, закричали пронзительно: «Старуха! Старуха!» Оглядывались, а в глаза не смотрели. Оа сжала сухие губы: старуха она и есть или будет скоро, но слово это значило еще и другое. К детям она была неласкова. Пока мужа не забрали, она схоронила четверых своих – хрупкие, как скорлупки, черепа под безволосой кожей, руки-палочки, привязанные к вздутым животам, мертвые висящие ступни с их красивыми бесполезными косточками. Свертки из банановых листьев, нежно утолканные в ямки, вырытые в пыли и твердой глине. Один – мальчик – видел два лета, знал несколько щебечущих слов, ее имя, и был у него такой довольный смешок, когда он видел Толстую курицу. У него была огромная голова, голова мудреца, голова дурачка на теле, которое не наливалось и не играло. Все сразу знали, что и он долго не проживет. Это был третий, а после четвертого их отца забрали в армию.
У входа в лавку стоял лавочник Кун. Он все был на виду, он все улыбался этой своей улыбочкой, печальной, морщившей его толстое лицо, – казалось, вот-вот тихо заплачет от бессилия и безнадежности. У него была в горе́ пещера-кладовая, там он держал маринованную свинину и соленья, полотно и нитки, масло и одеяла, корзины и горшки. Кун был человек нужный, знающий, у кого в чем нужда. Оборотистый и дошлый делец, за то и уважаемый. Кун все знал раньше всех. Знал, когда кому умереть, когда родиться, – глядь, а он уж тут с приношением, с подарочком. Бо Ме еще бегала, искала по полям своего старшего, а Кун уже знал, что тот подался к разбойникам. Он знал, что молодая жена Ма Туна с приезжим двоюродным братом наедине сидела. И о чем говорено было, рассказал – немного, но достаточно. Знал он – в этом она была уверена – и что случилось с Да Шином, молодым деверем Оа. Как-то ночью он ушел, никому не сказав, – через год примерно, как ее мужа забрали в армию. О том, что знал, Кун говорил нехотя, с осторожностями. Советовал, если грех налицо, не спешить с судом и карой. Как и у нее, близкой родни в деревне у Куна не было. Раньше он жил с матерью, но она умерла в преклонных летах, окруженная его заботами, провожаемая причитаньями и потоками слез. Его и в армию ни разу не угнали, и разбойники не обложили его данью. Он был толстый, с мягкими женскими грудями, которые отвисло лежали на его бледном гладком животе. Носил он обычную набедренную повязку из хлопка и хлопковый же длинный кафтан, темно-синий, с желтой и красной вышивкой по рукавам и вороту. Его толстые щиколотки наплывали на мягкие остроносые туфли – он мог в них подобраться сзади неслышным шажком, а мог объявить о своем приближении важным шлепаньем. Оа чувствовала, что они чем-то похожи, она и Кун: одиночки на краю людского круга, не вплетенные в него ни родством, ни долгом. Но Кун сумел сделаться нужным, его даже побаивались. Ведьм тоже боятся. Ведьма может высушить ребенка, может наслать неурожай, сделать свинью неплодной. Ведьма может сделать так, что дерево само собой вспыхнет пламенем. Оа сама никогда не видела, но это все знали. Знали, что такое под силу тем, кто наводит чары, кто делает талисманы. Кун наверняка мог бы сказать, не красные ли у нее глаза, не случилась ли в ней перемена. Но она не хотела о таком услышать от него. Она знала, что он ее не любит, хочет ей зла. Почему – не знала. Может, он и всем хотел зла, без разбору. Поговорить ей было не с кем.
На другой день она пошла вверх по долине к храму. Она взяла с собой приношение Мудрым: мисочку нута, коричневато-зеленый плод йоджи, с обоих концов острый, в продольных рубцах, под ножом текущий прозрачным и жидким красным соком. Женщины, мечтающие о ребенке, в определенные дни жертвовали Мудрым йоджи, взрезая их, щедро обнажая нутро, все в ямочках и пупырышках, где толстые белые семена на ножках-ниточках рядами покоились в своей месяцем изогнутой колыбели. Она взяла еще несколько стручков белых бобов, которые росли у нее в огороде, а теперь почти все были собраны и кучей сушились на солнце. Бобы были бледные, с восковой поволокой и алым крапом, стручки – бумажно-сухие, беловатые, сбрызнутые пурпуром.
Долина круто шла вверх, заросшая желтым шуршащим бамбуком. В нем жили насекомые, пели свои однообразно скрипучие песни, порой проносились мимо промельком угольных крыльев. Храм стоял почти наверху долины, а еще выше, над лестницей в четыреста ступеней, в естественных и выдолбленных нишах сидели четыре сотни каменных мудрецов и божков, глядевших умно и слепо. Он был построен на плоском возвышении и окружен стеной кровяного цвета, с угольно-черными знаками против злых сил, колдунов и демонов. Под стеной бродили и сидели на корточках люди потерянные и ничьи, бездомные и святые. Женщины в черных покрывалах жались друг к дружке, как летучие мыши. Нагие праведники каменели неподвижно или ритмически простирались и подымались снова. Пахло кислым варевом, кизячным дымом, слабее – лепешками, пекущимися на сковородах, и немного пряностями. Раньше нищие тянули к ней ладони, показывали огромные язвы, иссохшими пальцами водили по бороздам между искривленными ребрами детей. Сегодня они заголосили ей навстречу, но сбегаться не спешили, словно в ней не было для них никакой надежды. Тут же стоял глубокий колодец под островерхим навесом. Оа остановилась, вытянула бадью с ковшом, хотела умерить сушь. Мелкими глотками пила холодную воду, гоняла ее в пересохшем рту, чувствуя, как она окатывает, не смачивая, лоснисто-сухую плоть, застревает в воспаленно-сухом горле.
* * *
Во внутренних дворах было оживленно и шумно: паломники переходили меж больших и малых часовен, монахи в бурых одеждах тащили корзины с зерном и овощами, семьи перекорялись, на корточках сидя в пыли. В большом храме были Мудрые – трое страшных, огромных, выше и шире, чем мог окинуть глаз. Можно было лишь глядеть на тяжкое колено, на гороподобную чудовищную руку или на три лица, в вышине, в полумраке под самыми сводами, невозмутимо глядящие поверх простершихся муравьев. Лица, чудесно, исконно лишенные выражения, родственно схожие в своем совершенном покое. Медные лампады светились на уровне алтарей, а те стояли у подошв великанских ног, пыльных, но не запачканных странствиями. От этого казалось, что Мудрые высятся бесконечно, что предела им не увидеть и не помыслить, что его и нет вовсе. Оа купила у монаха благовонную палочку, зажгла и воткнула рядом с другими на одном из малых алтарей. Она несколько раз поклонилась, выставила перед алтарем мисочки с бобами и йоджи, стала на колени и поникла к земле, рассыпав в пыли черно-серебряные волосы. Ей казалось, она не знает, как молиться, о чем просить. Раньше она просила о сыновьях или просила простить ей вину, за которую зачахли и умерли сыновья, уже рожденные. Сбоку у алтаря стоял коренастый бронзовый мальчик, толстенький и гладкий, не пыльный, как все в этом громадном, гремучем, дымном от воскурений месте, а блестящий, углаженный, уласканный бессчетными смуглыми и мягкими ладонями. Его бедра опоясывал шнурок, на котором висел алый передничек, прикрывавший лишь то, что было у него между ног. Говорили, что прикосновение к мальчику приносит удачу, приносит сыновей. Раньше Оа всякий раз шла к нему. Молодая и шаловливая, она щекотала его, как любовника, с тихим смехом оглядываясь на мужа. После смерти первого ребенка она робкими пальцами едва касалась теплой бронзы. Однажды она пришла с Да Шином и украдкой тронула ручку мальчика, прося дружбы, пособничества. На лице у мальчика плавала улыбка, приподнимая уголки губ и кончики бровей. Оа пыталась сказать Мудрым, что ей страшно: она не она, что-то меняется, а что – не выразить, но видела лишь эту усмешку, жирный лоск от множества рук – молитв, исполненных и отвергнутых, – да красную тряпицу, которую никто никогда не поднимал. Она подумала: «Когда я умру, это кончится», и «это» был мальчик, его милости и немилости. Мудрые не снизошли, не дали ей облегчения. Может быть, потому, что она столь малого ждала, потому, что душа ее больше не вбирала в себя беззвучный ток их жизни, как язык и нёбо не могли впитать влагу.
* * *
Она вышла за ворота. Пора делать то, зачем явилась. В свое время была тут одна старуха, которая дала ей талисман от желтых червей в корнях горькой тыквы (Да Шину она тоже кое-что дала, он признался потом). Старуха, которая знала разное. Она жила в крохотной хижинке из тростника и листьев, сидела на корточках, поставив перед собой деревянную миску для приношений, прислонив к себе мешочки из кожи и льна – внутри были тайны. В те дни, казавшиеся теперь далекими, как сказка, в дни, когда Оа текла живой кровью, когда был Да Шин, Оа смотрела на старуху брезгливо, опасливо и словно бы даже немного жалела. Оа была хорошая хозяйка, она любила то, что имела: свои добротные каменные стены, свой до блеска начищенный котел, острую мотыгу, которой она охаживала свои грядки, чтобы дурная трава не смела поднять голову, или отводила подальше от прохода листья и лозы. Старуха, ее хилая лачужка и сухое черное тряпье казались ненужными, зряшными, непрочными, как хрупкие черные пленочки, остающиеся, когда сожгут бумагу или ткань. Оа шла вдоль наружной стены храма, ожидая, что, скорей всего, старуху не найдет. Но та была на месте, со своей лачужкой, с миской, с мешочками из кожи и льна, – по-птичьи легко сидела на земле, почти как в те дни, когда был Да Шин.
Оа села перед ней, всыпала в миску горсть зерна. «Будьте благополучны, матушка, – сказала она. – Годы вас милуют».
Старуха чуть пошевелилась, зашелестела, скрипнула. Ее лицо было обтянуто тонкой темной кожей, исчерченной тончайшими морщинками, похожими на нежное плетение прозрачной ткани. Под кожей не было ни плоти, ни жира – лишь кость, которая однажды явится на свет. Черные глаза в красных веках глубоко ввалились, короткие седые ресницы – как белые призраки на красном.
– Я тебя помню, – сказала старуха тонким голосом. – Ты просила того, что бывает и чего не бывает. Ты хотела тайного и еще извести желтых червей. Извела?
– Пропали, как и не было.
Старуха пососала губы:
– Теперь, вижу, за другой наукой пришла.
– Мне, матушка, нужен талисман от сухости. Я вся высохла насквозь, как копченая рыба.
Старуха порылась в складках одежды, вынула вялый лимон и треугольное лезвие. Она положила плод в миску и вре́залась в него лезвием, деля плоть на доли. Старый рот кривился, бормотал, плевал на лимон. Потом стала мешать и мешать доли и наконец одну протянула Оа. «Надкуси, – сказала она. – Увидим: сок твой сам иссяк, как родник, или ведьма его высосала, чтобы иметь над тобой власть. Надкуси и скажи точно, что будет».
Вдохнув запах нагретой кожицы, Оа надкусила лимон. Под языком собралась слюна, но немного, не так, как в молодости, когда от одного вида ярко-желтых сияющих шаров во рту ключом била человеческая вода. В сухой день стоило лишь подумать о лимоне, как изнутри приливало, но теперь и сам он только чуть смягчал сухость.
– Есть вода, но немного.
– Я так и думала. Был бы в тебе живой сок, от наговоренного лимона он бы у тебя потек по подбородку. Сок твой иссяк. Кровь тоже высохла?
– Уж много месяцев как.
– Придвинься, я вижу плохо.
Оа подалась вперед, так, что голова ее оказалась под крышей хижинки, лоб – под навесом черного покрывала той. Оа чувствовала ее дыхание, витыми струйками вылетавшее из ноздрей, – чистый дух, земляной, пряный, воздушный. Она видела морщинки, прорезавшие лоб и губы, лилово-черный очерк запавших глазниц. Она опустила глаза, чтобы не встретиться с теми глазами, чьи белки были желты, чьи огромные райки черны, чьи веки обведены красной каймой.
– У тебя глаза красные, – сказала старуха. – Ведьма может вернуть свой сок, на это есть разное колдовство. Если хочешь, можешь научиться. Если тебе это нужно.
– Я всегда жила порядочно и тихо. Четыре сына было у меня, но что-то из них жизнь сосало, ни один толком не пожил. Я сад содержу хорошо, и дом у меня чистый. Мужа забрали, жить мне не для кого. Некому будет горевать, если я завтра умру или начну бесноваться, как Ше Ат бесновалась, пока ее из деревни не выгнали и не забили камнями. В деревне мне уважения нет. Сыновей не осталось, никто в старости обо мне не позаботится. И с каждым годом хуже будет, хоть чуть, да хуже… Знать бы мне вашу науку, матушка, была бы оборона от того, что сыновей моих высосало, от того, что со мной творится.
– За науку платят, – сказала старуха.
Она не протянула руки, и можно было решить, что речь о жизни, не о деньгах. Но Оа достала из-за широкого пояса три монеты и положила в миску рядом с лужицей лимонного сока. Дернулась ткань, мелькнула ловкая длиннопалая кисть, и монеты исчезли в черном рубище. «Ну, запоминай: устроишь алтарь. На него положишь, что я тебе дам, и сама еще кое-что достанешь. Дождешься, пока влажное высохнет, а сухое нальется. Тогда будет у тебя власть над сухим и влажным, ты сможешь лечить, а если захочешь – портить. Все тебя будут уважать и бояться. Если только кого сильнее себя не встретишь».
* * *
Когда она сквозь зной шла по деревне обратно, на нее молча смотрели соседи. Кун стоял в тени своего дома – на круглом животе полумесяцем блестел пот, глаза следили за ней, губы брюзгливо поджимались. Дети бежали прочь, увидев ее. В деревне почти все про всех знали. Корешки и лыко, пыльные сушеные бобы, черные и алые, она пронесла в складках длинных юбок. Дома кухня была темна и тепла теплотой нагретой земли, здесь было прохладней, чем на улице. Толстая курица с важным видом выбежала ей навстречу, негромко кудахча и потряхивая запачканной в земле бородкой. Она боком глядела на хозяйку ярким золотым глазом, кивала красным, набекрень надетым мясистым гребешком. Оа поставила воду для чая и зажгла свечку у маленького алтаря над плитой – это был алтарь домашнего духа. Другой алтарь нужно поставить так, чтобы не было видно в окно, сбоку от плиты, позади горшка с овощами. Под балками потолка, в чревах мешков и горшков, хранились разные амулеты – связки перьев и веточек, шерсть, семена: умилостивить безымянных демонят и бродячих духов.
Она заварила чай, отщипнула кусочек от сладкого рисового шарика и села на пол спиной к окну. Она сидела и глядела на свои ножи, на свой тесак, на свое сито, лежавшие на низком столике. Курица сновала вокруг, суетливо подбирала с пола рисинки и дружески поквохтывала. Она была хорошая несушка, эта курица, и сама наведывалась к горластому петуху Бо Ме. Только на яйцах сидеть не любила, оставляла их в разных тайничках, известных хозяйке, а сама бежала обратно в кухню смотреть, как Оа режет овощи к ужину, и склевывать просыпанные крупинки. Оа задумалась: среди прочего старуха велела достать недосиженное яйцо, яйцо, в котором свернулся уснувший цыпленок и которое сгниет на алтаре, чтобы из гнилости перейти в сухость. Это не так-то просто, может, ей придется красть из-под чужих наседок – ей, всегда державшейся особняком, жившей пристойно и строго. Для цыплят время было плохое: самый разгар засушливой поры. Еще нужна была змейка-плетка – тонкий, ядовитый, быстрый и бледный червь, поражающий из-под камней по обочинам полевых тропок. Змеек этих боялись, поэтому Оа знала, где их можно найти. Или можно было раньше. Да Шин умел ставить на них ловушки из раздвоенной палочки и петельки. Он и ей показывал, но она никогда не пробовала. Они сидели плечо к плечу на краю тыквенного поля, прилаживали ловушку с приманкой и боялись дышать. Она помнила, как, освещенные солнцем, быстро и ладно ходили его запястья, помнила проступившую вереницу позвонков, напряженные стегна, когда он сидел на корточках, запах его, уже мужского, пота, тут же высыхавшего, и жар, занимавшийся между ними. Она решила, что попробует сама изловить змею: так безопаснее, чем платить мальчишкам. С остальным будет проще. Нужны некоторые внутренности большой степной крысы – ее легко поймать и в это скудное время, можно самой, а можно просто купить у мальчишек на ужин. Еще разные сочетания семян… Она медленно пила чай и думала, как что устроить, словно у нее больше не было выбора, словно самой ее, с ее страстями, с бесполезными желаниями и надеждами, не было здесь.
У нее снова появилось дело, место в мире. Яйцо придется украсть: сколько месяцев пройдет, пока Толстой курице вздумается сесть на кладку? Может, и никогда не вздумается. Да если и сядет, наседка она не усердная. Несушка – хорошая, потому Оа еще не свернула ей шею и не отправила в котел. А может, и еще почему-то.
* * *
Когда все нужное было собрано и опрятно разложено по мисочкам, наступило дурное время меж двух времен, удушливое время тошных запахов, гниения и набухания: яйцо протухло, взорвалось и опало, крысиные кишки сперва вспучились, а потом скорчились, жесткое кольцо змеи распухло, пошло бугорками и наконец иссохло. Старуха сказала, что, пока они иссыхают, никто не должен прикасаться к волшебным вещам, перекладывать их, менять их взаимные отношения и что никто, кроме Оа, не должен их видеть. Это было нетрудно: никто не навещал ее, никто не любопытствовал, как она живет. Может, разве что Кун, но Кун был мужчина, и ему нельзя было на женскую половину. Мальчикам разрешалось быть с матерью на кухне до двух лет, а потом их забирали и держали в другой части дома, отделенной сдвижной дверью, висячей циновкой или камышовой шторой, смотря по достатку семьи. Поэтому никто не входил на кухню к Оа в дни, когда там гнило и сохло, а были они долгие, маетные, с бессонными ночами и страшными снами: демоны кружили в воздухе, Да Шин лежал изломанный на острых камнях у подножия горы, и живот его вздулся на солнце. Огонь трещал по кустам на равнине, где в особую луну вся деревня собиралась, чтобы плясать, пить, петь, спотыкаться и лежать, как упал, в теплой темноте, где мужчина ищет руками чужую жену, а нетронутая девочка тянется к мужу старшей сестры – невозбранно, ведь в них вошли духи, и они не они, не дети своему дому, не собственность своих мужей, и деревня не казнит тебя, если дотронешься до мужнина отца или брата. Запах наполнял кухню, он реял в легком дыму, он пропитывал жир в волосах Оа, он не нравился курице, она держалась подальше и недовольно кудахтала. А потом время его кончилось, он ушел, и настала тихая сухость. Яйцо превратилось в меловые скорлупки: гнилостные газы прорвали его оболочку, и она осыпалась, обнажив косточки, зачатки перышек и гнутый череп с гнутым клювом. От змеи осталась бумажная белая чешуя поверх мелких косточек скрученного хребта, хрупкие глазницы и, в иголочках клыков, челюсти, от которых, съежившись, отпали шкура и нёбо. На месте крысиных внутренностей было только бурое пятно. Зато сморщенные сухие бобы, алые и черные, налились, округлились и заблестели, странная сушеная плоть каких-то овощей, что дала ей старуха, пористые грибные шляпки и колтуны спутанных корешков ожили, наволгли, сделались мягкими и упругими. Призрак запаха еще висел надо всем – так по многу дней пахнет гарью на кухне, где вспыхнул жир, где было внезапно вставшее пламя, а потом мелкие черные угольки.
* * *
В деревне решили, что Оа ведьма, когда она вылечила язвы на ногах у сына Бо Ме. Конечно, решили, что она же их и наворожила, что сосала из ребенка жизнь через язвы, на которых с каждым днем густел желтый гной, привлекавший мух. Однажды у желоба Бо Ме очень просто заговорила с ней, впервые назвав «матушкой». «Моему Ча Тину все хуже, матушка. На ногах язвы гноятся, сохнет мальчик на глазах. Я уже со всеми советовалась, ничего не помогает. Может, вы какое лекарство подскажете?»
Обе знали, что близкой подруге, матери или сестре Бо Ме сказала бы, что какая-то ведьма, порчельница портит ребенка мыслями или заклинаниями. Но Оа отвечала ласково, что мать научила ее готовить разные снадобья: вдруг что-то поможет? Пусть Бо Ме приводит сына на закате. Когда он пришел, болезненно хромая, с испуганным заострившимся личиком, она велела Бо Ме подождать у входа в кухню, а его увела с собой. Она коснулась ножек-палочек пучками лапчатых листьев и намазала пузырящиеся язвы смесью паутины и истолченных горьких трав, которую знали все женщины в деревне. Она запустила руку в высокий горшок и вынула из его темноты маринованный лимон.
– Держи. Съешь его, и вода вернется, куда должна, – под язык.
Мальчик глядел на нее темными серьезными глазами:
– Спасибо, матушка.
– Не за что.
Она вывела его к матери:
– Теперь поправится.
Потом она остановила понос у Ди Нан, дав ей съесть зернышко и велев обойти деревню четырежды по солнцу и четырежды против. Потом заболела свинья у Та Шин, не ела, все лежала на боку и жалобно повизгивала. Уже уверенная в своей силе, Оа вылечила ее, просто сказав, чтобы ее два дня не кормили. На второй день она встанет, и тогда через три часа надо дать ей месиво. Теперь ее уважали. Бабушки носили ей подарочки: кусок сала, мисочку вареного риса. Ее почтительно встречали на улице: «Здоровья вам, матушка». Да, что-то произошло, но не то, на что она надеялась, и не то, чего смутно ждала со страхом, залегшим внутри, как горячий камень. А потом пришел мальчик – другой сын Бо Ме, не крошечный Ча Тин, а красивый Ча Хун, с лоснистой кожей, с лоснистой длинной черной косой, которая яркой змеей скользила по спине, когда он встряхивал головой. Не мальчик уже, мужчина – увидела Оа, когда он неспешно, с развальцей, прошел мимо ее двери. У него были выступающие мускулистые ягодицы и живот плоский, твердый, упругий. Небрежно, небрежно прошел он мимо, и вернулся, и еще небрежнее прислонился к косяку, быстро глянув в темноту дома.
– Как поживаете, матушка?
– Не жалуюсь. Что твой братик?
– Скачет, как козленок. Ваших рук чудо. На улице жарко и пыльно, матушка, можно мне войти?
– Стара я тебе запрещать, – неприветливо отвечала она, и это значило: было время, когда ему было бы грешно войти в дом и оказаться наедине с чужой женщиной. За это наказывали. Но не теперь, теперь она была не женщина, а что-то еще.
Он вошел, словно темное сияющее масло влилось в пиалу, и сел на пол, принюхиваясь к запахам ее дома, вбирая взглядом пучки веток и перьев под потолком, застеленную постель, чистоту, расхаживающую по комнатам курицу. В темноте он чуть оробел и теперь смотрел на нее снизу вверх, как ребенок, ждущий лакомства, утешения или что догадка о его беде придет к ней естественно, как приходит к матери, чей младенец кривит личико, мучась газами, и мать помогает ему. Никому не мать, Оа отступила на шаг-другой и глядела бесстрастно, ждала, что будет дальше. Яркий свет в проеме двери затмился тяжестью: возник жирный загорбок Куна и его наморщенное лицо. Долгое мгновение Кун смотрел на них, потом туфли зашлепали прочь. Ча Хун испугался и пустился в бесконечную учтивую беседу, которыми услаждались в деревне, о здоровье всех и вся, от старосты до новорожденного младенца, потом перешел на коров и бобовые поля, на тыквы и пасеки – все в приличном порядке и таких выражениях, чтобы не навлечь зла. Оа отвечала вежливо, рассеянно, предусмотренными для этого словами и наблюдала за ним. Вскоре снова прошел Кун – обратно по другой стороне улицы, и они видели, как он издали всматривался внутрь. Ча Хун поднялся. Уже в дверях он без вступления спросил:
– А талисманы? Вы делаете, матушка, талисманы – не от болезни, а другие?
– Может, и делаю, – отозвалась из комнаты Оа. – Как я могу знать, если ты не сказал для чего.
– Да это не мне, – чересчур беззаботно ответил он, поворачиваясь, чтобы идти. – Можно я к вам еще загляну?
– Заходи, когда захочешь.
Когда он ушел, она проговаривала все ими сказанное с курицей, пока не нашла изъян. Перечисляя, как положено, близкую родню, он кое-кого не помянул. Кое-кого, на ком должен был остановиться с особым почтением.
– А ведь похоже, что это оно, – сказала Оа курице.
Они сидели на полу, Оа пряла козью шерсть, курица уютно устроилась рядом, распушив в пыли грудные перышки.
– Что ж он хочет: присуху или отраву? Или сперва одно, а потом и второе? – спросила Оа у курицы, глядевшей на нее круглым глупым глазом. – Поможем ему или пусть погорюет, да цел останется?
Ча Хун промолчал об Ан Ат, молодой жене старшего брата. Брата забрали в армию, как и мужа Оа, только шел он, наверное, не так охотно. Забрали в прошлом году, в начале сухой поры, когда Ан Ат, дитя и женщина, только переступила порог дома его матери. Семейство у Бо Ме было многочисленное, бойкое и крикливое. Девушку взяли из соседней деревни, отдав в уплату двух коз, несколько мешков зерна и чудной железный котелок, что принес из-за гор родственник, бродячий солдат-наемник. Солдаты возвращались иногда с перебитыми лодыжками, с выжженными глазами, с отгнившими пальцами, не мертвые, но и не годные ни к чему живому, просто не обессилевшие настолько, чтоб ползком не ползти домой. Девушка была тоненькая, все капризничала, перебирала палочками еду и молчала, а то улыбалась быстрой, скрытной, презрительной улыбочкой. Бо Ме ее не любила. В деревне говорили, что она по дому работает, а на людях чудит, притворяется белоручкой. Ходит – словно расплескать боится, или нарочно сядет и сидит сложа руки, а у самой все давно переделано. У нее были красивые волосы, и она подолгу их расчесывала, завивала, распускала по плечам. Пока мужа не забрали, она вплетала в них цветы, украшала булавками с бусинкой и лентами, которые привезла из дома, а теперь больше не носила.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































