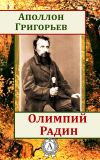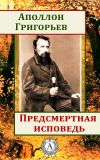Текст книги "Мои литературные и нравственные скитальчества"

Автор книги: Аполлон Григорьев
Жанр: Русская классика, Классика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 15 страниц)
Сент<ября> 30.
Итак, я решился ехать в Италию – сумел заставить скупую Терезу накупить груду книг по истории, политической экономии, древней литературе, убежденный, что в промежутках блуда и светских развлечений – князек все-таки нахватается со мною образования.
Я совершенно уже начал привязываться к ним. Достаточно было Терезе по душе, как с членом семейства, поговорить о болезни Софьи Юрьевны и о прочем, чтобы я помирился с нею душевно – уже не как с типом, а как с личностью – хотя твердо все-таки решился жить в городе Флоренске на своей квартире.[377]377
В начале 1858 г. Г. рассорился с княгиней Трубецкой, требовавшей от учителя соблюдения домашнего режима (возвращаться домой не позже 10 часов вечера), и переехал на частную квартиру, как он подробно писал Погодину 9 февраля (Материалы, с. 223; Егоров, с. 339). И. С. Тургенев в письме к В. П. Боткину от 3 – 13 (15–25) марта 1858 г. сообщал этот флорентийский адрес Г.: «Borgo SS. Apostoli, primo piano № 1169 – appartements meublés chez Santi Falossi» (Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем в 28-ми т. Письма, т. III. М. – Л., 1961, с. 203).
[Закрыть] А чем жить – об этом я не думал. Со всем моим безобразием я ведь всегда думал не о себе, а о своей семье, хоть, по безобразию же неисходному – часто оставлял семью ни с чем!.. Притом же я был тогда избалован тем, кого звал великим банкиром…[378]378
Так Г. называл бога, беспечно надеясь выпутаться с его помощью из любого затруднительного положения.
[Закрыть]
Ветреный неисправимо – я в кругу Трубецких совершенно и притом глупо распустился… Правда, что и поводов к этому было немало. Я в них поверил. В кружке Николая Ивановича – известные издания[379]379
Лондонские издания Герцена.
[Закрыть] привозились молодым князем О<рловым>[380]380
Имеется в виду Николай Алексеевич Орлов, сын известного николаевского вельможи, только что женившийся на дочери Н. И. Трубецкого княжне Екатерине Николаевне. См. о нем и о его женитьбе: Феоктистов Е. М. За кулисами политики и литературы 1848–1896. Л., 1929, с.,48–59.
[Закрыть] и читались во всеуслышание – разумеется, с вылущением строк, касавшихся князя О<рлова> папеньки. Князь Николай[381]381
Князь Николай… – Имеется в виду не Орлов, а его тесть Трубецкой, католик.
[Закрыть] пренаивно и пресерьезно проповедовал, que le catholicisme et la liberté[382]382
что католицизм и свобода (франц.).
[Закрыть] – одно и то же, а я пренаивно начинал думать, что хорошая душевная влага не портится даже в гнилом сосуде католицизма. В молодом кружке молодых Геркенов я читал свои философские мечтания и наивно собирался читать всей молодежи лекции во Флоренции…
На беду, на одном обеде, на который притащили меня больного, в Пале-Рояле, у Frères provençaux – я напился как сапожник – в аристократическом обществе… На беду ли, впрочем?
Я знал твердо – что Тереза этого не забудет… Тут она не показала даже виду – и другие все обратили в шутку – но я чувствовал, что – упал.
Отчасти это, отчасти и другое было причиною перемены моего решения.
30-го августа нашего стиля я проснулся после страшной оргии с демагогами из наших, с отвратительным чувством во рту, с отвратительным соседством на постели цинически бесстыдной жрицы Венеры Милосской… Я вспомнил, что это 30 августа, именины Остр<овского> – постоянная годовщина сходки людей, крепко связанных единством смутных верований, – годовщина попоек безобразных, но святых своим братским характером, духом любви, юмором, единством с жизнию народа, богослужением народу…
В Россию! раздалось у меня в ушах и в сердце!..
Вы поймете это – вы, звавший нас чадами кабаков и бл…й, но некогда любивший нас…
В Россию!.. А Трубецкие уж были на дороге к Турину и там должен я был найти их.
В мгновение ока я написал к ним письмо, что по домашним обстоятельствам и проч.
В Париже я, впрочем, проваландался еще недели две, пока добрый приятель[383]383
Я. П. Полонский (см.: Материалы, с. 340).
[Закрыть] не дал денег.
[Денег стало только до Берлина. В Берлине я написал Кушелеву о высылке мне денег и там пробыл три недели, в продолжение которых Берлин мне положительно огадился.]
Окт<ября> 6-го.
Я зачеркиваю не потому, чтобы что-либо хотел скрыть, а потому, что решаюсь развить более подробности.
Денег у меня было мало, так что со всевозможной экономией стало едва ли бы на то, чтобы доехать до отечества. С безобразием же едва стало и до Берлина. Моя надежда была на ящик с частию книг и гравюр, который, полагал я, в ученом городе Берлине можно заложить все-таки хоть за пятьдесят талеров какому-нибудь из книгопродавцев.
Вечера стояли холодные, и я, в моем коротеньком парижском пиджаке, сильно продрог, благополучно добравшись до города Берлина. Теплым я – как вы можете сами догадаться – ничем не запасся. Денег не оставалось буквально ни единого зильбергроша.
«Zum Rothen Adler, Kurstrasse!»[384]384
К отелю «Ротэр Адлер» <«Красный орел»>, на Курштрассе! (нем).
[Закрыть] – крикнул я геройски вознице экипажа, нарицаемого droschky и столь же мало имеющего что-либо общее с нашими дрожками, как эластическая подушка с дерюгой… Это я говорю, впрочем, теперь, когда господь наказал уже меня за излишний патриотизм. А тогда, еще издали – дело другое, тогда мне еще
Я помню, что раз, садясь с Боткиным[386]386
Судя по известным нам маршрутам В. П. Боткина (см.: Егоров В. Ф. В. П. Боткин – литератор и критик. Статья 1. – Учен. зап. Тартуского ун-та, 1963, вып. 139, с. 23), встреча могла состояться именно на возвратном пути Г. из Парижа в Россию: Боткин находился в Берлине по крайней мере с 19 по 22 сентября 1858 г. (нового стиля), а затем через Штеттин, морем, прибыл в Петербург; возможно, что Боткин и Г. вместе вернулись на родину.
[Закрыть] в покойные берлинские droschky, я пожалел об отсутствии в граде Берлине наших пролеток. Боткин пришел в ужас от такого патриотического сожаления; а я внутренно приписал этот ужас аффектированному западничеству, отнес к категории сделанного[387]387
Сделанное – так Г. называл вое искусственное, воспринятое по моде или по принуждению, в противоположность рожденному.
[Закрыть] в их души. Дали же знать мне себя первые пролетки, тащившие меня от милой таможни до Гончарной улицы,[388]388
В Петербурге.
[Закрыть] и вообще давали знать себя целую зиму как Немезида – петербургские пролетки, которые, по верному замечанию Островского, самим небом устроены так, что на них вдвоем можно ездить только с блудницами, обнямшисъ, – пролетки, так сказать, буколические.
Zum Rothen Adler! – велел я везти себя потому, что там мы с Бахметевым[389]389
…с Бахметевым… – Ни один из предшествующих публикаторов не раскрыл имени этого берлинского знакомого Г. Между тем, благодаря новейшим исследованиям, можно с уверенностью сказать, что речь идет о Павле Александровиче, известном радикале, прототипе образа Рахметова из романа Чернышевского «Что делать?». См. о нем: Рейсер С. А. «Особенный человек» П. А. Бахметев. – Русская литература, 1963, № 1, с. 173–177; Эйдельман П. Я. Павел Александрович Бахметев. (Одна из загадок русского революционного движения). – В кн.: Революционная ситуация в России в 1859–1861 гг. М., 1965, с. 387–398. Встреча Г. с Бахметевым в Берлине могла состояться в третьей декаде июля 1857 г.: Г. выехал 13 июля из Петербурга в Италию по маршруту Кронштадт – Штеттин – Берлин – Прага-Венеция – Ливорно; поездка продолжалась две недели, как сообщал Г. в письме к М. П. Погодину от 10 августа 1857 г. (Материалы, с. 165). Бахметев же ехал в Лондон к Герцену.
[Закрыть] останавливались en grands seigneurs[390]390
важными господами (франц.).
[Закрыть] – вследствие чего, т. е. вследствие нашего грансеньорства, и взыскали с нас за какой-то чайник из польского серебра, за так называемую Thee-maschine, который мы, заговорившись по русской беспечности, допустили растопиться – двадцать пять талеров. Там можно было, значит, без особых неприятностей велеть расплатиться с извозчиком.
Так и вышло. «Rother Adler», несмотря на мой легкий костюм, принял меня с большим почетом, узнавши сразу одну из русских ворон.
Через пять минут я сидел в чистой, теплой, уютной комнате. Передо мной была Thee-maschine (должно быть, та же, только в исправленном издании) – а через десять минут я затягивался с наслаждением, азартом, неистовством русской спиглазовской крепкой папироской. Враг всякого комфорта, я только и понимаю комфорт в чаю и в табаке (т. е., если слушать во всем глубоко чтимого мною отца Парфения, – в самом-то диавольском наваждении[391]391
Речь идет о книге: Парфений. Сказание о странствии и путешествии по России, Молдавии, Турции и Святой земле, ч. 1–4. М., 1856, где содержится нравоучение отца Серафима Саровского: «… винное питие и табак употреблять отнюдь никому не позволяй; даже, сколько возможно, удерживай и от чаю» (ч. 1, с. 193). Книга была очень популярна в кругу Г. Ср.: Белов С. В. Об одной книге из библиотеки Ф. М. Достоевского. – «Альманах библиофила», вып. 2. М., 1975, с. 183–187.
[Закрыть]).
Никогда не был я так похож на тургеневского Рудина (в эпилоге), как тут. Разбитый, без средств, без цели, без завтра. Одно только – что в душе у меня была глубокая вера в Промысл, в то, что есть еще много впереди. А чего?… Этого я и сам не знал. По-настоящему, ничего не было. На родину ведь я являлся бесполезным человеком – с развитым чувством изящного, с оригинальным, но несколько капризно-оригинальным взглядом на искусство, – с общественными идеалами прежними, т. е. хоть и более выясненными, но рановременными и, во всяком случае, несвоевременными, – с глубоким православным чувством и с страшным скептицизмом в нравственных понятиях, с распущенностью и с неутомимою жаждою жизни!..
Окт<ября> 7.
Писать эту исповедь сделалось для меня какою-то горькою отрадою.
Продолжаю.
В ученом городе Берлине либеральный книгопродавец Шнейдер дал мне – ни дать, ни взять, как бы сделал какой-нибудь Матюшин на Щукином дворе[392]392
Щукин двор – дешевый рынок в Петербурге, находился недалеко от Сенного рынка.
[Закрыть] – только двадцать талеров под вещи, стоящие вчетверо более.
С двадцатью талерами недалеко уедешь, а ведь кое-как надо было прожить от вторника до субботы,[393]393
О некоторых подробностях берлинской жизни Г. в 1858 г. см. его печатные статьи: «Беседы с Иваном Ивановичем о современной нашей словесности и о многих других вызывающих на размышление предметах» (Воспоминания, с. 308–312) и «Стихотворения Н. Некрасова» (Лит. критика, с. 475–477).
[Закрыть] т. е. до дня отправления Черного[394]394
По сведениям «СПб. ведомостей», 7 октября 1858 г. (вторник) в Кронштадт из Штеттина прибыл почтовый пароход «Прусский орел», шедший 4 суток; среди приехавших – коллежский асессор Григорьев (№ 221, 10 окт., с. 1288; № 223, 12 окт., с. 1301); вероятно, это и есть А. А.; тогда «суббота», день отправления из Штеттина, – 4 октября ст. стиля.
[Закрыть] <…>
Краткий послужной список на память моим старым и новым друзьям[395]395
Впервые в сокращении: Эпоха, 1864, № 9, с. 45–47, в статье: Страхов II. Н. Воспоминания об Аполлоне Александровиче Григорьеве. Впервые относительно полно: Материалы, с. 305–308, но с искажениями и пропусками. Первая научная публикация: Воспоминания, с. 375–383.
Г. писал этот текст в тюрьме (долговом отделении), в отчаянном моральном и материальном состоянии, чем и объясняется резкость и грубость тона.
[Закрыть]
В 1844 году я приехал в Петербург, весь под веяниями той эпохи, и начал печатать напряженнейшие стихотворения, которые, однако, очень интересовали Белинского, чем ерундистее были.
В 1845 году они изданы книжкою. Отзыв Белинского.[396]396
Отзыв Белинского. – Критик опубликовал в 1846 г. рецензию на «Стихотворения» Г., вместе со «Стихотворениями 1845 года» Я. П. Полонского (Белинский, IX, 590–600). В целом отзыв критика был суровым (осуждались мистические ноты масонских «Гимнов» и романтическая подражательность), но Белинский положительно оценил стихотворения с социально-политическими мотивами.
[Закрыть]
В 1846 г. я редактировал «Пантеон» и – со всем увлечением и азартом городил в стихах и повестях ерундищу непроходимую. Но за то свою – не кружка.
В 1847 году поэтому за первый свой честный труд, за «Антигону», я был обруган Белинским[397]397
В обзоре «Взгляд на русскую литературу 1846 года» критик отрицательно отозвался о переводе Г. «Антигоны» Софокла, осудил спешку, «рубленую, неправильную прозу» вместо стихов (Белинский, X, 37–38).
[Закрыть] хуже всякого школьника.
Я уехал в Москву – и там нес азарт в «Городском листке» – но опять-таки свой азарт – и был руган.
Вышла странная книга Гоголя,[398]398
Г. был одним из немногих критиков, положительно оценивших «Выбранные места из переписки с друзьями» – в цикле статей «Гоголь и его последняя книга» (Моск. городской листок, 1847, № 56, с. 225–226; № 62, с. 249–250; № 63, с. 254; № 64, с. 255). Г. импонировало сосредоточенное внимание Гоголя к нравственной сущности человека, борьба писателя за целостную, волевую, благородную личность; впоследствии, через 5–6 лет, Г. увидит в Гоголе-моралисте и другие стороны, очень ему антипатичные, и тогда и общее отношение его к писателю сильно изменится.
[Закрыть] и рука у меня не поднялась на странную книгу, проповедовавшую, что «с словом надо обращаться честно».
Вышла моя статья в «Листке», и я был оплеван буквально [подлецом] именем подлеца, Герценом и его кружком.
В 1848 и 1849 году я предпочел заниматься, пока можно было, в поте лица – работой переводов в «Московских ведомостях».[399]399
В 1848 и 1849 году… в «Московских ведомостях». – Если только Г. не спутал, то эта деятельность остается загадочной: нет ни одного документа, подтверждающего какое-либо участие Г. в газете «Моск. ведомости».
[Закрыть]
В 1850 году – послал, не надеясь, что она будет принята, – статью о Фете.[400]400
Г. пропустил название журнала – «Отечественные записки».
[Закрыть] Приняли. Я стал писать туда летопись московского театра. Не надолго. Не переварилась.
Явился Островский и около него как центра – кружок, в котором нашлись все мои, дотоле смутные верования. С 1851 по 1854 включительно – энергия деятельности[401]401
В «Москвитянине» 1850–1855 гг. Г. опубликовал около ста критических статей и рецензий, стихотворения, переводы.
[Закрыть] – и ругань на меня неимоверная, до пены у рту. В эту же эпоху писались известные стихотворения,[402]402
Прежде всего, программное стихотворение Г. «Искусство и правда» (1854), а также некоторые стихотворения из цикла «Борьба».
[Закрыть] во вся ком случае, замечательные искренностью чувства.
«Москвитянин» падал от адской скупости редактора.[403]403
Речь идет о М. П. Погодине.
[Закрыть] «Современник» начал заискивать [меня] Островского – и как привесок – меня, думая, что поладим. Факты. Наехали в Москву Дружинин и Панаев. Боткин (дотоле враг, оттоле приятель) свел меня с ними.
С 1853 по 1856, разумеется урывками, переводился «Сон».[404]404
«Сон» – комедия Шекспира «Сон в летнюю ночь»; перевод опубликован А. В. Дружининым в журнале «Библиотека для чтения» (1857, № 8).
[Закрыть] Летом 1856 года я запродал его Дружинину за 450 р.
Летом же написана одна из серьезнейших статей моих – «Об искренности в искусстве», в «Беседе».[405]405
«Беседа» – журнал «Русская беседа».
[Закрыть] Молчание.
Вдруг совсем неожиданно я явился в «Современнике» с прозвищем «проницательнейшего из наших критиков».
В 1857 году выдался случай ехать за границу. Там я ничего не писал, а только думал. Результатом думы были статьи «Русского слова» в 1859.
Возврат вообще был блистательный. Сейчас же готовились выдать патент на звание обер-критика. Некрасов купил у меня разом 1) «Venezia la bella», 2) «Паризину» Байрона и 3) «Сон» в его будущее издание Шекспира.
В мое отсутствие вышли только – 1) мои стихотворения лучшей, москвитянинской эпохи жизни[406]406
Цикл «Борьба» (Сын отечества, 1857, № 44–49).
[Закрыть] – у Старчевского в «Сыне», 2) статьи о критике в «Библиотеке»[407]407
Письмо к А. В. Дружинину по поводу комедии Шекспира „Сон в летнюю ночь" и ее перевода» (Библиотека для чтения, 1857, № 8) и «Критический взгляд на основы, значение и приемы современной критики искусства» (там же, 1858, № 1).
[Закрыть] (mention honorable[408]408
почетная награда (франц.)
[Закрыть] с готовым патентом на обер-критика) и «Сон».
При статьях «Русского слова»[409]409
Наиболее известны «Взгляд на русскую литературу со смерти Пушкина» (Рус. слово, 1859, № 2, 3) и «И. С. Тургенев и его деятельность. По поводу романа „Дворянское гнездо"» (там же, 1859, JV» 4, 5, 6, 8).
[Закрыть] – вот как: цензор Гончаров сам занес мне первую,[410]410
Самая первая статья Г. в «Рус. слове» – «Взгляд на историю России, соч. С. Соловьева» (1859, № 1).
[Закрыть] с адмирациями.[411]411
Адмирация – восхищение (от франц. admiration).
[Закрыть] При последующих – град насмешек Добролюбова,[412]412
Г. явно преувеличивает: Добролюбов напечатал в «Свистке» небольшую заметку по поводу метафорического употребления Г. слова «допотопный»: «О допотопном значении Лажечникова (Исследования г. Ап. Григорьева)» (1859); другие упоминания Добролюбовым имени Г. и его произведений весьма кратки и мимолетны.
[Закрыть] взрыв ослиного хохота в «Искре»[413]413
В этом журнале в течение 1859–1864 гг. Г. непрерывно подвергался насмешкам, чуть ли не в каждом месяце (за элементы славянофильского мировоззрения, за «почвенничество», за сложный стиль).
[Закрыть] и проч.
Немало меня удивили потом братья Достоевские, Страхов, Аверкиев мнением о них – и особенно Ильин,[414]414
Ильин – Р. В. Иванов-Разумник так комментировал это имя: «Согласно примечанию Н. Страхова в 1864 г. (к первой публикации, – Б. Е.) – „один из наших общих друзей, еще совершенно неизвестный ни на каком поприще". Не мог ли, однако, это быть Н. Д. Маслов, один из сотрудников „Времени", писавший сатирические произведения под псевдонимом Ильин?» (Воспоминания, с. 379). Но сотрудник «Времени» (случайный, опубликовавший всего одну статью) – Дмитрий Маслов, в то время как под псевдонимом «Ильин» совсем в других журналах и в 1880-х гг. выступал Николай Дмитриевич Маслов. Так что, вероятно, был прав Страхов.
[Закрыть] катающий из них наизусть целые тирады.
А мысли-то мои прежние, москвитянинские – вообще все как-то получили право гражданства.
В июле 1859 в отъезд графа Кушелева – я не позволил г. Хмельницкому вымарать в моих статьях дорогие мне имена Хомякова, Киреевских, Аксаковых, Погодина, Шевырева. Я был уволен от критики. Факт.
Негде было писать – стал писать в «Русском мире».[415]415
Здесь была опубликована статья Г. «После „Грозы" Островского» (1860, № 5, 6, 9, И).
[Закрыть] Не сошлись. У Старчевского[416]416
Повторное (после 1857 г.) участие в «Сыне отечества»: статья «Беседы с Иваном Ивановичем о современной нашей словесности…» (1860, № 6, 7).
[Закрыть] не сошлись.
В 1860 году – я получил приглашение и вызов.[417]417
в «Рус. вестник» М. Н. Каткова, издававшийся в Москве.
[Закрыть] Я поехал на свидание и привез ответ на дикий вздор Дудышкина[418]418
В автографе у Г. описка: «Дружинина»; речь идет о статье Дудышкина из «Отеч. записок» (1860, № 4), где Пушкин трактовался как чуждый народу и народности поэт.
[Закрыть] «Пушкин – народный поэт». Читал Каткову – очень нравилось. Отправился в Москву через месяц в качестве критика. Статей моих не печатали,[419]419
Лишь недавно была обнаружена и опубликована единственная дошедшая до нашего времени рукопись статьи Г. для «Рус. вестника» (см.: Егоров Б. Ф. Новые материалы об Ап. Григорьеве. – Учен. зап. Тартуского ун-та, 1975, вып. 369, с. 146–157).
[Закрыть] а заставляли меня делать какие-то недоступные для меня выписки о воскресных школах и читать рукописи, не печатая, впрочем, ни одной из мною одобренных (между прочим, «Ярмарочных сцен» Левитова)[420]420
Отвергнутые Катковым очерки Левитова были по рекомендации Г. напечатаны во «Времени» (1861, № 6).
[Закрыть] и печатая… евины Раисы Гарднер[421]421
В «Рус. вестнике» была опубликована слабая ее повесть «Пустушково» (1860, июнь, кн. 2; подписана еще девичьей фамилией – Р. Коренева). Р. Коренева-Гарднер – драматическая юношеская любовь Д. И. Писарева.
[Закрыть] – обруганные мною по-матерну. Зачем меня приняли? Бог единый ведает… За тем должно быть, чтобы после заявлять, что я стащил у них со стола гривенник.[422]422
Г. действительно растратил без возврата деньги, данные ему Катковым для оплаты трудов петербургских сотрудников журнала. Катков проявил странное легковерие, выдав Г. авансовые деньги, но зато потом он представил Г. чуть ли не аферистом.
[Закрыть] Факты.
Опять в Петербург. Начало «Времени»… Хорошее время и время недурных моих статей. Но с четвертой покойнику М. М. <Достоевскому> – стало как-то жутко частое употребление имен (ныне беспрестанно повторяемых у нас) Хом<якова> и проч.
Вижу, что и тут дело плохо. В Оренбург.
Воротился. Опять статьи во «Времени»… Дурак Плещеев – писал, между прочим, Михаилу Михайловичу[423]423
Михаилу Михайловичу – Достоевскому.
[Закрыть] по поводу статей о Толстом,[424]424
Статья Г. в двух частях «Граф Л. Толстой и его сочинения» (Время, 1862, № 1, 9).
[Закрыть] что «в статьях Григорьева найдешь всегда много поучительного». Еще бы – для него-то, бабьей сопли! Получше люди находили – да еще тирады, как Ильин, наизусть катали!
Недурное тоже время! Ярые статьи о театре[425]425
Г. во «Времени» 1861–1863 гг. постоянно помещал театральные рецензии, однако наиболее подробно о пьесах Островского и их театральных постановках Г. будет писать в своем журнале «Якорь» (1863).
[Закрыть] – культ Островскому и смелые упреки Гоголю за многое[426]426
Г. преувеличивает свои упреки; изменение отношения к Гоголю произошло у критика еще в 1853–1856 гг., когда он стал видеть в творчестве писателя тягу к максималистскому, аскетическому христианскому идеалу, оторванному or действительности, от парода; но в период «Времени» сила упреков уже ослабела, Г. был больше занят современными литературными проблемами.
[Закрыть] – бесцензурно и беспошлинно.
Нецеремонно перенес три больших места из старых статей в новые, не находя нужным этих мест переделывать. Опять <обвинен> «в похищении гривенника» возрадовавшимися этому нашими врагами,[427]427
Упреки Г. по поводу частых переносов текста (их значительно больше трех!) из старых статей в новые раздавались в 1862–1864 гг. чуть ли не во всех русских журналах, но особенно часто издевалась по этому поводу «Искра» (см., например, в обзоре И. Р<оссинского?> «Искорки»: «Когда Ап. Григорьев переписывает своп статьи допотопной формации, он похож на продавца затхлой дичи; когда же он печатает новое произведение, то угощает читателей свежей дичью» – Искра, 1863, № 38, с. 537).
[Закрыть] и обвинен в неизвинительной распущенности друзьями, забывшими – что целый год зеленого «Наблюдателя» – статьями целиком, как о Полежаеве, переносил в «Записки» Белинский.[428]428
Г. неправ; он не учитывает, что его романтический принцип «вечной правды», позволявший ему свободно переносить многостраничные разделы из одной статьи в другую, отстоящую от первой на десяток лет, совершенно не применим к Белинскому, стремительное изменение мировоззрения которого решительно не допускало делать подобные переносы из «примирительного» периода «Московского наблюдателя» (1838–1839) в последующие статьи «Отечественных записок», за исключением отдельных примеров. Самостоятельны, не похожп одна на другую и обе рецензии Белинского на стихотворения Полежаева, из «Московского наблюдателя» (1839) и из «Отечественных записок» (1842), ср.: Белинский, III, 24–33 и VI, 119–160. Не спутал ли Г. эти тексты с реальным переносом, совершенным уже после смерти критика, с перепечаткой второй рецензии Белинского в качестве вступительной статьи к стихотворениям Полежаева 1857 г.
[Закрыть]
Запрет «Времени».[429]429
О цензурных гонениях на журналы Достоевских, о запрещении «Времени» см.: Нечаева В. С. 1) Журнал М. М. и Ф. М. Достоевских «Время». 1861–1863. М., 1972; 2) Журнал М. М. и Ф. М. Достоевских «Эпоха». 1864–1865. М., 1975.
[Закрыть] Горячие статьи в «Якоре».
Опять «Эпоха». Опять я с теми же культами – теми же достоинствами и недостатками. Цензура!
Ну – и что ж делать?… Видно, и с «Эпохой», как критику, а не как другу конечно и не как писателю – приходится расставаться… Тем более… но пора кончить.
1864 года. Сентября 2.
Писано сие конечно не для возбуждения жалости к моей особе ненужного человека, а для показания, что особа сия всегда, – как в те дни, когда верные 50 рублей Краевского за лист меняла на неверные 15 рублей за лист «Москвитянина», – пребывала фанатически преданною своим самодурным убеждениям.
А. А. Фет. Ранние годы моей жизни
<Отрывки>[430]430
Впервые части воспоминаний, содержащие почти все разделы о Г., публиковались: 1) под заглавием «Из моих школьных воспоминаний. Пребывание в пансионе М. П. Погодина» – Рус. школа, 1891, № 3, с. 30–52; 2) под заглавием «Ранние годы моей жизни» – Рус. обозрение, 1893, № 1, с. 5 – 25; № 2, с. 461–482; № 3, с. 5 – 24; № 4, с. 533–552. Полностью мемуары о детстве и юности опубликованы: Фет А. А. Ранние годы моей жизни. М., 1893. Отрывки, касающиеся Г., были затем напечатаны с ошибками и искажениями: Воспоминания, с. 387–414. Другой сокращенный вариант воспоминаний Фета опубликован в качестве приложения к книге: Фет А. А. Стихотворения. Проза. Воронеж, 1978 (с. 398–433 – разделы о Г.). В наст. изд. отрывки публикуются в более расширенном виде по тексту отд. изд. 1893 г., с. 131–132, 140, 146–157, 160, 170–172, 192–193, 195, 196–198, 204–205, 209–210, 215–216, 218–219, 223, 225–227.
Отдельные заметки о Г. встречаются также в кн.: Фет А. Мои воспоминания, ч. I – П. М., 1890.
«Ранние годы моей жизни» являются единственным художественно-документальным произведением о студенческих годах Г., тем более ценным, что Фет прожил в доме Г. почти весь студенческий период, с начала 1839 г. до 1842 г., ж все последующие московские годы жизни Г., вплоть до побега последнего в Петербург в конце февраля 1844 г. (Фет в это время все еще был студентом; он повторно оставался на втором и третьем курсах, поэтому окончил университет не вместе с Г., а двумя годами позже, летом 1844 г.).
[Закрыть]
До самого экзамена я продолжал брать уроки истории по тетрадкам Беляева «хромбеса»,[431]431
«Хромбес» – прозвище И. Д. Беляева (он был хром).
[Закрыть] который постоянно говорил мне о приготовляемом им в университет изумительном ученике Аполлоне Григорьеве. «Какая память, какое прилежание! – говорил он, – не могу нахвалиться. Если, бог даст, поступите оба в университет, сведу вас непременно)). <…>
Познакомившись в университете, по совету Ив. Дм. Беляева, с одутловатым, сероглазым и светло-русым Григорьевым, я однажды решился поехать к нему в дом, прося его представить меня своим родителям.
Дом Григорьевых с постоянно запертыми воротами и калиткою на задвижке находился за Москвой рекой, на Малой Полянке, в нескольких десятках саженей от церкви Спаса в Наливках. Приняв меня как нельзя более радушно, отец и мать Григорьева просили бывать у них по воскресеньям. А так как я в это время ездил к ним на парном извозчике, то уже в следующее воскресенье старики буквально доверили мне свозить их Полонушку в цирк. До той поры они его ни с кем и ни под каким предлогом не отпускали из дому.[432]432
Ср. в воспоминаниях Я. П. Полонского: «Родители его охотно отпускали его в театр, куда он ездил в сопровождении Фета, но не к товарищам. Старушка мать его держала его как бы на привязи; он никуда не выезжал без ее соизволения. У меня бывал он редко и оставался у меня обыкновенно только до 9 часов вечера; на дворе или за воротами постоянно ожидали его кошевни, и никогда я не мог уговорить его остаться у меня дольше. «Нельзя», – говорил он, спешил проститься и уезжал» {Полонский, 660–661).
[Закрыть] Оказалось, что Аполлон Григорьев, невзирая на примерное рвение к наукам, успел, подобно мне, заразиться страстью к стихотворству, и мы в каждое свидание передавали друг другу вновь написанное стихотворение.[433]433
Ср. у Полонского: «Григорьев глубоко верил в поэтический талант своего приятеля, завидовал ему и приходил в восторг от лирических его стихотворений» (Полонский, 661). Фет, которому в этом вопросе следует больше верить, ниже будет отрицать зависть Г.
[Закрыть]
Свои я записывал в отдельную желтую тетрадку, и их набралось уже до трех десятков. Вероятно, заметив наше взаимное влечение, Григорьевы стали поговаривать, как бы было хорошо, если бы, отойдя к Новому году от Погодина,[434]434
Фет с 1837 г. жил в пансионе М. П. Погодина, сперва готовясь к поступлению в университет, а затем поступив в 1838 г. на философский факультет, на словесное отделение (тогда еще не было особого филологического факультета); в начале 1839 г. в Москву приехал отец Фета, помещик Орловской губ. Афанасий Неофитович Шеншин, который и перевез сына к Григорьевым.
[Закрыть] я упросил отца поместить меня в их дом вместе с Аполлоном, причем они согласились бы на самое умеренное вознаграждение.
У Григорьевых взаимное впечатление отцов наших оказалось самым благоприятным. Старик Григорьев сумел придать себе степенный и значительный тон, упоминая имена своих значительных товарищей по дворянскому пансиону. Что же касается до моего отца, то напускать на себя серьезность и сдержанность ему никакой надобности не предстояло.
Мать Григорьева, Татьяна Андреевна, скелетоподобная старушка, поневоле показалась отцу солидною и сдержанной, так как при незнакомых она воздерживалась от всякого рода суждений. Мой товарищ Аполлон не мог в то время кому бы то ни было не понравиться. Это был образец скромности и сдержанности. Конечно, родители не преминули блеснуть его действительно прекрасной игрой на рояли.[435]435
Ср. у Полонского: «Он любил музыку, но дурно играл на рояле» (Полонский, 660).
[Закрыть]
Пока мы с Аполлоном ходили осматривать антресоли, где нам предстояло поместиться, родители переговорили об условиях моего помещения на полном со стороны Григорьевых содержании. Ввиду зимних и продолжительных летних вакаций, годовая плата была установлена в 300 рублей.
На другой день утром Илья Афанасьевич[436]436
Илья Афанасьевич – камердинер А. Н. Шеншина.
[Закрыть] перевез немногочисленное мое имущество из погодинского флигеля к Григорьевым, а я, проводивши отца до зимней повозки, отправился к Григорьевым на новоселье.
Дом Григорьева, с парадным крыльцом со двора, состоял из каменного подвального этажа, занимаемого кухней, служившею в то время и помещением для людей, и опиравшегося на нем деревянного этажа, представлявшего, как большинство русских домов, венок комнат, расположенных вокруг печей. С одной стороны дома, обращенной окнами к подъезду, была передняя, зала, угольная гостиная с окнами на улицу и далее по другую сторону дома столовая, затем коридор, идущий обратно по направлению к главному входу. По этому коридору были хозяйская спальня и девичья. Если к этому прибавить еще комнату налево из передней, выходящую окнами в небольшой сад, то перечислены будут все помещения, за исключением антресолей. Антресоли, куда вела узкая лестница с двумя заворотами, представляли два совершенно симметрических отделения, разделенные перегородкой. В каждом отделении было еще по поперечной перегородке, в качестве небольших спален. Впоследствии я узнал, что в правом отделении, занятом мною, долго проживал дядька француз, тогда как молодой Аполлон Александрович жил в отделении налево, которое занимал и в настоящее время. Француз кончил свою карьеру у Григорьевых, по рассказам Александра Ивановича, тем, что за год до поступления Аполлона в университет напился на Святой до того, что, не различая лестницы, слетел вниз по всем ступенькам. Рассказывая об этом, Александр Иванович прибавлял: «Снисшел еси в преисподняя земли».
Для меня следом многолетнего пребывания француза являлось превосходное знание Аполлоном французского языка, с одной стороны, и с другой – бессмысленное повторение пьяным поваром Игнатом французских слов, которых он наслышался, прислуживая гувернеру.
– Коман ву порте ву? Вуй, мосье. Пран дю те.[437]437
Искаженные французские фразы: «Как вы себя чувствуете? Да, месье. Пей чай».
[Закрыть]
Ал. Ив. Григорьев и родной брат его Николай Иванович родились в семье владимирского помещика; но поступя на службу, отказались от небольшого имения в пользу преклонной матери и двух, если не трех, сестер, старых девиц. Николай Иванович служил в каком-то пехотном полку, а Александра Ивановича я застал секретарем в московском магистрате. Жалованье его, конечно, по тогдашнему времени было ничтожное, а размеров его дохода я даже и приблизительно определить не берусь. Дело в том, что жили Григорьевы если не изящно, зато в изобилии, благодаря занимаемой им должности.
Лучшая провизия к рыбному и мясному столу появлялась из охотного ряда даром. Полагаю, что корм пары лошадей и прекрасной молочной коровы, которых держали Григорьевы, им тоже ничего не стоил.
По затруднительности тогдашних путей сообщения, Григорьевы могли снабжать мать и сестер только вещами, не подвергающимися порче, но зато последними к праздникам не скупились. К Святой или по просухе чрез знакомых подрядчиков высылался матери годовой запас чаю, кофею и красного товару.[438]438
Красный товар – мануфактура.
[Закрыть]
В шестилетнее пребывание мое в доме Григорьевых я успел лично познакомиться с гостившими у них матерью и сестрами.
Но о холостой жизни Александра Ивановича и женитьбе его на Татьяне Андреевне я мог составить только отрывочные понятия из слов дебелой жены повара, Лукерьи, приходившей в отсутствие Григорьевых, отца и сына, наверх убирать комнаты и ненавидевшей свою госпожу до крайности. От Лукерьи я слыхал, что служивший первоначально в сенате Александр Иванович увлекся дочерью кучера и, вследствие препятствия со стороны своих родителей к браку, предался сильному пьянству. Вследствие этого он потерял место в сенате и, прижив с возлюбленною сына Аполлона, был поставлен в необходимость обвенчаться с предметом своей страсти. Когда я зазнал Алекс. Ив., он не брал в рот капли горячительных напитков. Так как, верный привычке не посещать лекций, я оставался дома, то, проходя за чем-либо внизу, не раз слыхивал, как Татьяна Андреевна громким шепотом читала старинные романы, вроде «Постоялый двор»,[439]439
«Постоялый двор» – «старинный роман» с таким заглавием не удалось обнаружить; повесть же А. П. Степанова (1835) вряд ли была бы названа Фетом старинной.
[Закрыть] и, слыша шипящие звуки: «по-слее-воос-хоож-деее-ни-яяя солн-цааа», я убедился, что грамота нашей барыне не далась и что о чтении писанного у нее не могло быть и речи. Тем не менее голос ее был в доме решающим, едва ли во многих отношениях не с большим правом, чем голос самого старика. Осуждать всегда легко, но видеть и понимать далеко не легко. А так как дом Григорьевых был истинною колыбелью моего умственного я, то позволю себе остановиться на некоторых подробностях в надежде, что они и мне, и читателю помогут разъяснить полное мое перерождение из бессознательного в более сознательное существо. Добродушный и шутливый по природе, Александр Иванович был человек совершенно беспечный. Это основное качество он передал и сыну. Я нередко присутствовал при незначительных наставлениях матери сыну, но никогда не слыхал, чтобы она наставляла своего мужа. Тем не менее чувствовалось в воздухе, что тот заматерелый догматизм, под которым жил весь дом, исходил от Татьяны Андреевны, а не от Александра Ивановича, который по рефлексии догматически и беззаветно подчинялся своей жене.
Утром в 7 1/2 часов летом и зимой, когда я еще валялся на кровати, Аполлон, или, как родители его называли, Полошенька, вскакивая с кровати, одевался и бежал в залу к рояли, чтобы звуками какой-либо сонаты будить родителей. В 8 часов отец, до половины одетый, но в теплой фуфайке и ермолке на обнаженной голове, выходил вместе с женой, одетою в капот и неизменный чепчик с оборкою, в столовую к готовому самовару.
Там небольшая семья пила чай, присылая мне мою кружку наверх. Затем Александр Иванович, наполнив свежестертым табаком круглую табакерку, шел в спальню переменить ермолку на рыжеватый, деревянным маслом подправленный парик и, надев форменный фрак, поджидал Аполлона, который в свою очередь в студенческом сюртуке и фуражке бежал пешком за отцом через оба каменных моста и Александровский сад до Манежа, где Аполлон сворачивал в университет, а отец продолжал путь до присутственных мест. К двум часам обыкновенно кучер Василий выезжал за Аполлоном, а старик большею частию возвращался домой пешком. В три часа мы все четверо сходились внизу в столовой за сытным обедом. После обеда старики отправлялись вздремнуть, а мы наверх – предаваться своим обычным занятиям, состоявшим главным образом для Аполлона или в зубрении лекций или в чтении, а для меня отчасти тоже в чтении, прерываемом постоянно возникающим побуждением помешать Аполлону и увлечь его из автоматической жизни памяти хотя бы в самую нелепую жизнь всякого рода причуд. В 8 часов мы снова нередко сходили чай пить и затем уже возвращались в свои антресоли до следующего утра. Так, за исключением праздничных дней, в которые Аполлон шел с отцом к обедне к Спасу в Наливках, проходили дни за днями без малейших изменений.
Казалось, трудно было бы так близко свести на долгие годы две таких противоположных личности, как моя и Григорьева. Между тем нас соединяло самое живое чувство общего бытия и врожденных интересов. Я знал и чувствовал, до какой степени Григорьев, среди стеснительной догматики домашней жизни, дорожил каждой свободною минутой для занятий, а между тем я всеми силами старался мешать ему, прибегая иногда к пытке, выстраданной еще в Верро[440]440
Верро – ныне г. Выру, Эстонской ССР. Фет учился там в немецком пансионе Крюммера в 1834–1837 гг.
[Закрыть] и состоящей в том, чтобы, поймав с обеих сторон кисти рук своей жертвы и подсунув в них снизу под ладони большие пальцы, вдруг вывернуть обе свои кисти, не выпуская рук противника, из середины ладонями кверху; при этом не ожидавший такого мучительного и беспомощного положения рук противник лишается всякой возможности защиты. При таких отношениях надо было бы ожидать между нами враждебных чувств, но в сущности было наоборот. Я от души любил свою жертву, а Аполлон своего мучителя, и если слово воспитание не пустой звук, то наше сожительство лучше всего можно сравнить с точением одного ножа о другой, хотя со временем лезвия их получают совершенно различное значение.
Связующим нас интересом оказалась поэзия, которой мы старались упиться всюду, где она нам представлялась, принимая иногда первую лужу за Ипокрену.
Начать с того, что Александр Иванович сам склонен был к стихотворству и написал комедию, из которой отрывки нередко декламировал с жестами; но Аполлон, видимо, стыдился грубого и безграмотного произведения отцовской музы. Зато сам он с величайшим одушевлением декламировал свою драму в стихах под названием «Вадим Новгородский».[441]441
«Вадим Новгородский». – Эта драма Г. не сохранилась. В связи с тем, что Полонский в воспоминаниях говорит о своей стихотворной драме «Вадим Новгородский, сын Марфы Посадницы» (Полонский, 643), то Р. Иванов-Разумник предположил, что Фет, по всей вероятности, ошибся (Воспоминания, с. 593); но, учитывая исключительную память на стихи у Фета и, наоборот, очень плохую у Полонского, следует отдать предпочтение воспоминаниям Фета; возможно, впрочем, что Полонский писал аналогичную драму.
[Закрыть] Помню, как, надев шлафрок на опашку, вроде простонародного кафтана, он, войдя в дверь нашего кабинета, бросался на пол, восклицая:
О земля моя родимая,
Край отчизны, снова вижу вас!..
Уж три года протекли с тех пор,
Как расстался я с отечеством.
И те три года за целый век
Показались мне, несчастному.
Конечно, в то время я еще не был в силах видеть все неуклюжее пустозвонство этих мертворожденных фраз; но что это не ладно, я тотчас почувствовал и старался внушить это и Григорьеву. Так родилась эпиграмма:
Григорьев, музами водим,
Налил чернил на сор бумажный
И вопиет с осанкой важной:
Вострепещите! – мой Вадим.
Писал Аполлон и лирические стихотворения, выражавшие отчаяние юноши по случаю отсутствия в нем поэтического таланта.
«Я не поэт, о, боже мой!»[442]442
Стихотворение Г. не сохранилось.
[Закрыть] – восклицал он:
Зачем же злобно так смеялись,
Так ядовито надсмехались
Судьба и люди надо мной?
По этим стихам надо было бы ожидать в Аполлоне зависти к моим стихотворным попыткам. Но у меня никогда не было такого ревностного поклонника и собирателя моих стихотворных набросков, как Аполлон. Вскорости после моего помещения у них в доме моя желтая тетрадка заменена была тетрадью, тщательно переписанною рукой Аполлона.
Бывали случаи, когда мое вдохновение воплощало переживаемую нами сообща тоскливую пустоту жизни. Сидя за одним столом в течение долгих зимних вечеров, мы научились понимать друг друга на полуслове, причем отрывочные слова, лишенные всякого значения для постороннего, приносили нам с собою целую картину и связанное с ними знакомое ощущение.
– Помилуй, братец, – восклицал Аполлон, – чего стоит эта печка, этот стол с нагоревшей свечою, эти замерзлые окна! Ведь это от тоски пропасть надо!
И вот появилось мое стихотворение
Не ворчи, мой кот мурлыка…
долго приводившее Григорьева в восторг. Чуток он был на это, как эолова арфа.
Помню, в какое восхищение приводило его маленькое стихотворение «Кот поет, глаза прищуря…», над которым он только восклицал: – Боже мой, какой счастливец этот кот и какой несчастный мальчик!
Аполлон в совершенстве владел французским языком и литературой, и при нашей встрече я застал его погруженным в «Notre Dame de Paris»[443]443
«Собор Парижской богоматери» (франц.).
[Закрыть] и драмы Виктора Гюго. Но главным в то время идолом Аполлона был Ламартин. Последнее обстоятельство было выше сил моих. Несмотря на увлечение, с которым я сам перевел «Озеро» Ламартина, я стал фактически, чтением вслух убеждать Григорьева в невозможной прозаичности бесконечных стихов Ламартина и довел Григорьева до того, что он стал бояться чтения Ламартина, как фрейлины Анны Иоанновны боялись чтения Тредьяковского. Зато как описать восторг мой, когда после лекции, на которой Ив. Ив. Давыдов с похвалою отозвался о появлении книжки стихов Бенедиктова,[444]444
Первая книга Бенедиктова вышла в 1835 г., вторая – в 1838 г.; очевидно, речь идет о второй, так как событие относится к первому студенческому году Г. и Фета.
[Закрыть] я побежал в лавку за этой книжкой?!
– Что стоит Бенедиктов? – спросил я приказчика.
– Пять рублей, – да и стоит. Этот почище Пушкина-то будет.
Я заплатил деньги и бросился с книжкою домой, где целый вечер мы с Аполлоном с упоением завывали при ее чтении.
Но, поддаваясь байроновско-французскому романтизму Григорьева, я вносил в нашу среду не только поэта-мыслителя Шиллера, но, главное, поэта объективной правды Гете. Талантливый Григорьев сразу убедился, что без немецкого языка серьезное образование невозможно, и, при своей способности, прямо садился читать немцев, спрашивая у меня незнакомые слова и обороты. Через полгода Аполлон редко уже прибегал к моему оракулу, а затем стал самостоятельно читать философские книги, начиная с Гегеля, которого учение, распространяемое московскими юридическими профессорами с Редкиным и Крыловым во главе, составляло главнейший интерес частных бесед студентов между собою. Об этих беседах нельзя не вспомянуть, так как настоящим заглавием их должно быть Аполлон Григорьев… Как это сделалось, трудно рассказать по порядку; но дело в том, что со временем, по крайней мере через воскресенье, на наших мирных антресолях собирались наилучшие представители тогдашнего студенчества. Появлялся товарищ и соревнователь Григорьева по юридическому факультету, зять помощника попечителя Голохвастова, Ал. Вл. Новосильцев, всегда милый, остроумный и оригинальный. Своим голосом, переходящим в высокий фальцет, он утверждал, что Московский университет построен по трем идеям: тюрьмы, казармы и скотного двора, и его шурин приставлен к нему в качестве скотника. Приходил постоянно записывавший лекции и находивший еще время давать уроки будущий историограф С. М. Соловьев. Он по тогдашнему времени был чрезвычайно начитан и, располагая карманными деньгами, неоднократно выручал меня из беды, давая десять рублей взаймы. Являлся веселый, иронический князь Влад. Ал. Черкасский, с своим прихихикиванием через зубы, выдающиеся вперед нижней челюстью. Снизу то и дело прибывали новые подносы со стаканами чаю, ломтиками лимона, калачами, сухарями и сливками. А между тем в небольших комнатах стоял стон от разговоров, споров и взрывов смеха. При этом ни малейшей тени каких-либо социальных вопросов.[445]445
Фет или запамятовал, или сознательно умолчал об общественно-политических интересах григорьевского кружка. Такой интерес проявляли не только Я. П. Полонский, С. М. Соловьев, но даже иногда сам Фет! Полонский писал Фету 14 августа 1889 г.: "…каким тогда был ты либералом, когда писал:
Православья где примеры,Не у Спасских ли ворот?Где во славу русской верыМужики крестят народ…».(Материалы, с. 339; вместо «Мужики» нужно «Казаки»). См. об этом стихотворении: Евгенъев-Максимов В. Е. Новонайденное стихотворение А. А. Фета. – «Ленинград», 1940, № 21–22, с. 34; автор обнаружил его в записи П. П. Пекарского, которому К. Д. Кавелин сообщил, что стихотворение сочинили два студента, из коих один – Фет.
[Закрыть] Возникали одни отвлеченные и общие: как, например, понимать по Гегелю отношение разумности к бытию?
– Позвольте, господа, – восклицал добродушный Н. М. О<рло>в, – показать вам бытие божие математическим путем. – Это неопровержимо.
Но не нашлось охотников[446]446
Равнодушный к отвлеченным философским спорам Фет односторонне представляет интересы кружка; на самом деле охотников до споров было много. Сохранилась тетрадь-конспект Н. М. Орлова, озаглавленная «По просьбе Григорьева» и начинающаяся таким предисловием: «Ты, верно, помнишь любезный друг, что в прошлое воскресенье, когда мы все собрались у тебя, вследствие философского разговора, завязавшегося между нами, вы все просили меня систематически изложить мои взгляды на бумаге» (Русские пропилеи, т. I. М., 1915, с. 213).
[Закрыть] убедиться в неопровержимости этих доказательств.
– Конечно, – кричал светский и юркий Жихарев, – Полонский – несомненный талант. Но мы, господа, непростительно проходим мимо такой поэтической личности как Кастарев.
Земная жизнь могла здесь
быть случайной,
Но не случайна мысль души живой.
– Кажется, господа, стихи эти не требуют сторонней похвалы.
– Натянутость мысли, – говорит, прихихикивая, Черкасский, – не всегда бывает признаком ее глубины, а иногда прикрывает совершенно противоположное качество.
– Это противоположное, – пищит своим фальцетом Новосильцев, – имеет несколько степеней: Il у a des sots simlpes, des sots graves et des сots superfins.[447]447
Бывают дураки простые, дураки важные и дураки тонкие (франц.).
[Закрыть]
Что касается меня, то едва ли я был не один из первых, почуявших несомненный и оригинальный талант Полонского. Я любил встречать его унас наверху до прихода еще многочисленных и задорных спорщиков, так как надеялся услыхать новое его стихотворение, которое читать в шумном сборище он не любил. Помню, в каком восторге я был, услыхав в первый раз:
Мой костер в тумане светит,
Искры гаснут на лету.
Появился чрезвычайно прилежный и сдержанный С. С. Иванов, впоследствии товарищ попечителя Московского университета. С великим оживлением спорил, сверкая очками и темными глазками, кудрявый К. Д. Кавелин, которого кабинет в доме родителей являлся в свою очередь сборным пунктом нашего кружка.
Приходил к нам и весьма способный и энергичный, Шекспиру и в особенности Байрону преданный, Студицкий. Жаль, что в настоящее время я не помню ни одного из превосходных его стихотворных переводов еврейских мелодий Байрона. Вынужденный тоже давать уроки, он всем выхвалял поэтический талант одного из своих учеников, помнится – Карелина. Из приводимых Студицким стихов юноши, в которых говорится о противоположности чувств, возбуждаемых в нем окружающим его буйством жизни, я помню только четыре стиха:
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.