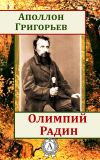Текст книги "Мои литературные и нравственные скитальчества"

Автор книги: Аполлон Григорьев
Жанр: Русская классика, Классика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 15 страниц)
Для любви одной природа
Нас на свет произвела,
до паточных идиллий Геснера и его истории о первом мореплавателе,[304]304
В русском переводе: Геснер С. Первобытный мореплаватель. Пер. Дм. Болтина. М., 1784.
[Закрыть] до романа «Природа и любовь» Августа фон Лафонтена…
Воспитывает какой-то чудак своего сына à lа Эмиль, но с еще большими крайностями, в совершеннейшем удалении от человеческого общежития, в полнейшем неведении его условий и отношений, даже разницы полов – вероятно, для того, что пусть, дескать, сам дойдет до всего – слаще будет… Но выходит из этого не канва для «Гурона, или Простодушного» – этой метко-ядовитой и, несмотря на легкомысленный тон, глубокой насмешки старика Вольтера над модною «природою» – а совсем другая история. Юный Вильям – конечно уж, как следует – образец всякой чистоты, прямоты и невинности. Попадается он при первом столкновении с обществом на некоторую девицу Фанни – и, приведенный сразу же в отчаяние ее совершенным непониманием «природы» и тончайшим пониманием женского кокетства и женского вероломства, – уезжает в далекую Индию. Там он конечно научается глубоко уважать диких и ненавидеть угнетающую их, «чад природы», цивилизацию, там он встречает прелестную Нагиду. Самое имя – конечно для ясности идеи измененное таким образом русским переводчиком, исполнявшим, кажется, труд перевода «со смаком», – показывает уже достаточно, что это – нагая, чистая природа. И действительно, разные сцены под пальмами и бананами совершенно убеждают в этом читателя – и ужасно раздражают его нервы, если он отрок, еще ничего не ведающий, или старик, много изведавший и мысленно повторяющий поведанное. Недаром же так любил чтение этого произведения мой отец – и не до преимуществ дикого быта перед цивилизованным было, конечно, ему дело…
Все это, как вы видите, были струи более или менее мутные – струи запоздалые, но вносившие свой ил и тину в наше развитие.
<VIII>. Вальтер Скотт и новые струи
Между тем новые струи уже вторгались в умственную и нравственную жизнь, даже в ту далеко отстававшую от общего развития, в которой я воспитывался или воскармливался. Разумеется, об отсталости среды говорю я по отношению к поколению уже старому, зародившемуся в последней половине XVIII века. Молодое жило всего более теми умственными и нравственными веяниями современности, которые и поставил я, кажется по всей справедливости, на первом плане – хотя оно, органически связанное с поколением, его породившим, не могло же уберечься от известной доли наследства его впечатлений. А с другой стороны, и поколение старое, если только оно не было уже совсем дряхлое и находилось в соприкосновениях с жизнию, а стало быть, и с поколением, выступавшим на поприще жизни, не могло тоже уберечься в свою очередь от воспринятия известной же доли новых впечатлений нового поколения.
Не только мой отец, человек, получивший хоть и поверхностное, но в известной степени полное и энциклопедическое образование его эпохи, – даже его чрезвычайно малограмотные товарищи по службе, которых уже, кажется, ничто, кроме взяток, описей и погребков не могло интересовать, – и те не только что слышали про Пушкина, но и читали кое-что Пушкина. Небольшую, конечно, но все-таки какую-нибудь часть времени, свободного от службы и погребков, употребляли они иногда на чтение, ну хоть с перепоя тяжкого, – даже хоть очень небольшую, но все-таки какую-нибудь сумму денег, остававшихся после житья-бытья да кутежей, употребляли, хотя спьяну, на покупку книг, приобретая их преимущественно, конечно, на Смоленском рынке или у Сухаревой башни; некоторые даже библиотечки такого рода пытались заводить. В особенности мания к таким совершенно, по мнению жен их, бесполезным покупкам распространилась, когда полились неудержимым потоком российские исторические романы. Тут даже пьянейший, никогда уже не достигавший совершенного трезвого состояния, из секретарей магистрата – прочел книжку и даже купил у носящего эту книжку, хотя не могу с точностию сказать, потому ли он купил в пьяном образе, что прочел, или потому прочел, что купил в пьяном образе. То была «Танька-разбойница Ростокинская»,[305]305
«Танька-разбойница Ростокинская» – авантюрно-бульварная повесть Сергея…кого (М., 1834).
[Закрыть] которая особенно представлялась ему восхитительною с кнутом в руках – так что он купил, кажется, даже табакерку с таковым изображением знаменитой героини.
Но российские исторические романы принадлежат уже к последующей полосе, а не к этой, кончающейся началом тридцатых годов и замыкающей в себе из них только первые романы Загоскина и Булгарина,[306]306
Имеются в виду исторические романы М. Н. Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году» (1829) и Ф. В. Булгарина «Димитрий Самозванец» (1830).
[Закрыть] только первые опыты российского гения в этом роде.
Российский гений открыл род этот, как известно, не сам, а перенял, но проявил свою самостоятельность в изумительном его облегчении и непомерной вследствие такого облегчения плодовитости, – о чем в свое время и в своем месте я поговорю, конечно, подробнее.
В ту полосу времени, о которой доселе идет еще пока у меня дело, – новыми струями для поколения отживавшего и читающей черни были романы знаменитого шотландского романиста – или, как условлено было называть тогда в высоком слоге альманачных и даже журнальных статеек, «шотландского барда».
«Шотландский бард», возбуждавший некогда восторг до поклонения, обожание до нетерпимости, поглощаемый, пожираемый, зачитываемый целою Европою в порядочных и нами в весьма гнусных переводах, – порождавший и послания к себе поэтов, как например нашего Козлова,[307]307
…послания к себе поэтов, как например нашего Козлова… – «К Валтеру Скотту» (1832).
[Закрыть] и целые книги о себе – вроде книги какого-то невероятно ограниченного шотландца, кажется, Олена Кунингам[308]308
…Олена Кунингам… – Речь идет о книге: Cunningham Allan. Some account of the life and work of Sir Walter Scott. Boston, 1832; на русском языке: Каннингам Аллан. О жизни и произведениях сира Вальтера Скотта. Соч. девицы Д… СПб., 1835. Белинский отозвался об этой книге как о «посредственной», а об авторе: «Его критические взгляды на сочинения Скотта довольно мелки и поверхностны» (Белинский, I, 345).
[Закрыть] по прозванию, полной неблагопристойно-тупоумного поклонения, не знающего уже никаких границ, – шотландский бард, говорю я, отошел уже для нас в прошедшее, – не возбуждает уже в нас прежних восторгов – тем менее может возбуждать уже фанатизм. Факт и факт несомненный – печальный ли, веселый ли, это я предоставляю разрешать ad libitum,[309]309
по желанию (лат.).
[Закрыть] – что в конце двадцатых и в тридцатые годы, серо и грязно изданные, гнусно и притом с Дефоконпретовских переводов[310]310
Имеется в виду 60-томное собр. соч. Вальтера Скотта на франц. языке: Oeuvres de Walter Scott. Trad, de l'anglais par Defauconpret. Paris, 1822–1830.
[Закрыть] переведенные романы его выдерживали множество изданий и раскупались, несмотря на то, что продавались очень не дешево – расходились в большом количестве, а в половине сороковых годов затеяно было в Петербурге дешевое и довольно приличное издание переводов Вальтер Скотта[311]311
Издание М. Д. Ольхина и К. И. Жернакова под редакцией А. А. Краевского (1845–1846); были выпущены четыре романа: «Айвенго», «Квентин Дорвард», «Антикварий», «Гей-Меннеринг, или Астролог».
[Закрыть] с подлинника, да и остановилось на четырех романах – да и те-то, сколько я знаю, покупались куда не во множестве. В пятидесятых годах кто-то, добрый человек, выдумал в Москве начать издание еще более дешевое, хоть и посерее петербургского, переводов с подлинника Вальтер Скотта, и выпустил довольно сносный переводец «Легенды о Монтрозе»[312]312
Легенда о Монтрозе. Исторический роман Вальтера Скотта. Пер. с англ. 2 ч. М., 1851. Г. написал сочувственную рец. об этом издании: Москвитянин, 1851, № 14, с. 166–174.
[Закрыть] – да на нем и сел, по всей вероятности, за недостатком покупщиков – тогда как ужасно много разошлось старого перевода, под названием «Выслужившийся офицер, или Война Монтроза».[313]313
«Выслужившийся офицер, или Война Монтроза» – перевод с французского, т. 1–4. М., 1824.
[Закрыть]
Habent sua fata libelli[314]314
Книги имеют свою судьбу (лат.). – стих латинского поэта Теренция Мавра, ставший пословицей.
[Закрыть] – весьма устарелая, до пошлости избитая и истасканная, но все-таки весьма верная пословица, только приложимая преимущественно к временным, так сказать модным (не в пошлом впрочем, а в важном, пожалуй гегелевском, смысле слова), а не к вечным явлениям искусства.
Прежде всего я должен сказать, что к таковым модным в искусстве явлениям, хоть в своем роде и в высшей степени замечательным явлениям, я причисляю знаменитого шотландского романиста. Сказать это после величайшего из английских мыслителей Карлейля,[315]315
Карлейль посвятил этой теме (успеху и значению творчества В. Скотта) обширную рецензию на мемуары о В. Скотте («London and Westminster Review», 1838, № 12), вылившуюся фактически в большой очерк о писателе; именно как общая статья о творчестве В. Скотта эта рецензия была опубликована (под названием «Sir Walter Scott») в собрании литературных и исторических трудов Карлейля: Carlyle Т. Critical and miscellaneous essays, vol. IV. London, 1847, p. 99–164.
[Закрыть] конечно, уже нисколько не смело в наше время, но дело в том, что и в ранней юности я без особенного заскока читал многие из хваленых произведений Вальтер Скотта и, напротив, читал по нескольку раз, и от детства до юности с постоянно живым интересом некоторые из его же малоизвестных. На меня весьма малое впечатление произвел, например, «Айвенго», и я не обинуясь скажу, что насчет сказочного интереса пресловутый роман этот весьма уступит сказкам Дюма и что в нем дороги только такие подробности и лица, которые автору не дороги, потому, явное дело, что страстному, хоть и нечестивому храмовнику Бриану читатель гораздо более сочувствует, чем добродетельно-глупому рыцарю Айвенго… На меня совсем никакого впечатления не произвели «Ваверлей» и «Вудсток», которого Оливер Кромвель так деревянно бледен перед живою фигурою во весь рост великой драмы Гюго,[316]316
…великой драмы Гюго… – «Кромвель» (1827).
[Закрыть] и «Квентин Дорвард», которого захваленный Людовик XI, не сходящий почти со сцены в романе, какая-то вялая тень перед Людовиком XI величайшего поэта нашего века, хоть в свой «Notre Dame» он и пустил его только в две сцены. Да ведь зато какие эти сцены-то, какой мощи и поэзии полны они!.. Не произвели на меня впечатления и «Ричард в Палестине», и «Карл Смелый и Анна Гейерштейн», и сентиментальная «Эдинбургская темница», и весь на эффектах построенный «Кенильворт». Я не стыжусь даже признаться, что «Невесту Ламмермурскую» люблю я как «Лючию»,[317]317
Имеется в виду опера Г. Доницетти «Лючия ди Ламмермур» (1835). Г. перевел либретто на русский язык (СПб., 1863).
[Закрыть] т. е. как вдохновение маэстра Донидзетти и певца Рубини, а не как роман Скотта… и мне кажется (о, варварство! воскликнут запоздалые поклонники шотландского барда), что дюжинный либреттист Феличе Романи выжал из романа весь сок всего истинно драматического, что заключается в романе, разбавивши это драматическое водою неизбежных итальянских пошлостей.
А между тем читал я и перечитывал в разных переводах и, наконец, в подлиннике «Пирата», или «Морского разбойника», как называется он в чистом и по своему времени изящном, хоть и сделанном с французского, переводе замоскворецкого романиста, г. Воскресенского, читал и перечитывал «Монтроза», читал и перечитывал «Певериля Пика»… Да! и доселе еще жив передо мною весь со всей обстановкой, со всем туманно-серым колоритом уединенный, замкнутый, как будто изолированный от всего остального мира, мирок шотландских островов, где совершается действие простой, даже не исторической, не загроможденной никакими блистательными личностями и событиями, но собственной жизнию полной драмы, совершающейся в романе «Пират», или – как озаглавлен он в переводе г. Воскресенского – «Морской разбойник».
Равномерно огромное же впечатление оставила на меня «Легенда о Монтрозе», или «Выслужившийся офицер, или Война Монтроза», по старому его серобумажному переводу. О «Певериле» я не говорю. Я его в детстве не читал, а прочел уже в довольно позднюю пору в подлиннике, но, во всяком случае, причисляю его к сильным впечатлениям от Вальтер Скотта. Затем, странное тоже дело, одна из поэм его в непотребнейшем переводе под названием «Мармиона, или Битва при Флодденфильде» – перечитывалась мною несколько раз в детстве. Из нее превосходно передан Жуковским известный отрывок «Суд в подземелье», но, повторяю, не в этом художественно переведенном отрывке я с нею познакомился.
У нас в доме вообще не особенно любили Вальтер Скотта и сравнительно не особенно усердно его читали. «Морского разбойника» даже и до конца, сколько я помню, отец не дочел – так он ему показался скучен. «Выслужившегося офицера» хоть и прочли, но отец жаловался на его растянутость, «Мармионы» же осилили разве только станиц десять. Вообще как-то форма изложения – действительно новая и притом драматическая у шотландского романиста – отталкивала от него старое читавшее поколение. «Как пойдет он эти разговоры свои без конца вести, – говаривал мой отец, – так просто смерть, право», – и пропускал без зазрения совести по нескольку страниц. Вырисовка характеров, к которой Вальтер Скотт всегда стремился, его не интересовала. Ему, как и множеству тогдашних читателей, нравилась всего более в романе интересная сказка, и потому естественно, что знаменитый романист нравился ему там только, где он или повествовал о важных исторических личностях или – как например в «Роберте, графе Парижском» – рассказывал разные любопытные похождения.
Вдумавшись впоследствии в причины моего малого сочувствия к множеству самых хваленых романов Вальтер Скотта и, напротив, очень сильного к вышеупомянутым, я нашел, что я был совершенно прав по какому-то чутью.
Искусство живет прочно и действует глубоко на душу преимущественно одним свойством (кроме, разумеется, таланта художника) – искренностию мотивов или побуждений, от которой зависит и самая вера художника в воссоздаваемый им мир, а «без веры невозможно угодити богу», как сказано в Писании, да невозможно угодить вполне и людям.
Шотландец до конца ногтей, сын горной страны, сурово хранящей предания, член племени, хотя и вошедшего в общий состав английской нации и притом свободно, не так, как ирландское, – вошедшего, но тем не менее хранящего свою самость и некоторую замкнутость, – Вальтер Скотт весь полон суеверной любви к старому, к преданиям, к загнанным или сгибшим расам, к сверженным династиям, к уцелевшим еще кое-где, по местам, остаткам старого, замкнутого быта.
Случайно или не случайно – деятельность его совпала с реставрационными стремлениями, проявившимися после первой революции во всей Европе. Но – опять-таки – совсем иное дело эти реставрационные стремления в разных странах Европы. В Германии – как я уже сказал – под этими реставрационными стремлениями билась в сущности революционная жила; во Франции они были необходимой на время реакцией, выродившейся в новую революцию тридцатого года, у нас, наконец, они были и остались простым стремлением к очищению нашей народной самости, бытовой и исторической особенности, загнанных на время терроризмом реформы или затертых и заслоненных тоже на время лаком западной цивилизации.
О нас и наших реставрационных стремлениях говорить еще здесь не место. О Германии я говорил уже с достаточною подробностию. Чтобы уяснить мою мысль о непосредственно, так сказать, нерефлективно-реставрационном характере литературной деятельности Вальтер Скотта, я должен сказать несколько слов о французских реставрационных стремлениях.
Но никак не о тех, которые выказались в блестящей деятельности одного из величайших писателей Франции, Шатобриана – этого глубоко потрясенного событиями и страшно развороченного в своем внутреннем мире Рене, который с полнейшею искренностью и с увлечением самым пламенным ухватился за старый католический и феодальный мир, как за якорь спасения. Он представляется мне всегда в виде какого-то св. Доминика, страстно, со всем пылом потрясенной души и разбитого сердца, со всей судорожностью страсти обнимающего подножие креста на одной из чудных картин фра Беато в монастыре Сан-Марко.[318]318
Во Флоренции; об этой картине (точнее – фреске), изображающей св. Доминика у креста распятого Иисуса, Г. говорит также в очерке «Великий трагик».
[Закрыть] Не на тех также стремлениях возьму я французскую реставрацию, которые начались у Гюго его одами и выразились в «Notre Dame», в «Le roi s'amuse»[319]319
«Король забавляется» (франц.).
[Закрыть] и блистательно завершились «Мизераблями»;[320]320
«Мизерабли» – роман В. Гюго «Отверженные» (1862) (от франц. «Les Miserables»).
[Закрыть] не на напыщенных медитациях или гармониях Ламартина…[321]321
Имеются в виду стихотворные сборники Ламартина «Поэтические медитации» (1820), «Новые поэтические медитации» (1823), «Поэтические и религиозные гармонии» (1835).
[Закрыть] Эпоху, как я уже заметил, нужно брать всегда в тех явлениях, где она нараспашку.
В это время читающая публика «бредила» – буквально бредила ныне совершенно забытым, и поделом забытым, совершенно дюжинным романистом виконтом д'Арленкуром. Его таинственный пустынник и эффектно– мрачный отступник Агобар, его отмеченная проклятием чужестранка сменили в воображении читателей и читательниц добродетельных Малек-Аделей и чувствительных Матильд. Но сменили они вовсе не так, как хотел этого автор. Автор сам по себе – ограниченнейший из реставраторов и реакционеров: во всех своих успех имевших романах («Пустынник», «Чужестранка», «Отступник») он проводит одно основное чувство: любовь к сверженным и изгнанным династиям – в особенности в «Отступнике», в «Ипсабоэ» он в рот, что называется, кладет, что Меровинги ли первого романа, прованские ли Бозоны второго – для него то же, что Бурбоны, да публике-то читавшей, в особенности же не французской, а, например, хоть бы нашей, никакого не было дела до подвигов его воительницы девы Эзильды, полной любви к сверженной династии, ни до Ипсабоэ, восстановляющей всеусердно, хотя и тщетно, Бозонов в Провансе. Для французской публики все это были уже старые тряпки, для нашей вещи совершенно чуждые. Не тем влек к себе дюжинный романист, а своей французской страстностью, которая помогала ему разменивать на мелочь могучие и однообразно мрачные образы сплинического англичанина, к которому восторженное послание написал Ламартин[322]322
Это послание Ламартина к Байрону (стихотворение «Человек» из сб. «Поэтические медитации») Г. процитировал в статье «О правде и искренности в искусстве» (1856).
[Закрыть] и которого наш Пушкин называл, уподобляя его морю, «властителем наших дум»,[323]323
Намек на стих. Пушкина «К морю» (1824).
[Закрыть] но которому читающая чернь поклонялась понаслышке и издали, как таинственно-мрачному божеству. Все эти «Пустынники», «Агобары»,[324]324
«Агобары» – у д'Арленкура нет такого романа; Агобар – герой его романа «Отступник» (русский перевод – 2 ч., М., 1828).
[Закрыть] «Чужестранки» – были решительно разменом на мелочь байронизма; разменом, может быть, более доступным черни, чем самый байронизм. С другой стороны, известная лихорадочная страстность француза, проникающая по местам штуки виконта д'Арленкура, была уже некоторым образом предвестницей той великой полосы литературы, которая называется юной французской словесностью. Реставрационные же стремления благородного виконта потрачены им совершенно задаром – и не сумей он, как настоящий, заправский француз, послужить вместе и богу и мамоне, т. е. не пиши он так, что и реакции-то было бы не противно и на новые, страстные стремления похоже, он бы не имел решительно никакого успеха.
Совсем другое дело – наивно, непосредственно, искренне реставрационный характер Вальтер Скотта – не говоря уже, конечно, об огромном различии таланта. Весь полный мира преданий, собиравший сам с глубокою любовью песни и предания родины, чуждый всяких политических задач и преднамеренных тенденций, честный даже до крайней ограниченности, объясняющей его нелепую, но искреннюю историю французской революции и Наполеона,[325]325
Имеется в виду наспех, в коммерческих целях написанная «Жизнь Наполеона Бонапарта» (1827); на русском языке: Скотт В. Жизнь Наполеона Бонапарта, императора французов. Пер. с англ. С. де Шаилета. СПб., 1831–1832 (изд. 2-е – 1836–1837).
[Закрыть] Вальтер Скотт был вполне представителем шотландского духа, но не с той грозной и величавой стороны его, которая породила суровый пуританизм и Оливера Кромвеля, а со стороны, так сказать, общежитейской. Такого другого ограниченного мещанина, как «шотландский бард», надо поискать да поискать – разве только наш Загоскин будет ему под пару: его добродетельные лица глупее Юрия Милославского и Рославлева, приторнее братцев Чарльсов[326]326
Очевидно, имеются в виду братья Чирибл из романа Ч. Диккенса «Жизнь и приключения Николаса Никльби» (1838–1839).
[Закрыть] Диккенса. Но дело в том, что он все-таки поэт – и большой, хотя далеко не гениальный, как Байрон или Гюго, поэт, что помимо его воли и желания вырисовываются перед нами в его произведениях именно те самые образы, к которым не питает он нравственной симпатии, и что, с другой стороны, есть правда и есть поэтическая прелесть в его сочувствии к загнанным или погибшим расам, сверженным, но когда-то популярным династиям, к суевериям и преданиям, – есть художественная полнота и красота в его изображениях замкнутых мирков или отошедших в область прошедшего типов.
Что это за мир, например, совсем отдельный, разобщенный с остальным миром – этот мир шотландских островов с его патриархом Магнусом Труалем (я все имена пишу по переводу Воскресенского),[327]327
«Морской разбойник». Роман Вальтера Скотта. Пер. с франц. М. Воскресенского. М., 1829.
[Закрыть] с его дочерьми: поэтически мрачной, суеверной, нервной и страстной Минной и с белокурой, простодушной Бланкой, с таинственной – не то помешанной, не то ясновидящей заклинательницей стихий Норной, с загадочным стариком-проходимцем Мертуном, с молодцом разбойником Клевеландом и его остроумным и непотребно ругающимся товарищем, с чудаком стихотворцем Клавдием Галькро и с жадным, лукавым разносчиком, нецеремонно пользующимся береговыми правами. Все это живет, все это ходит и говорит перед нами: мы точно побывали сами на пиру у старого Магнуса и видели воочию старый танец мечей; мы ехали с Магнусом и его дочерьми в темную ночь гадать к помешанной колдунье; мы стояли с ней, с этой колдуньей, на скале и заклинали морской ветер; мы даже рылись в заплечном чемодане разносчика и с любопытством рассматривали разные диковинные вещи, приобретенные им нецеремонно, как res primi occupantis[328]328
вещи, принадлежащие первому захватившему их (лат.).
[Закрыть] в силу берегового права; мы, наконец, верили, входя в пещеру Норны, что ее карлик – действительно какой-то гном, а не существо из земного мира. И что за дело было нам, следившим с лихорадочным интересом за страстию Минны к удалому разбойнику и за таинственной симпатиею к нему колдуньи, – до пошлости юноши Мертуна и до сентиментальных отношений его к Бланке.
А достолюбезный капитан Долджетти в «Легенде о Монтрозе»; милый капитан, с величайшей наивностью и по-своему совершенно честно готовый служить и конвенту и роялистам, смотря по тому, кто больше даст, – Долджетти, взятый в плен республиканцами и готовый идти на виселицу, потому что еще осталось несколько дней срока до конца его службы Монтрозу и роялистам… многоученый капитан Долджетти с его большею частию непристойными латинскими цитатами, которыми угощает он за столом чинную и мрачно скорбящую пуританку, леди Арджиль?… А вражда кланов, а община «детей ночи» с их грозным, суеверным и вместе безверным, мрачным и ясновидящим предводителем, и наконец, сам ясновидящий, как Саул, терзаемый фуриями и утешаемый только звуками арфы прелестной Анны Лейль, – Оллин Макголей?… Что нам за дело, что Анна Лейль любит не его, а пошлеца Ментейта?… Мир, живой мир и вместе какой-то фантастический перед нами: личности, ярко очерченные, носятся в нашем воображении – и поэт тут, видимо, в своем элементе…
Таковы были книжные впечатления, литературные веяния, окружавшие мое детство…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.