Читать книгу "Такая вот… Дети войны"
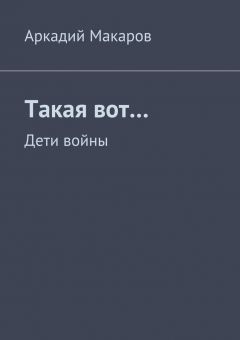
Автор книги: Аркадий Макаров
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
На этот раз в город я не попал. Так и не пришлось мне погостить у родственников, наслаждаясь городской круговертью. К обеду мы были уже дома, в Бондарях. Дядя Федя что-то сказал матери про дорожные неполадки и невозможность доехать до Тамбова.
Позже я узнал, что наш сосед, быстро починив колесо в колхозной мастерской, возвращаясь обратно, потерял то место, где мы давеча остановились. То ли ему пришлось за колесо магарычи ставить и выпить с кузнецом лишку, то ли по рассеянности, но он искал меня, блуждая всю ночь, где-то возле нашего пристанища, и только к утру случай вывел его на меня. Но я не был в обиде на дядю Федю. Ведь мы так хорошо с ним ехали в город. Он – по своим делам, я – по своим. А лес, между прочим, был чудесен.
Выба
По старой деревенской привычке его звали Выба, и он охотно откликался, хотя его собственное имя было – Карп. Карпуха, если по-простому. Тоже ведь ничего!
Но вот кличка Выба к нему пристала, как банный лист в парилке: Выба, да Выба. А все потому, что один из его внуков, случился картавым, и слово «рыба» произносил, как «выба» вот и деда с рыбьим именем Карп, стали кликать по внуку не как иначе, а как «Выба».
Кто его первый раз так назвал, неизвестно, но с кличкой «Выба» дед Карпуха сжился, как сживаются с бородавкой на самом неудобном месте.
В моем ребячестве слова: «дед», «дедушка», «дедуля» произносились редко. Ни у меня, ни у моих друзей дедушек не было; война четырнадцатого года, революция, гражданская война, антоновское восстание, коллективизация повыбивали мужиков того времени, как зубы в кулачном бою, – не сосчитать! Вот и росли мы в большей части безотцовщина и бездедовщина, если так можно выразиться.
Отечественная война перепахала каждую семью, вывернув наружу вместе с корнями и побеги: мы росли сами по себе, как трава в поле. Матерям было невмочь, на их плечи легла «страна огромная» и надо было сохранить ее, во что бы то ни стало.
Только Витька, картавый внук деда Карпа, того самого Выбы, был счастливым исключением.
Витька дружил со мной и я, часто бывая у него дома, всегда с завистью смотрел, как дед налаживает своему внуку удочки на рыбалку, как просит его завернуть цигарку, пока руки деда заняты плетением из гибкой лозы хитроумных приспособлений /нерето/ для ловли разного речного народа. Иногда в нерето могла по ошибки попасть щука или в поисках удобного жилища, заползти толстобрюхий налим или даже протиснуться усатый и толстый дядя сом.
Рыбная ловушка напоминала большую чернильницу-невыливайку сплетённую из лозинок с узким входным отверстием и достаточно бокастую, чтобы туда могли поместиться с десяток рыб размером с ладошку. Большая рыба попадалось редко, но, если посчастливится, то можно поймать и ее.
Дед Выба никогда не выпускал изо рта цигарки, но курил «не в себя», как он говорил, а просто коптил небо. Зато табак у него был звериной крепости, в чем мы с Витькой могли не раз убедиться, спокойно покуривая его цигарку, пока тот возился с непокорной лозинкой, пытаясь втиснуть ее в нужное место.
Нерето у деда Карпа получались ловчие, в смысле – уловистые, волшебные: при каждом просмотре этого приспособления можно было поднять обязательно несколько пескарей или другой какой рыбы, а если повезет, то в придачу, пару-тройку беспокойных и корявых как колючая проволока, раков. Налимы попадались редко, но больше поздней осенью, когда вода в реке кипит холодной рябью, или когда в верховьях нашей речки Большой Ломовис, на мельничной запруде открывался шлюз для спуска воды.
Налим – рыба нервная, чуть что, сразу старается забиться под корягу. А тут – вот он рукодельный вентерь: «Входи сюда, голубчик!». Вход один, а выход – попробуй, отыщи.
Витька тут как тут: руку просунет в горловину, и за жабры его, такого опрометчивого. На сковородке эта рыба, ух, как хороша! Дед Выба довольно хмыкает в усы, Витька счастлив и мне хорошо – тоже рыбку попробовал!
Дед Выба любил выпить. Не то, чтобы он был пьяница, а по причине всяческих удач не прочь был осчастливить себя «мальчиком». Так он называл маленькую, укладистую четвертинку, половинку бутылки, если посчитать по вместимости посуды.
Принесет Витька улов, разложит его по сортам: вот это на уху – пескарики, плотвички, ерши, окуньки размером с палец, а это вот на жарево – карасики, сомята, карпики, налимы, ну, конечно и сазанчик, который вбухается в нерето.
Дед довольно поглаживает бороду, поглядывая на удачный улов. Крякнет, бывало, полезет в старый овчинный полушубок, где у него был несгораемый запасец пенсии и скажет внуку: «Сгоняй-ка в сельпо, принеси „мальчика“, а мы тут с твоим дружком, это со мной, значит, обед сгондобим. Давай, одна нога здесь, а другая там!»
Витька, предвкушая восторг деда, уже на улице, уже к магазину рысью, а мне достается самая трудная работа – рыбу чистить, мыть, потрошить, выгребая из брюшек всякую скользкую мокреть – кишочки, плавательные пузыри, розовые щеточки жабр.
– Ты давай, промывай чище, чтобы вся горечь вышла! – посматривает из-под густых бровей дед.
Я уже наловчился разделывать рыбу, как положено: вот это, на уху, на жарево, а это, на мурлыкину долю.
Кот, дедов баловень, так и трется в ногах, подхалимничает, чтобы и о нем не забыли. Дед ухватит, какую рыбку за хвост и коту, а тот довольно урча, уже под столом, уже весь в азарте, только оттуда глаза жаром плавятся.
Вся семья в веселом возбуждении. А семьи у деда – кот Обормот, Витька, сам дед Выба, да вот я, невольно затесавшийся в «родню».
Так получилось, что дед Выба жил один без бабки, которая в один из дней оставила ему незаживающую горечь утраты и в придачу внука «Витюшу», которого она обожала больше всех на свете.
Витька рос без родительского глаза.
Его мать, которая жила в Москве и была замужем второй раз, никак не смогла привить отцовские чувства своему новому избраннику – большому начальнику с маленькой совестью, как говорила бабушка «Витюши».
Как жил, так и остался жить внук с дедом, напрочь отказавшись ехать в Москву к отчиму и родной матери. «Живи с ним сама!» – по взрослому сказал Витька и убежал из дома ко мне на чердак, где я сам в то время обитал, зачитываясь, Жюль Верном, Конан Дойлем, «Двумя капитанами» Каверина.
Там под подушкой лежал украденный из школьной библиотеки маленькая книжица в желтой мягкой обложке со стихами поразившими меня до умопомрачения, неизвестного ранее нам, школьникам, поэта Сергея Есенина.
Все мое богатство я передал на временное пользование Витьки, пока он обитал у меня.
Мать Витьки поплакала-поплакала и согласилась оставить его с дедом, пока «неблагодарный» сын окончит школу, а там видно будет…
В свое время дед Выба, а тогда председатель комитета бедноты в нашем селе Карп Иванович Бурашников, спас от разорения и раскулачивания не одну семью, о чем я знал от своих родителей, и теперь смотрел на деда Выбу с пионерской осторожностью и опаской: как-никак классовый враг, отступник от революционного наказа: «Грабь награбленное!», пособник кулака и мироеда.
Это уж потом, много лет позже, вспоминая свое детство, я с уважением относился к его памяти и всегда, посещая на погосте своих родителей в Светлый Пасхальный день, не забывал покатать красное яичко и на его тихой, заросшей зеленой дерниной могилке.
А пока все живы, все в сборе. Мои родители еще молоды, дед Выба – вот он, крошит крепкими пальцами сургучную опечатку на «малышке», а мой дружок Витька, потихоньку от деда показывает мне сдачу – значит, будет, на что пойти сегодня вечером в клуб на знаменитый индийский фильм «Бродяга», который мы будем смотреть с Витком уже в третий раз. Очень уж «кино» привезли очковое!..
Вот написал это, и тихая горечь торкнулась детскими кулачками мне сердце. В жизни случаются непоправимые вещи…
– Выба! Выба! – кричит картавый Витька, ныряя и выныривая в мутном потоке, пытаясь вытащить нерето на берег, но это ему не удается. Бурливый поток всякий раз оттаскивает его от берега.
Дело в том, что нерето сплетённое из ивовых прутьев, когда его ставят для ловли рыб, никак не хочет ложиться на дно, и каждый раз всплывает. Поэтому, чтобы уменьшить плавучесть ловушки, нерето нагружают разным грузом: битым кирпичом, галькой или ещё чем. Поэтому теперь вот ловушка тянет Витьку на дно.
Рука, просунутая в горловину самодельного вентеря, попала в щучью пасть, и Витька никак не может вытащить руку; то ли жалко отпустить рыбу, то ли мешает боль. Поток относит его все дальше от берега, стараясь захлестнуть, завертеть и опустить на дно.
Шли долгие проливные дожди. Плотину в верховьях реки прорвало, и теперь вода, вырвавшись на свободу, высокой распашистой волной накрыла его, и Витька, захлебываясь, ныряет и выныривает, как поплавок перед подсечкой.
Одной рукой выгребая воду, он никак не может осилить набегающую волну.
Еще минута и не видеть бы моему другу завтрашний день, если бы не дед Выба.
Услышав набегающий шум воды, он тут же оказался на берегу, и, не раздумывая, бросился навстречу внуку. Выброси Витьку на берег вместе с плетеной ловушкой, он оскользнулся на илистой промоине и снова оказался под волной. Большое ветвистое дерево, вывернутое вместе с корнями, охнув, по-медвежьи облапило его и, ворочаясь, подмяло под себя.
Больше деда мы не видели. Его нашли далеко от села, когда река успокоилась, виновато зализывая вспоротые берега.
Из Москвы приехала Витькина мать и забрала его, горько плачущего с собой в столицу. Мне достались все рыбацкие снасти.
С тех пор я Витьку больше не видел.
По слуху, он после школы попал в военное училище, дослужился до майора.
Может быть, нынче мы бы и встретились с ним, если бы он не остался в горах Гиндукуша.
Моджахеды не промахнулись. Уже смертельно раненого сбросили со скалы в ущелье, где шакалы и горные орлы разнесли его русское тело по своим тропам, ведомым только им и моджахедам.
Теперь он так и остался только в моей памяти и в памяти своих солдат, которых он оберегал, как детей. Обзавестись своей собственной семьей ему не довелось. Мать, не выдержав горя, ушла следом за ним, ну а отчим, наверное, уже забыл непокорного пасынка.
Как-то приехав домой, я обнаружил на чердаке вместе с книгами и нехитрую рыбацкую ловушку, веретень, или попросту нерето еще до сих пор пахнущее тиной и моим детством.
Собакиш-брехищ
Я ставлю своей целью показать
себя здесь лишь таким, каков я
сегодня, ибо завтра, быть может,
я стану другим, если узнаю что-
нибудь новое, способное
произвести во мне перемену.
Мишель Монтень «Опыты».
Город кишел ворами. Днем донимали «щипачи», а по ночам «домушники». Жители, проверив запоры на дверях, ложились спать, опасливо поглядывая на окна, хорошо – у кого были ставни, запирай изнутри винтами, все-таки – надежа.
Обыватели паниковали недаром. Бывало и такое, что при грабежах вырезались даже целые семьи. От слухов, один страшнее другого, цепенело сердце.
Пытались ограбить и моих родственников, живших в то время на отшибе, возле Петропавловского кладбища. Брать у них было особенно нечего – печь посреди избы, да за печью, в углу, на старинном комоде трофейный баян, отделанный костью и перламутром, на котором иногда, подвыпив, играл «Амурские волны» покалеченный войной дядя Ваня, муж сестры моей матери.
Печь, как известно, не уведешь, а дорогой баян кому-то здорово пришелся по вкусу.
Предварительно закрутив проволокой двери, чтобы хозяева не могли выскочить на улицу, бандиты принялись выставлять окно. Услышав подозрительную возню и осторожное царапанье, проснулся дядя Ваня и заколотил своим костылем в переборку, за которой, дом был на два хода, жил его родной брат Семен. Тот, разбуженный стуком и криками, выбежал на крыльцо с двустволкой. И только выстрелы отпугнули домушников.
Утром пришел милиционер, рассматривая выставленную раму, что-то замерял и долго чесал в затылке. Помощи от него, конечно, ждать не приходилось, но все же как-то спокойнее. Может, на следующую ночь воры и не посмеют…
В большом беспокойстве жил город.
Ходила такая поговорка, что Одесса – мама, Ростов – папа, а Тамбов дядей будет. Бериевская амнистия отворила плотину лагерей, и урки хлынули на волю, растекаясь по своим «хазам» и «малинам», обогащая «феней» – блатным наречием – великий и могучий русский язык.
Лагерные байки возмущали детские души, бередили еще не осознанные чувства, уводя нас, подростков, в дали неоглядные.
Те времена были пропитаны романтикой говорливого воровского быта, удачливости и своеобразного кодекса чести. На экранах шел невиданный по своей популярности индийский фильм «Бродяга», подливая масло в огонь и разжигая нездоровый интерес к преступному миру.
Самой модной одеждой были брюки клеш и курносые кепки-восьмиклинки с большой пуговкой наверху – «бобочки». Ну, а если еще вискозная тенниска в полоску с коротким замочком «молния», то это – вообще шик, как теперь говорят, полный отпад.
Кепочку на глаза, руки no-локтям в карманах бостоновых широченных брюк, по-блатному – «шкар», смятая «беломорина» в углу кривого рта и нарочитая сутулость, как родовой признак, выражающий принадлежность к определенной среде – своеобразный аристократизм блатняков.
Мы с Толяном, моим первым городским дружком, млели, увидев подобное где-нибудь на углу улиц Коммунальной и Сакко-и-Ванцетти, ныне снова переименованную в Базарную.
Толян, завороженный блатным шиком, заговорщески шептал мне, неразумному: «Смотри, смотри – это Пыря хиляет. Его прошлым летом мусора на отсидку замели, мокруха на нем висела, а нынче он прохорями по воле топчет. Шкары на нем очковые… У меня тоже, век свободы не видать, скоро такие будут».
«Прохоря», «шкары», «бобочка», «хилять», «мокруха», «очковые» – значит хорошие, и другие подобные слова и словосочетания для меня были в новинку, как иноземный язык. Это уж только потом Толян снисходительно объяснял «феню», заручившись моим обещанием, что я где-нибудь вот так, всуе, «по фене ботать» не стану. «За это пиковину можно получить», – заговорщески вталкивал мне, деревенщине, начинающий блатарь Толян по кличке «Муня».
Муня был старше меня года на два-три.
Чем-чем, а приобретенной кличкой он особенно гордился. «Кликуха» как паспорт – в ней все! За то, чтобы получить этот «паспорт», Толян на прошлой неделе на «стрёме» стоял. «Подельником был, пока кореша ларек на „Астраханке“ подламывали, – сообщал он мне по большому секрету, на ходу путаясь в широченных, на вырост, „шкарах“ – обыкновенных сатиновых штанах на резинке. – Да, если бы меня мусора замели и грозили бы „красную шапочку“ сделать, опидорасить – не знаешь что ли? – на мой вопрос резонно ответил он, – я бы и тогда своих подельников не вломил!»
Я начинал ему робко говорить, что педерастов уголовники презирают, и с ними после этого дел никто не имеет. Миску пробьют, из чего потом «хавать» будешь? Я особенно нажал на слово «хавать», показывая тем самым свою осведомленность в жаргоне городской улицы.
Толян по-братски хлопал меня по плечу, объясняя неразумному, что он на этот случай в «очко» еловую шишку вставит. Пусть попробуют!
Вообще «Толян меня тогда кое-чему научил. Кто я до него был? «Мужик, ломом подпоясанный», вахлак из Бондарей, а теперь знаю и «красную шапочку», и как ларьки подламывают…
Дядя Вова, отец Муни-Толяна, был «легавым», служил в «ментовской» в чине старшины милиции, но вопреки или благодаря этому связь Муни с блатарями была возможна.
Дядя Вова зачастую после службы приходил домой под хорошей «мухой», или, как говорил Толян, «на рогах», бранился по-черному, выгонял Толяна с матерью из дома в любую погоду, стрелял в воздух из своего нагана и всячески безобразничал. Соседи в милицию с жалобами на него не ходили, пообвыклись, поэтому дядя Вова все еще носил погоны народных заступников и охранников.
Я жил в одном дворе с Толяном, и он, пока отец отбуянит, скрывался у нас, то есть у моей бабушки, у которой я проводил школьные каникулы. Сидел, поджав к подбородку колени, беспомощно грыз ногти и все твердил, что он «пахана» когда-нибудь «приколет». На что бабушка испуганно крестила его, гладила обеими руками по голове, как обычно купают детей, и приговаривала: «Что ты? Что ты, Господь с тобой!»
Подрастал я, подрастал Толян и подрастали наши увлечения. Бабушка жила на Ленинградской улице в глубине двора, в большом деревянном двухэтажном доме купеческого размаха, поделенном на множество квартир. Дом был окружен зарослями ивняка, кленовым молодняком и сиренью.
Голенастая и тощая сирень никогда не цвела, или, может, мы тогда не обращали на это внимание, не знаю, но на ее листьях было множество изумрудно-зеленых с радужным отливом узких и длинных жучков, отвратительно пахнущих. Таких жучков я почему-то больше никогда не видел. Если их посадить в коробочку с отверстиями и несколько раз понюхать, то начинает кружиться голова. Меня даже от этого несколько раз рвало. Но Муня любил этот запах. Бывало, возьмет коробочку в широкую пригоршню, поднесет к носу и, закрыв глаза, долго сквозь сомкнутые большие пальцы дышит.
– Шпанская мушка! – видя мой заинтересованный взгляд, врастяжку объяснял он. Глаза его в это время туманились. – Надо их высушить, растолочь, настоять, например, на морсе и дать, ну, хоть Зинке Модестовой выпитъ, то она сразу ляжет, и ноги враскидку. Сама нам с тобой предлагать будет. Во! Сукой буду! – и Муня ногтем большого пальца, зацепив передний зуб, резко дернул рукой. Что означало – клянусь!
Но все это требовалось проверить опытом. Однажды мы, отловив штук десять изумрудных тварей, передавили их для надежности и выставили сушить на листе бумаги прямо на солнцепеке.
Я, с нетерпением ожидая результата, подходил к Толяну и спрашивал его о готовности снадобья. Муня брал жучка, пробовал растереть его пальцами, нюхал и говорил: «Рано!»
Но вот жучки уже поспели, глянец с них сошел, они стали темными и жухлыми и были похожи на семечки подсолнуха.
Толян принес небольшой граненый стаканчик и, всыпав туда жучков, стал их растирать маленькой чайной ложкой. Получилась какая-то пыль, грязные ошметки.
– У тебя на ситро есть, – почему-то утвердительно сказал он. – Линяй!
У меня, действительно, в кармане была мелочь, и на ситро должно было хватить. На веселое дело и денег не жалко!
Я мигом «слинял», перебежал через дорогу в наш продуктовый магазин, где мы обычно брали хлеб. В магазине ситро не оказалось, и я взял бутылку морса, который стоил немного дороже, но, как я уже сказал, на веселое дело кто пожалеет денег?
Толян откупорил бутылку, сделал несколько глотков, одобрительно кивнул головой и высыпал из стаканчика наши ошметки в бутылку с напитком. Черные лохмотья плавали и никак не хотели тонуть. Умело закупорив бутылку, мой дружок несколько раз ее встряхнул и поставил в холодок, в сиреневые заросли, где всегда было сыро и холодно.
Дня через три две соседские девочки – Зинка Модестова по прозвищу «Большая» и лупоглазая плаксивая Оля пригласили нас с Муней поиграть в домики. На сложенных кирпичах, застеленных синей оберточной бумагой, изображавших столик, были разложены кусочки хлеба, сахара, слипшие леденцы и нарезанный кругляшками свежий огурец. Было все, как дома. На столе стояли два стакана и бутылка простой воды. «Водка!» – сказали нам девочки, и мы с радостью согласились.
Вот мы пришли с работы усталые, нас ждут, вот мы пьем водку, вот закусываем, вот шатаемся пьяные, орем песни, деремся и валимся спать здесь же, у стола на песочке. Все – как в жизни.
Играть с девочками я не любил, но Толян согласился тут же и, толкнув меня в бок, незаметно кивнул в сторону кустов. Я, сделав вид, что пошел в магазин за морсом, обогнул заросли, достал бутылку с нашим напитком и снова через калитку вошел во двор.
Все дружно захлопали. Особенно сильно хлопал Толян, по лицу его расплывалась глупая улыбка, он со значением подмигивал мне и притоптывал на месте с нетерпением приступить к делу.
Оставалось только угостить наших хозяек морсом – и все. А потом, если хватит смелости, можно поиграть и в молодоженов.
Толян, взяв у меня из рук бутылку, сковырнул зубами металлический нашлепок и, выплеснув из стаканов воду, аккуратно, чтобы отстой не попал в посуду, наполнил их нашим питьем.
Оля, подозрительно показав на бутылку, сказала, что она, наверное, морс пить не будет, там чего-то плавает…
– А-а, это фабричный отстой! Морс из фруктов делают, вот и плавает… – Толян беззаботно махнул рукой и первым выпил стакан, поставил его на кирпичи, затем поморщился, словно выпил чистейшего спирту, зацепил кусочек хлеба, положив на него кружок огурца, жмурясь, занюхал и, сунув в рот, стал усиленно жевать.
Зина Большая тоже, махнув рукой, изображая из себя пьяницу, залпом опрокинула стакан и с размаху поставила его. Один из кирпичей подвернулся, и бутылка, звякнув, упала на него и раскололась.
Оля плаксиво уставилась на пенистую лужицу, промямлив, что ей «водки» не досталось. Я погладил ее по спине, сказав, что вот завтра обязательно ей принесу настоящее ситро и без отстоя.
Зина Модестова по прозвищу «Большая» не успела прожевать кусочек хлеба, как глаза ее расширились, она побледнела, сложилась пополам, хватаясь за живот, и из нее фонтаном выбросило все наше снадобье. Потом мне пришлось отпаивать ее бабушкиным компотом. А Толяну – хоть бы что!
– Дозу перебачил, – сокрушался он, – а то бы Зинка с Олькой наши были. Сукой быть! – и он снова зацепил ногтем большого пальца передние зубы и сплюнул на землю.
Вообще, Муня был большим выдумщиком. Мужские гормоны в нем играли почем зря. Четырнадцать лет – пора созревания. В это время разница в год-два возраста особенно заметна и непреодолима. Толян во всем был для меня недосягаем.
Купаться мы ходили на лодочную пристань, что располагалась под крутым спуском заросшим лопухами и крапивой берега Цны как раз там, где сегодня располагается технический университет, а в те времена это было здание суворовского училища. Будущие офицеры с городскими ребятами не смешивались и купаться ходили организованно, строем, под барабанный перестук на оборудованный под купание берег выше пристани, где мы купались с Толяном. Туда же, к суворовцам, покрасоваться и пофасонить сбегались молоденькие купальщицы со всего города.
А как не сбегаться?! Там прямо из воды вставали вышки для прыжков в воду, дно каждый год чистили, плавательные дорожки были огорожены толстыми канатами, на которых можно хорошо покачаться. Да и романтические надежды будущих красавиц давали о себе знать. Там были даже две металлические раздевалки-кабины, разделенные тонкой переборкой – мужская и женская.
Мужская раздевалка обычно пустовала, но в женскую постоянно туда-сюда шныряли девочки втихарца покурить или отжать выцветшие на солнце за долгое лето купальники, маленькие чашечки которых всегда будили наше, еще не устоявшееся, воображение.
Мы с Толяном туда ходили больше поглазеть на праздник жизни, а купались здесь, на лодочной пристани, ныряя между трущихся бортами плоскодонок. Из-за отсутствия трусов мы купались нагишом, распугивая серебряных мальков, которые в панике выстреливались из воды, высверкивая на солнце.
Однажды Толян сидел-сидел, глубоко задумавшись, раскуривая подмокшую папиросину «Север», пачку он прятал под восьмиклинку-бобочку – и мать не увидит, и курево не мнется. Сидел-сидел Муня и, быстро натянув штаны, сказал: «Пойдем!», и мы пошли в сторону купальни, где ойкали и визжали девочки, барахтаясь в воде и раскачивая толстые, как жерди, канаты. Там было весело. Муня прибавил шагу.
Я на ходу тараторил в спину другу, что нам без трусов купаться нельзя, засмеют или, того хуже, набьют морду. Вон там их, красноперых, сколько!
Толян, остановившись, хлопнул меня по затылку ладонью и сунул обсосанный чинарик в мой рот:
– Кури и не кашляй!
…Мы лежали на зеленой травке возле женской раздевалки, посматривая на голенастых цыплячьего вида девочек примерно нашего возраста. Мне было скучно. Посиневшие, тощие в пупырышек лодыжки и те, кому они принадлежали, меня не взволновали, но Толяну, судя по всему, наоборот, было хорошо. Он что-то соображал, ноздри раздувались, глаза его бегали туда-сюда, туда-сюда, на тонкой шее задвигался кадык, острый и выпуклый. Муня жадно сглотнул слюну, закурил еще одну папиросу, цвиркнул в сторону гомонящих девчонок длинную струю и нырнул в мужское отделение раздевалки. Я, конечно, двинулся за ним, недоумевая, зачем ему вдруг понадобилось идти туда.
В раздевалке было прохладно и сыро и почему-то пахло рыбой. За перегородкой теснились девочки, и их короткие смешки, видно, насторожили моего друга. Он зашарил глазами по загородке, отыскивая щелочку, чтобы подсмотреть – над чем так хихикают озорницы.
В железном листе щелей не было, а отверстия не просверлишь, а посмотреть очень хочется.
Пошарив для верности по ржавому листу руками, Муня присел на корточки. От земли до переборки было сантиметров двадцать – и так не увидишь! Тогда Толян опрокинулся на спину, выглядывая снизу костистые лодыжки юных купальщиц.
Мне тоже было интересно, но на моей стороне натекла целая лужа, и лежать в грязи не будешь. Я шепотом стал спрашивать Муню: «Ну, чего там?». Муня двинул меня по ноге и, пригрозив кулаком, показал глазами на дверь, чтобы я ее держал, никого не впуская.
Его рука зашарила в кармане, словно он там что-то быстро-быстро искал. Выпрямленный торчок высунулся из штанов наружу, Муня перехватил его другой рукой и, спрятав в кулак, стал делать рукой челночные движения. Немного погодя из его кулака толчками что-то белое плеснулось в примятую траву, и он засучил ногами по земле.
Девочки его затею не замечали и все так же продолжали шушукаться и хихикать за перегородкой.
Толян встал, отряхнулся, небрежно выплюнул изжеванный окурок и поправил брюки.
– Видал! – сказал он с гордостью. – Молофья как прыгает. Сюда надо вечером приходить. Тут такие девки тусуются! Уже оперенные. Я какую-нибудь здесь обязательно завалю. Уработаю. Ты снаружи дверь подержишь, на атасе постоишь, а я ее здесь… – и он пересохшим ртом, задыхаясь, выговорил известное матерное слово.
Таким был мой первый учитель и наставник по не совсем детским игрищам и забавам. Улица всегда найдет, чем тебя занять и развлечь, если тебе очень хочется…
Я пишу это не для того, чтобы шокировать читателя, но, как говорится, из песни слов не выкинешь. Прожил, как спелось. Что есть – то есть, что было – было.
Следующий раз я сошелся с Толяном года через два-три, уже ученый-переученый, уже начинающий ощущать вкус жизни. Толян к этому времени бросил школу, ходил на завод, стал зарабатывать деньги, запросто курил при матери, хотя отца по-прежнему боялся.
Толян шел навстречу и улыбался. На нем была уже голубая в полоску тенниска из вискозного трикотажа с коротким замочком-молния на груди, широкий флотский ремень перепоясывал брюки-клеш из темно-синей ткани, хотя не бостон, но и не из ситца. На ногах были легкие кеды из белой парусины. Желтая фикса и кепочка, прикрывающая правую бровь, говорили о его принадлежности к людям удачливым и рисковым. Шёл он пружинисто, слегка вобрав голову в плечи, отчего его походка была осторожной, словно он ощупывал подошвами землю перед тем, как наступить.
Толян подошел, радостно попридержал меня за плечи и надвинул на самые глаза мою мятую с неуклюжим козырьком фуражку, пошитую бондарским портным Шевелевым дядей Саней.
Тояян явно был доволен произведенным на меня впечатлением. Он, не спеша, достал пачку «Беломора», небрежно щелкнул большим пальцем снизу по пачке, выбив мундштук папиросы, и протянул пачку мне.
Я, хоть курить и не курил, но, чтобы не казаться деревенским паинькой, затянулся от его шикарной, сделанной из винтовочной гильзы зажигалки.
– Зажила клешня-то? – глядя на мой стоящий торчком большой палец правой руки, который из-за перерезанного сухожилия не гнулся, сочувственно спросил он.
Я показал ему рваный белый рубец, стягивающий, как шнурком, мой изуродованный палец.
Шрам остался еще с той поры, когда Толян учил меня сходиться на ножах, как пираты. При попытке выбить из его руки большой кухонный нож я и порезал руку. Много потом было крови и крика, пока жившая рядом медсестра Шурочка не обработала рану йодом и не сделала перевязку.
На удивление всем рука зажила быстро, но с тех пор палец стал бесчувственным, мерз зимой и перестал сгинаться.
– Ты корешок очковый! – пожал мне еще раз руку Муня. – Не вломил меня тогда пахану за нож. Я таких уважаю. Пойдем в «Ручейке» посидим!
«Ручеек» – дешевая забегаловка, расположенная в дощатом павильоне у самой воды на спуске от теперешней гостиницы «Тамбов».
Я неопределенно пожал плечами. Денег, конечно, у меня не было, так – звенела в кармане всякая мелочь, может быть, только на пачку сигарет. А посидеть хотелось…
Толян вытащил из заднего кармана хорошее портмоне из кожи, раскрыл его и похвастался содержимым. Деньги у него были. И я, весело цвиркая сквозь зубы в масть своему другу, пошел за ним к Цне отмечать нашу встречу.
«Ручеек», размывая берега, набирал скорость. Сквозь тяжелый табачный дым пробивались испарения разбавленного пива и алкоголя. Был как раз конец рабочего дня – самый прибыльный час для питейных заведений. Народ гулял. Говорили все и сразу. Одним словом – «толковище», как сказал бы теперь мой бескорыстный наставник Муня-Толян.
Он сидел передо мной, фатовато посверкивая фиксой, и барабанил пальцами по мокрой пластиковой столешнице. Официантка в белом переднике, как выпускница в школьном фартучке, поставила на стол графинчик-колбочку водки и два пива в широких огромных кружках толстого стекла. В потной ложбине между ее двумя всхолмиями материнских грудей пряталась маленькая жемчужина на тонкой золотой цепочке.
Толяна она, по всей видимости, знала и улыбнулась, слегка кивнув ему белым кружевом кокошника на гладкой прическе. Он, выхваляясь передо мной, жестом заправского бабника попытался навесу подержать в ладони ее выпуклости, та со смешком хлопнула его по руке и скрылась на кухне.
К водке я был совершенно равнодушен, а пиво не пил вовсе, я еще не понимал всей его прелести в сочетании с водкой.
– Держи мосол! – протягивая Mуне окольцованную синей наколкой сухую продолговатую кисть, подсел к нам какой-то парень примерно одного возраста с Толяном или чуть старше. – А это что за фуфло с тобой? – кивнул он в мою сторону.
Муня, слегка смутившись, стал что-то говорить парню, оправдывая мой крестьянский вид.
– А, мужик ломом подпоясанный, – равнодушно протянул парень, видимо, потеряв ко мне всякий интерес. Не спрашивая разрешения, он припал к пивной кружке и всосал содержимое в себя в один момент. Вытерев тыльной стороной ладони узкий щелястый рот, он что-то быстро-быстро стал шептать Муне на ухо. Мне только слышались какие-то обрывки: «взяли на понтах Черемиса. На стреме, падла, стоял… а шухер, сам знаешь… замели…»









































