Читать книгу "Такая вот… Дети войны"
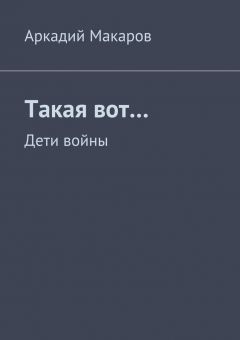
Автор книги: Аркадий Макаров
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
От горячей воды сало с ладоней быстро сошло, и они стали розовыми и чистыми, как после бани.
Мы с Пашкой, перемигиваясь, уселись, и, как настоящие мужики, положили на клеенчатую столешницу сжатые в кулаки, по-настоящему уставшие руки, говорящие – кто в доме хозяин.
Вот она, на огромной чугунной сковороде, недовольно фыркающая бараньим жиром, долгожданная печёнка, ради которой мы с другом сегодня так старались, выручая двух старушек-сирот. Они сидели напротив, и участливо поглядывали на двух мужиков, только что вернувшихся с работы.
Как знать, может быть, им вспомнились молодые годы, и тот довоенный такой же осенний вечер, когда они угощали своих дорогих, вернувшихся с поля. Лица пожилых женщин разгладились, черные концы платков были спущены на плечи, и кто-то из них, нет-нет, да и тронет застенчивой ладонью давнюю седину волос.
– Ой! Да работничкам поднести надо! – сказала одна из сестёр, потянувшись к полке, где стояла посуда и всякие
банки– склянки.
Пошарив, на ощупь она достала непочатую бутылку водки с пробкой, запечатанную красным сургучом. В то время на бутылках металлических нашлёпок не делали.
Закусить было чем.
Кроме жареной пахучей печенки, на столе лохматилась отварная картошка, и сбоку, рядком, прямо на клеенке, один к одному лежали, как литые, соленые огурчики, баночка грибков-опят, ну и, конечно, свойский, нарезанный большими ломтями хлеб.
Пашка больно придавил мою ногу, всем нутром, почувствовав, что я хочу возразить против выпивки и отказаться.
– Говорят, ей простуду лечат – потянулся к бутылке мой друг. – А я, прям, насморком страдаю – по-бабьи всхлипнул он, уже отковыривая сургуч.
В сенях кто-то споткнулся, загремев пустым поваленным ведром. Дверь открылась и, чертыхаясь, на пороге появился дед Ларя, веселыми глазами посматривая на стол:
– Бог помочь! – он, кряхтя, стал снимать калоши, – Ну, девки, ну, вылечили вы меня, теперь хоть ходить могу, И что это за чертов утин такой? Зверь какой-то! Его, как вы посекёте, так легше становиться – подхалимничал дед. – А, партизаны! – Как будто он только что нас увидел, вскинул руками Федоскин. – Вижу, вижу – с делами управились, теперь за столом управляетесь. А, как же! Все по-закону. Заработал – получай! Социализм! – он вытер ладонью губы.
– Илларион Семенович! Мы, как раз ужинаем, садись с нами
повечерничать.
Дед потоптался, потоптался у стола и сел на подвинутый к нему табурет.
– А я, вот, проведать пришел. Думаю, как там мои красноармейцы воюют?
Пашка налил себе и деду, а на меня посмотрел вопросительно. Я кивнул головой, чтобы он мне тоже налил. А чего отказываться?! Женщины водку пить не стали.
Выпили сначала за хорошую покупку. Следом – за здоровье дорогих женщин, которые хорошо утин секут, и деда на ноги поставили, потом выпили за тех, кто в море, потом выпили сами за себя, потом…, не знаю за что. По-моему больше в бутылке ничего не осталось. Закуска сперва шла хорошо – жареная печенка не каждый день бывает, потом про нее забыли, потом я оказался на улице белой и праздничной, от первого снега.
По-всему селу лаяли собаки, наверное, тоже радовались первозимью. Снег лежал везде: на земле, на заборах, на крышах домов, на деревьях, придавая всему сказочные очертания.
С неба спускались белые ангелы и, кружась, забавлялись летящим снегом. Большие белые хлопья ложились на мои руки, ладони, плечи, лицо и ресницы, играя со мной. Я ловил снег ртом, наслаждаясь его родниковым вкусом. Мне было хорошо и весело. События сегодняшнего дня забылись, унеслись в прошлое. Были только ночь, первый снег и моя первая молодость, раздирающая восторгом мальчишескую грудь.
Я кружился по ночным белым улицам, забыв дорогу к дому, пока куцая ватная курточка не напомнила мне о теплой постели.
У нас в доме еще горел свет, и я видел, как, роясь, то взлетали, то падали вниз в желтом электрическом огне белые бабочки снега.
Двери у нас закрывались только поздно ночью, перед самым сном, и я ввалился в избу хмельной и веселый, нараспашку ворот, с сияющими от восторга перед жизнью глазами.
Вот, я какой!
Отец, сидел на скамейке возле печки, как раз, к зиме подшивал валенки. Он мельком взглянул на меня, подняв голову, и снова наклонился над дратвой, затем, оторвавшись от шитья, опять внимательно посмотрел на меня, отложил в сторону валенок и поднялся со скамейки.
– Мать, неси ремень! – крикнул он за занавеску – Неси ремень, японский Бог! Кому говорят!
Мать, не понимая в чем дело, но, чувствуя опасность для сына, всё медлила и медлила:
– Какой ремень? Очнись! Он у тебя в брюках.
– Не защищай говнюка! Он пьяный пришел. Давай солдатский, на котором я бритву навожу.
Мать, нарочито долго возилась и возилась, пока отец не вышел из себя и не заматерился.
Голова моя была зажата так, что я не мог пошевелиться и не видел что делается в комнате, пока на своей спине не почувствовал ожигающих, и хлестких ударов, широкого в ладонь ремня, и резко наклонил мою голову почти к самому полу, зажав ее между ног.
Я несколько раз дернулся, но крепкие тиски коленей не позволяли мне вырваться и убежать. Отец хлестал так, что в глазах понеслись разноцветные круги, и, чтобы не показать свою слабость и не закричать, я крепче сжимал зубы и лишь только мычал.
Если бы не мать-заступница мне бы тогда долго не пришлось садиться, а если лежать, то на животе. Отец настолько вошел в раж, что мать не сразу могла вырвать у него ремень.
– Не подходи, потатчица! А то и тебе достанется! – кричал отец, выбивая из моей спины «Утин».
В голове прочистилось, вроде я и не пил вовсе.
Когда мать отняла у отца ремень, он, рванув за шиворот, встряхнул меня и сунул в нетопленую горницу, где в целях экономии на зиму закрывались наглухо двери.
– Не смей открывать! – приказал он матери. – Пусть этот
сукин сын там до утра протрезвеет, а завтра я ему еще перцу подсыплю.
Стучаться было бесполезно, можно схлопотать еще порки, и я, завернувшись в какие-то тряпки, забился в угол, и там, всхлипывая от обиды и боли, незаметно задремал.
Проснулся я от теплой ласковой руки матери.
– Иди, ложись на печь, отогрейся, а то простынешь. Я отца уговорила, он больше тебя не тронет. Ты зачем пил-то. Разве
можно…
Я никогда бы не вспомнил ни про этот день, ни про эту экзекуцию, если бы много лет спустя, когда матери уже не было в живых, я приехал проведать отца, и мы сидели с ним за столом, по-мужски отмечая нашу встречу, он, отставив стакан и положив мне на голову свою сухую, старческую ладонь, горько не напомнил об этом:
Прости меня, сынок! Ты ведь дитё тогда был, а я тебя в
холодные сени запер. Не пожалел.
Да ты что, отец! За что мне тебя прощать, я и не помню
вовсе!
– А помнишь, как ты первый раз домой пьяный пришел, а я об тебя тогда еще ремень правил?
– Не, не помню!
Я подлил отцу в его еще непочатый стакан. В доме было тихо и пусто, словно из него вынули душу.
Цвели, цвели цветики…
Белый ангел этой полночью
Моего увёл коня
С. Есенин
Отец потаённо, как бы стесняясь нас, детей, примостившись на угол стола, точил нож. Гибкое, тонкое лезвие с протёртой от долгого употребления ложбиной издавало характерный звук, как будто мартовская синица цвиркала у отца в кулаке. Её посвист, чистый и бесхитростный, я привык слушать по утрам. К началу зимы, когда первый снежок пробовал кочковатую морозную колею на дороге, в избе у нас появлялась синица, а то и двое сразу.
Отец любил птиц, а может, это он просто нам на забаву приносил в рукавице жёлтый комочек, который с резким фырканьем кидался в мутное, подёрнутое робкими ещё узорами стекло, бился, норовя преодолеть непонятное препятствие и улететь на волю. Через некоторое время, убедившись в тщетности своих попыток, зимняя гостья взлетала к потолку, цеплялась коготками за проволочную подвеску, на которой крепилась старая керосиновая лампа, и, раскачиваясь с любопытством крутила чёрной головкой, разглядывая нас, детей, восторженно и весело приветствующих её.
Семья у нас была большая, но дружная. Пять человек детей, один меньше другого – игрушек на всех не накупишься. Да и где они, эти игрушки, в послевоенной деревне, нищей и разорённой?
Может быть, поэтому отцу так хотелось порадовать нас живой трепетной птицей, снующей по углам избы, где в пазах между брёвнами, прячась в жёсткой пакле, жили шустрые усатые тараканы.
Долгой зимой синице у нас было полное раздолье. Забыв о воле, она уже больше не кидалась в окна, а, беззаботно посвистывая, выдёргивала из пакли прячущихся от дневного света юрких проходимцев. К весне синица очищала избу от этих мерзких тварей, пугающих нас по ночам своими шорохами.
Привыкшая к нам птица становилась ручной, садилась на плечи, на руки, пружинисто прыгала по столу, собирая с клеёнки забытые крошки. Синица до того смелела, что, когда я готовил уроки, с весёлым фырканьем бросалась на линованный тетрадный лист и старалась склюнуть чернильные буквы на бумаге, путая их очевидно, с червячками. Догадавшись, что это что-то совсем другое, она с недовольным писком снова взлетала к потолку, вышелушивая побелку и осыпая меня всевозможным сором.
Школьные ручки тогда были перьевые, писали чернилами с нажимом, и мне было трудно потом убедить учительницу, что домашнее упражнение выполнено чисто и аккуратным почерком.
Жирная головастая двойка, поставленная красным карандашом, больше всего привлекала проказницу, и она с особым рвением долбила её лакированным клювиком, пока на этом месте не оказывалось грязное разлохмаченное пятно, и мне снова было трудно доказывать добрейшей Антониде Ивановне, что я к этому не имею никакого отношения.
По весне синицу отпускали на волю: всей семьёй выходили на крыльцо, отец подбрасывал её с ладони вверх, и она быстро, с резкими вскриками вспархивала на тополь у крыльца, неуверенно, бочком передвигалась по тонкой веточке, затем снова пикировала на нас, кружилась возле, словно приглашая за собой, и потом, только, прощально свистнув, улетала, уже навсегда.
Как отцу удавалось ловить синиц, я не помню, но так было каждый год.
Вот и теперь, вторя свистящему звуку стального лезвия по камню, где-то за печкой откликнулась желтогрудая птаха.
Там же, в тёплом закуте, скоблил нетвердыми копытцами мокрый дощатый пол коровий детёныш. Несколько дней назад, ночью, отец внёс его на руках в избу и положил возле печки обсушиться. При свете керосиновой лампы я видел, как это слабое вещество зябко передёргивало мокрой кожей со слипшийся, словно зализанной, красновато-бурой шерстью. Пятнистые бока его, как развёрнутый географический атлас с причудливыми изгибами материков, вздымались коротко и часто.
Утром нас ждала запеканка из молозива – жёлтая, слегка сладковатая, упругая, будто пережаренный омлет, белковая масса. Для нас, слабых, изголодавшихся за долгую зиму детей, это было лакомство.
Отелилась корова, теперь мы наверняка доживём до весны, когда можно на проталых грядках нашего огорода собирать оставшуюся с осени и вымытую вешними дождями картошку. Водянистую после морозов, её сушили на плите, потом толкли в ступе, замешивали на воде и пекли в печи, как лепёшки. Крахмалистые, они были хороши, пока горячие. Остывая, лепёшки чернели, рассыпались в руках, как слипшиеся опилки, и проглотить эти скороспелые оладышки всухомятку не было никакой возможности. Но с молоком они шли за милую душу.
Начало пятидесятых годов почти ничем не отличалось от военного времени. Та же бескормица, налоги, займы, пустые трудодни и беспросветная нужда.
Нашей семье ещё жилось хорошо. Матушка корова, молчаливая кормилица, не давала пухнуть с голоду. А мой товарищ, Коля Юрасов, из-за распухших, неподвижных ног вынужден был бросить школу, так и не сумев выговорить своё имя. – Николаша.
– Как тебя зовут? – спросила его учительница, когда мы пришли первый раз в школу, пугливо озираясь в непривычно большом помещении класса.
– Коласа, – сказал он под общий смех.
Так и стали его называть – Коласа да Коласа.
Болел он тихо, ни на что, не жалуясь и ничего не прося. Я ходил к нему и бесконечными разговорами старался развеселить друга. Он грустно улыбался, лёжа на старой дерюжке, двумя руками переставлял затёкшие ноги, и снова впадал в сонное забытьё.
Тогда моего товарища удалось спасти в районной больнице. Правда, в другой раз рука медицины не дотянулась до Коласы. Взрослея, он, как и многие мои ровесники, заболел распространённой среди мужиков на Руси болезнью и однажды утром, мучаясь нетерпением, не угадал бутылку с дихлофосом, улетел на белых крыльях, отягчённый великим грехом пьянства, иммунитет к которому, наверное, у моего поколения был подорван нашим голодным детством.
Питались всем, что могли пережевать и проглотить.
Однажды в маленькой сельской пекарне, где истопником работал мой дядя, меня угостили ещё горячей, пахнущей сытостью, хрусткой корочкой только что испечённого хлеба. Хлеб пекли в прямоугольных жестяных формах, предварительно смазав их из большой круглой банки беловатым, вроде топлёного свиного сала, легко тающим в руках жиром.
Пока дядя в пекарне не было, я быстро окунул вожделенную корку в этот жир и тут же съел. То ли был голоден сильно, то ли глотал торопливо, но масленого вкуса я не почувствовал. Только потом, перегнувшись пополам от резкой боли в животе, сплёвывал тошноватую слюну в тёмную неподвижную воду осенней лужи и с удивлением рассматривал, как по ней расплывались радужные пятна, словно плеснули туда керосина.
Позже мне объяснили, что это был технический вазелин, в проще – очищенный солидол…
Такое вот было время…
Я хорошо помню этот дымный запах избы, ослепительно бьющее в окна февральское солнце, которое стелило на полу тёплые золотые половички. Отец точит горбатый кухонный нож, и ему вдохновенно вторит почти ручная синица. Из глубокого голубого блюда я пою телёночка молозивом, из экономии наполовину разведенным тёплой водой.
Телёночек ещё плохо умеет самостоятельно пить. Он бестолково мотает головой, тычется в руки, пытаясь большими губами прихватить мои пальцы. Я кунаю их в пойло, телёночек тянется за моей ладонью, вбирает пальцы в рот и начинает, сладко причмокивая, всасывать разбавленное молоко.
Он такой маленький, беззащитный…
В его огромных глазах я отражаюсь, как в чёрном выгнутом зеркале, большеголовый, с тонкой шеей.
– Настасья, – оглядывая меня, говорила моей матери наша фельдшерица. – У него голова от малокровья кружиться, и лицо, как у китайца, жёлтое. Ему бы мясца теперь…
– Эх, Нюрашка-Нюрашка, – горько вздыхала мать. – Откуда теперь мясца взять? Вот уж и картошка кончается. Одна нужда осталась, сердце гложет…
Телёночек пахнет весной, луговыми травами, пряным запахом подвянувшего сена. Он осторожно следит за моими движениями, изредка моргая девичьими длинными изогнутыми ресницами. Язык его упруг и жёсток. Он резко прижимает мои пальцы к ребристому нёбу, и я чувствую, как между пальцами струиться тепло. Я прижимаюсь щекой к его бугристой мордочке, покрытой шелковистой шерстью. Сопящее дыхание спокойное и ровное.
Иногда телёночек, увлёкшись, слишком глубоко окунает мордочку в блюдо, и тогда его питиё бурлит от выдыхаемого воздуха сквозь широкие мягкие ноздри, брызгая мне в лицо.
Но вот блюдо опустошается, телёночек, кивая головой, благодарит меня, старается увязаться за мной. Он резко отрывает передние ноги и, не удержавшись, валится набок, вытягивая в мою сторону шею и жалобно мыча.
А отец всё вострит нож. Казалось, этому действу не будет конца. Звуки, скользящей стали по точилу, вызывают смутные ассоциации с чем-то непоправимым и жутким, моё детское сердце сжимается в необъяснимой муке.
Мороз уже давал послабление. Оконные стёкла к вечеру оттаивали. За день крыши обрастали светлым частоколом сосулек, но в избе от пола, понизу тянуло холодом, и, наверное, поэтому зябкая частая дрожь пробегала по всему телу телёнка, а он только покорно смаргивал набегавшую на глаза влагу и грустно вздыхал.
Я снял висевший на гвозде отцовский полушубок и накрыл им коровьего детёныша, забыв, что за это можно было получить скорый подзатыльник. Но отец, казалось, не замечал меня и всё так же увлечённо продолжал точить нож.
Сколько я себя помню, он всегда что-нибудь точил: топоры, стамески, плоское лезвие рубанка и ещё что-то. Отец был хорошим плотником, а у хорошего плотника должен быть и хороший инструмент. Топор, которым он работал, никто не смел брать в руки. Топор тот был, какой-то особой стали, и настолько остёр, что однажды отец поспорил на выпивку со своим соседом, мужиком хитрым и подначливым, что может запросто побриться вот этим топором.
Сосед посмеивался. Ударили по рукам, а мне, как свидетелю, хотя и малолетнему, пришлось их разбивать. Отец расстегнул свой широкий бычьей кожи ремень, натёр его какой-то зелёной пастой, зацепил за гвоздь в стене, велел мне принести топор и потом долго наводил его на тугом полотнище.
Пока сосед, усмехаясь, раскуривал самокрутку, хвалился своим табачком, отец, сжав губы, без зеркала, а так, на ощупь выбрил щетинистые щёки.
Сосед потом горячо торговался, стучал кулаком себе в грудь, доказывая, что щёки выбриты нечисто, но, в конце концов, согласившись, принёс початую бутылку самогона, и они с отцом её тут же выпили, довольные друг другом.
Можно было не сомневаться, что кухонный нож, который отец сосредоточенно точил, будет острее бритвы.
Наша печь служила единственным прибежищем, где можно было хорошо отогреться, и я, набегавшись за день, уснул быстро и крепко. Старая телогрейка под головой да суконное одеяло, перешитое из солдатской шинели, были так же уютны, как материнские объятья.
На печи всегда спалось хорошо, и ночь пролетала в один момент, без всяких сновидений. Но тогда мне снился цветной сон, сначала долгий и радостный, какие бывают только в детстве, перешедший потом в тягостные видения.
Под синим-синим небом, залитый солнцем, раскинулся в бесконечном пространстве по-весеннему цветущий луг. Было видно, что недавно прошёл дождь. Следы его остались в крылатых чашечках цветов, на белых лепестках ромашек, в узких желобках травинок. Множество радуг вставало, упираясь, как телефонные столбы, в самое небо. На лугу, обирая губами цветы, пасся коровий детёныш, наш телёночек.
Но это и не цветы вовсе, а бабочки, которые тут же вспархивали и кружились, кружились и снова садились на яркий бархат, и снова превращались в цветы.
Я тоже попытался прихватить щепотью ромашку, но она вспорхнула из-под руки и, танцуя в нагретом воздухе, стала дразнить меня. Я хлопал в ладоши, пытаясь поймать её, но она тут же ныряла в траву и снова превращалась в ромашку.
Резвый телёночек в солнечных пятнах на рыжих боках, кивая головой, потянулся к моей ладони, и я увидел у него на широком, ещё комолом лбу большую красную бабочку с чёрной отметиной на крыле. Я потянулся за бабочкой, чтобы потом, расстелив чаровницу меж книжных страниц, любоваться ею на длинных скучных уроках.
Но это уже совсем и не телёночек, а мой школьный друг Коласа. Он зовёт меня поиграть в салки, но мне Коласу не догнать, ноги путаются в траве, и я падаю. Шершавый, как рашпиль, язык лижет мне лицо, мне тяжело дышать, я задыхаюсь. Жёсткое шинельное сукно лезет в рот, я комкаю одеяло и просыпаюсь.
Снизу, как во время стирки, тянет сыростью нагретой воды. На потолке мечется огромная распластанная птица или это просто беспокойная тень. Внизу какая-то молчаливая, притаённая возня.
В последние дни, перед самым отёлом нашей Красавки, по ночам отец часто выходил во двор с зажжённой лампой. Родители с нетерпением и скрытой тревогой ждали, когда разрешиться от бремени корова. Красавка была единственным существом, которое могло спасти от голода нашу большую семью. Зимой плотницкой работы в селе не находилось, а что могла сделать одна мать, когда на руках – куча мала? В редкие свободные минуты мать шила на дому, но этого едва хватало даже на жмых.
Страх за корову передавался и нам, детям. Мать велела каждый вечер молиться за благополучие семьи, за нашу Красавку, чтобы он в срок принесла телёночка, и тогда у нас, Господь пошлёт, будет молоко. Жмых ещё не кончился, слава Богу…
Прессованные брикеты заменяли нам в ту зиму хлеб. Они были жёлтого цвета, легко крошились в руках и напоминали вкусом вату, пересыпанную толчёной дубовой корой. Большие куски жмыха, я помню, лопатой грузили в мешки и на салазках привозили домой. То был хлопковый жмых.
Жмых размачивали в горячей воде забеленной молоком и ели, как тюрю.
Вот и на этот раз я думал, что беспокойный отец собирается проведать корову и дать ей разогретое пойло. Я, вытянув шею, с любопытством потянулся посмотреть вниз – может, корова снова телиться будет?
Там, на полу, в неровном пламени керосиновой лампы, неестественно откинув к спине лобастую голову, лежал наш телёночек, с которым я только что во сне играл в догонялки. Отец, присев на корточки возле него держал передние его ноги, а задние, с маленькими лакированными восковыми копытцами, всё толкали и толкали невидимую твердь, словно бескрылый коровий детёныш в прыжке хотел преодолеть земное притяжение и воспарить в небеса. Из разломанной шеи в большое голубое блюдо, в котором недавно плескалось пойло для этого детёныша, билась пенистая тёмная струя, и в доме стоял густой запах распластанной плоти.
Я сразу ещё не понял, чем так усердно глубокой ночью занимается отец. Родитель мой не любил, когда ему мешали. В деле он был скор, но скор был и на руку и мог сгоряча влепить так, что мало не покажется.
Я, затаившись, посмотрел вниз ещё раз, и с ужасом осознавая, что случилось что-то страшное и уже непоправимое, чего до этого мне никогда не приходилось видеть.
Чтобы не закричать от жалости к лежащему внизу, на голых половицах существу, я закусил зубами конец грубого и жёсткого, как войлок, одеяла, давясь слежалой шерстью шинельного сукна. Хотелось уползти в угол, забиться в щель, стать маленьким-маленьким и не видеть, что делается там, внизу, в сыром и тяжком воздухе нашей старой избы, но властная сила переживаемого ужаса заставляла смотреть на эту картину и давиться слежалым сукном непокорного одеяла.
Отец был так занят своей работой, что и не заметил меня, оглушённого и придавленного происходящим. Всё моё детское существо кричало и противилось увиденному, трепеща до самых кончиков пальцев. Не помню потом, как я провалился в чёрную воронку сна, которая засосала меня в беспамятство и выбросила на берег, где порхали и кружились странные цветы-бабочки. У самого лица огромным коровьим выменем с розовыми сосцами свисало не успевшее подняться в зенит солнце. Я хватаю губами эти тугие соски, и парное молоко струиться в меня. Молока так много, что оно заливает лицо, грудь и струиться на землю.
Напористый телёнок скачет около, толкается, гомонит. Я мучительно долго ищу то большое обливное блюдо, куда можно слить целебный напиток, белый, как день, желанный, как сама жизнь, чтобы напоить доверчивое глупое существо, которое тычется в мои ладони.
Коровий детёныш жалобно мычит, вытягивает губы и смотрит на меня большими круглыми глазами, в которых отражаюсь я, смеющийся, весёлый, кудрявый. Потом тянет меня за рукав туда, где отец размашисто косит луг, и молчаливые, покорные травы ложатся у его ног под стремительным неотвратимым посвистом ныряющей косы. Отец идёт по травам, топча большими сапогами обескрыленные и вялые цветы, которые только что тянулись к лучезарному небу на своих тоненьких качающихся ножках.
Вдалеке, из-за горизонта, мимо высоких радуг, не замечая их, приближается мать. В руках у неё большое блюдо, которое я так долго искал. А в блюде, золотыми кольцами возвышается горка городских кренделей, рядом узкогорлая бутылка с молоком, заткнутая бумажной пробкой – обед для моего родителя.
Мать тихо и грустно поёт песню, каждое слово которой колет и режет моё детское сердце:
Цвели, цвели цветики.
Цвели и опали.
Цвели и опали —
Их люди стоптали…
Я бегу навстречу матери. Обхватываю её руками, тычусь лицом в подол голубого шёлкового платья, которое мать надевает только по праздникам, и горько плачу неизвестно отчего.
Откуда у неё это платье? Ведь она ещё летом обменяла его на мешок картошки, которую нам хватило до своей, молодой, и есть лебеду не пришлось…
Со всхлипом я просыпаюсь.
В доме душно, наверное, топится печь. Я, не помня событий прошедшей ночи, ныряю в отцовские валенки и выбегаю за дверь. Красавка мычит рядом за стеной надрывно, всхлипывая по-бабьи. В сенцах на дощатой скоблёной ножом чистой столешнице лежит раздетый телёночек…
Весь ужас ночи встаёт передо мной, накрывая тяжёлым и жёстким одеялом солдатского сукна…
Помню потом, как мать, уговаривая меня, долго не могла оторвать моих рук от холодных досок стола. Предметы стали вырастать до невероятных размеров, заполняя всё окружающее пространство. Мать на руках отнесла меня в дом и положила на кровать, прикрыв стёганым одеялом. Я задыхался под ним и что-то кричал. Мягкие кошачьи лапки болезни стиснули моё горло, и не было возможности поднять руки и разжать их тесных объятий.
Я тяжело и долго болел. Мясной горячий бульон, которым мать пыталась накормить и вылечить меня, вырывался обратно, вызывая мучительные толчки в животе. Отец, старался не смотреть в мою сторону. Виновато курил и, тяжело вздыхая, ходил взад-вперёд по избе, и половицы под ним жалобно вскрикивали.
Однажды ко мне в гости пришёл мой Коласа, хвалясь тем, что врачи его поставили на ноги, и теперь он уже запросто может ходить в школу, если обувка найдётся.
– Лежишь? – сказал он, усаживаясь по-мужски на придвинутый к моей постели табурет.
– Лежу.
– А мне вот катанки стали велики! – скинул он подшитый валенок и показал мне ногу. Нога, опутанная голубыми ниточками вен, стала почти прозрачной, и тонка кость, проступала сквозь кожу от ступни до колена.
– А у меня нарыв в горле, – предупреждаю я. – Ты ко мне близко не подходи, заразишься.
– Не, я теперь не заболею! – отвечает он, ковыряя какой-то щепкой во рту. – Мясо в зубах застряло. Мне твоя мать, во, какой кусок отвалила!
У меня снова начинается рвота. Коласа долго стучит по моей спине, так долго, что из горла идёт кровь.
Всплескивая руками, ко мне подбегает мать и начинает отпаивать горячим молоком с мёдом. Где она раздобыла в ту пору мёд, я не знаю.
Коласа ушёл домой, а я стал быстро поправляться и снова пошёл в школу. Та давняя кошмарная ночь потихоньку забылась, да и многое забылось с тех пор. Но в грустный, ненастный час нет-нет, да и вспомнится тихая печальная песня – «Цвели, цвели цветики…»









































