Читать книгу "Такая вот… Дети войны"
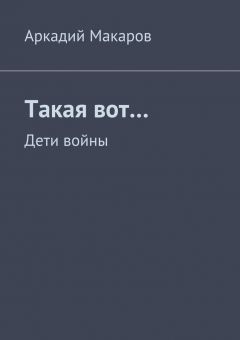
Автор книги: Аркадий Макаров
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
Утин
Нож, соскальзывая, прошел по касательной, не доведя дело до конца. То ли рука была не верна, то ли густая, сваленная шерсть мешала лезвию проникнуть в горло и располосовать шейные жилы так, чтобы кровь красным полотнищем хлыстнула по оцинкованной жести таза, освобождая жертву от жизни.
Топоча и перебирая ножками часто-часто, как балерина в танце, подо мной, обезумев от страха и боли, билось несчастное существо, обреченное на заклание.
То, что я намеревался совершить, надо было делать быстро и хорошо. Во-первых: в глазах двух пожилых женщин я бы потерял лицо, как начинающий мужчина, на которого можно положиться, во-вторых: я бы не оправдал доверия своего нового школьного товарища Пашки Мотовилова, с которым я недавно близко сошелся. Показать себя слабым и беспомощным в нужный момент – самое последнее дело в товарищеских отношениях.
Мотовилов приехал из дальней, периферийной, как называли наши учителя, деревне после семилетки продолжать учебу в средней школе.
У нас в Бондарях, как в районном центре, была десятилетка, одна в округе пятнадцати километров, на восемь деревень. Школа старая, земская с хорошими учителями, с небольшими, но светлыми классами. Учись, коли, есть такое желание!
Конечно, за десять-пятнадцать километров каждый день в школу не находишься и не накатаешься, да и велосипеды были не у многих.
Школа находилась в кирпичном двухэтажном здании, переделанном когда-то земством из бывшего трактира. Спальными помещениями под интернат никак не располагала. Родители размещали своих рвущихся к учебе и постижению житейских мудростей чад на квартиры к знакомым или родственникам, или, вообще, за небольшую плату снимали квартиры у одиноких, вдовствующих женщин, которых у нас в селе было – через дом,
В то время деньги, за обучение в средней школе, уже не брали, так что желающих получить десятилетнее образование было немало.
За седьмым, количество параллельных классов в нашей школе увеличивалось вдвое, и в каждом по сорок и более человек. Нагрузка для учителей – неимоверная, но, надо отдать должное, несмотря на это, учили они нас тогда на совесть, как говориться, «с пристрастием».
После осенних погожих дней, как только начиналась распутица, классы редели, но все равно в школе было тесно, и старшие классы занимались в разные смены. Мы с Пашкой учились с утра, поэтому послеобеденное время и ранние вечера были наши.
Мы вольничали.
Мотовилов раз или два в месяц по выходным дням уезжал в деревню за продуктами: мучицы, пшенца привезти, если повезет, то и сальца, или даже мясца.
Сальце и мясцо съедалось всегда почему-то быстро, но остальных продуктов хватало до следующей поездки, в колхозах вожжи приспустили, и жить было можно.
Пашкиной жизни, вольной, без родительского глаза и руки я всегда завидовал. Пашка был уже хозяин своей судьбы, мужик, а я кто? Все еще сынок! Нудная жизнь. Вечер, – на улицу охота, а у меня за спиной: «Когда будешь учить уроки? Когда за ум возьмешься?»
Пашке хорошо, Придешь к нему, а он жил на квартире у двух старушек-сестер, монашек нашей церкви, сестер всегда не было дома, придешь к нему в избу, а он сидит на чепурочках перед голландкой, подбрасывает дровишки и покуривает самокрутку настоящую, из домашней махорки. Затянется, цвиркнет струю в огонь, и снова затянется, и никто ему ни слова, ни полслова – дя-дёк! А то еще привезет бутылку самогона, нажарит картошку со свининой, лучку накрошит, и давай меня угощать. Сам выпьет и мне нальет, и смотрит, чтобы я не схалтурил, а все подобрал до дна, иначе – какая закуска? Не хочешь пить, и закуску не тронь, добро не переводи.
А картошка на плите скворчит, салом плюется, аромат во всю избу – не удержаться. Дома, вроде, мать станет кормить – а все не то! Не хочется. А здесь, слюну не подберешь, язык проглотишь. Вроде жареной картошки никогда не ел.
Вздохнешь, и садишься, проталкивая в себя вонючую, как керосин, жидкость.
Но вот, когда выпьешь, обмакнешь краешек свойского, деревенского хлеба в кипящий жир, положишь в рот, и вся противность сивухи сразу исчезает, только еще больше есть хочется.
Мой отец, любитель крепкого словца, на этот случай всегда говорил, что у чужого барана яйца всегда больше.
Да, кстати о баранах, с чего я и начал свой рассказ…
В те времена хрущевского послабления, по осени, где-то после первых заморозков, у нас в Бондарях на рынке бараны были нипочем. Может быть чуть больше стоимости мешка картошки.
Овец на базар воскресным днем из ближайших деревень сгоняли десятками. На трудодень денег не платили, а всякая живность была ходовой валютой, конвертируемой во что угодно. Сюда за дешевизной приезжали не только из Тамбова, но даже московские гости старались по случаю прикупить к отъезду пару-тройку ярочек, чтобы потом, набив чемоданы первоклассной бараниной, обрадовать гостинцами своих домашних.
Овец покупали живьем. Это было гораздо выгоднее, чем покупать мясо на развес, к тому же голова, ноги, кожа и внутренности – «гусек», как у нас называли, шли задарма, так сказать, в нагрузку.
По первозимку, по свежей пороше, помниться, отец с базара приводил на коротком поводке покупку, отпускал ее во двор прогуляться, а сам садился к печке, закуривал, грел руки у огня и все расхваливал свою удачную сделку – и баран-то хорош, пудика на два потянет, и продавец ему оказался знакомым, с Прибыток, Иван Похмелкин, в детстве еще вместе по девкам ходили. Почти задаром отдал. И ладиться не стал. Говорит: «Бери, Василий! Хлебом кормил. Другому бы не отдал, а тебе – бери! С него ведро сала натопишь. Кабанчик, а не баран! Давай порукам, Василий!»
Отец в это время становился, разговорчив, от него попахивало морозцем, водочкой и, почему-то свежей рябиной.
Покурив, он доставал с полки узкий и длинный брусок с деревянной ручкой, который летом всегда брал с собой на сенокос. Доставал нож, нет, не тот которым обычно режут хлеб, а другой, с широким лезвием и узким по-утиному вытянутым концом. Этим ножом, сделанным из старой косы, отец всегда пользовался для приготовления корове соломенной резки. Он тот нож мне никогда не позволял брать в руки, им запросто можно было отчикать себе пальцы.
Поплевав на лезвие, отец делал несколько быстрых касательных движений бруском, брал газетный лист, и медленно, как смычком, проводил ножом поперёк листа, если лист не раздваивался, отец снова, но теперь уже круговыми движениями, обмакнув брусок в воду, скользил им вдоль лезвия, иногда отрываясь и пробуя жало ногтем. Затем снова, держа навису двумя пальцами газету, резал бумагу – все! Нож можно было употреблять в дело:
– А ну-ка, хрен моржовый, – говорил он, мне, веселея, – пошли во двор!
Я уже знал, что мне не отвертеться, брал гремучий жестяной таз и выходил вслед за родителем.
Отец, ласково подозвав валушка, давал ему хлебную корочку, с легким матерком оглаживал его плотный шерстяной загривок, затем легко прихватывал горстью узкую подернутую чернью, характерную баранью мордочку и запрокидывал ее, полоснув без нажима, играючи по войлочной шее.
Не пропустив этого момента, я должен был быстро под хлынувший широкий красный рукав подсунуть свой тазик. Попробуй, промахнись! На землю не должно упасть ни капли крови, иначе можно быстро, под горячую руку, схлопотать чувствительный подзатыльник.
После молниеносного движения ножа шея животного разламывалась, отец, отложив нож, перехватывал у жертвы передние ноги, прижимал коленом туловище, а задние ноги несчастного существа в это время, вслепую, все продолжали отталкивать и отталкивать от себя морозную кочковатую землю с вмерзшими в нее пучками соломы и коровьими лепешками.
Пока вспененная в тазу кровь осаживалась, из перерезанной гортани животного с тяжелым всхлипом выдавливалось последнее дыхание, ноги, лениво потягиваясь, уже не скребли землю, а медленно подрагивали.
Отец садился рядом на пенек, не спеша крутил «козью ножку» а я тем временем относил тазик с загустевшим содержимым в дом, к матери, она освобождала тазик, и я снова возвращался во двор.
Докурив цигарку, отец начинал прилаживать перекладину – «проножку» в виде деревянной вешалки для пиджака, к задним ногам животного. Затем в кольцо, вделанное в дверной проем сарая, он пропускал веревку и подтягивал барана к верхнему косяку.
Я стоял на подхвате и расторопно помогал отцу, угадывая его намерения. Отец одобрительно крякал, хлопал меня по спине, показывая глазами, чтобы я пододвинул поближе к его ногам тазик.
Мать тем временем уже грела на плите воду. Горячая вода потребуется потом для обработки внутренностей. Самая хлопотная в этом деле процедура.
Как говорят в народе, «Каждый баран будет подвешен за свои ноги». И вот он уже висит вниз головой, слегка покачиваясь и цепляя запекшимися губами щербатый порог.
Круговым движением ножа отец отделяет голову от туловища и бросает ее, не глядя, на землю. Ощеренный в застывшей улыбке рот открывает великолепной белизны мелкие зубы, Пушистые бакенбарды и завитые в спираль глянцевые рога придавали бы голове живое, осмысленное выражение, если бы не косящий темно-карий глаз, на котором лежит и не тает слетевшая с неба снежинка.
Маленькие поленца ножек лежаться тут же.
Затем отец быстро, как раздвигают застежку-молнию, проводит ножом сверку вниз, и из-под распахнутой шубы показывается белое, вельможное тело. Теперь, работая одним кулаком правой руки, отец быстро снимает шубу, а я поддерживаю ее за края, чтобы не вывалять в сору и навозе.
Сложив шубу аккуратно, мехом вовнутрь, отец относит ее в сени и кладет на старый сундук. Кожу можно потом сдать, и получить за нее деньги в заготконторе.
Теперь тело совсем беззащитно в зябком, морозном воздухе.
Отец возвращается, руки у него в сале, пальцы растопырены веером.
– Ну-ка, япона-мать, сверни отцу цигарку!
Я лез к нему в карман телогрейки, доставал кисет, сложенную в гармошку газету, спички, и начинал мастырить привычную для него «козью ножку». Табак был крупчатый, пахучий, вымоченный в молоке, с желтыми соринками донника.
Отвернувшись, как будто загораживаясь от ветра, я долго раскуривал самокрутку, стараясь при этом, как можно больше и глубже заглотнуть ароматный и неудержимо-притягательный густой дым. Отец тянул руку, пристально смотрел на меня, брал цигарку и, затянувшись, долгой струйкой выпускал в морозный воздух голубоватый дым.
– Ишь ты, бродяга! Лучше отца научился цигарки крутить.
Уши бы тебе оборвать, да руки заняты. Держи таз!
Он ловким продольным разрезом вскрывал у освежёванного барана брюшную полость, и в таз вываливались в ослепительно-белых воланах сала, исходящие паром, податливо-упругие внутренности.
Отец просовывал в полость по самый локоть руку, что-то искал там и, нащупав, резко дергал. В подъятом кулаке он держал одной связкой всё, что жило, дышало и билось несколько минут назад в лохматом симпатичном существе.
Теперь туша стала пустой и легкой, с дуплистым нутром, и медленно вращалась вокруг своей оси, остывая и дубея на холоде, превращаясь просто в обычное мясо – баранину.
– Неси этот бутар матери! – отец показывал рукой на таз. – Пусть печенку жарит. Да скажи, чтоб на чекушку денег дала. На ноги, я знаю, ты быстрый, вчера вон как по улице гонял. Пока печенка будет готова, ты два раза обернешься! – потом, немного подумав, добавлял: – Скажи, пусть на поллитру даёт, покупка уж больно хороша, обмыть надо!
Я топтался на месте:
– Не, не даст
– А ты почем знаешь! – подозрительно произносил он.
Знаю. Не даст. Она мне сегодня на кино, и то не дала. Говорит:
«Без кино обойдешься. Нет денег. Тебе, вон, валенки покупать надо».
Н-да… – отец тыльной стороной ладони тер подбородок. —
Н-да… Что вам ножки? Винца иль сапожки? «Винца! Винца!». Так и
ты матери скажи: «Валенки подождут, а отцу ждать некогда. Он
выпить хочет. «Ну, иди! Чего топчешься!
Я брал отяжелевший таз в руки и уносил домой. Там, тихим голосом говорил, что отцу надо бы четвертинку взять. Я бы сбегал… Баран здоровый, во какой! – и растягивал руки.
Мать, немного подумав, лезла в горнушку – отверстие в русской печи для сушки варежек, голиц, носок и других мелких вещей, доставала деньги и совала мне:
– Сдачи, чтоб все до копейки принес!
Я кивал головой и убегал, чтобы мать, раздумав, меня не воротила.
По первозимку бежать – одно удовольствие. Снежок под ногами: – хруп-хруп, хруп-хруп! После осенних нашенских непролазных грязей, улица непривычно светлая, ровная, как с чистого листа. Над крышами дымы стоймя стоят, небо подпирают. Воздух пахнет свежеспиленным деревом, поваленной сосной. Ноги пружинистые, несут, сами знают куда. Четвертинка уже за пазухой, сдача в кармане звенит. От нашего дома издалека мясным духом тянет. Не на всякий день такой обед дожидается. Отец выпьет – отмякнет. Он всегда, когда пьет, добрый. Хвалить меня начнет. Мужиком называть. Небось, не вспомнит, что его завтра из-за меня в школу вызывают. Ни за что директор на меня взъелся. Ну, пошутил немного. Марии Спиридоновне, математичке, за вредность калоши к полу прибил. Она в очках, не видит, сунула туда валенки, хотела шагнуть, с размаху головой в стенку и кинулась.
Директор исключить обещал. Может, повезет?..
Я заворачиваю сразу на «зада», за сарай. Отец барана уже на пеньке разделывает, и куски в ящик складывает. Холодильников тогда не было, а морозы, ой-ой-ой какие! Если схватили, то уже не отпустят. В сенях до самого Рождества мясо пролежит, как в леднике.
Я стою, нарочито медлю. Потираю ногу об ногу. Молчу.
Отец оглядывается:
– Ты чего?
– Да, ничего. Вот принес – с безразличным видом говорю я.
– Чего принес? – не совсем понимает отец.
– Ну, чего просил. Водку принес, вот чего!
Отец, было, размахнувшись, опускает топор на пенек.
– Аль, правда!
Я достаю из-за пазухи четвертинку и показываю ему. Отец весь подобрался, засиял. Топором шибче: топ-топ, топ-топ. И – все! Туша в аккурат, в ящик уместилась. Куски один к одному. Бумагой перестеленные.
Родитель легонько подхватывает ящик, идет в сени, и ставит его высоко на полку, чтобы кот не спрокудничал.
Так, – инструмент по местам, и – в дом, пора и за стол садиться.
В тот раз мать печенку не жарила. От раскаленной печи до самых дверей душной шубой шел такой аппетитный запах, что ноги сами понесли меня к столу. Там на деревянной подставке, в большой чугунной сковороде, еще не успокоясь, еще пузырясь и вздыхая, лежали толстые и дутые, поджаренные со всех сторон кровяные колбаски, начинённые кусочками бараньего сала, чесноком и перцем. Вкус умопомрачительный! С тех детских лет я ничего подобного уже не пробовал. В памяти остались вот эти колбаски и еще пшенный кулеш с кусочками бараньих кишок – ушник, как у нас в Бондарях называли это блюдо, от которого так призывно тянуло ароматом костра и диких степных кочевий.
Помню керосиновую лампу с плоским жестяным абажуром, свисающую на тонком проводе с потолка, и нас, сидящих за столом, накрытом старой, потертой, в многочисленных порезах клеенкой. Забылось многое, а этот вечер навечно остался в моей памяти. Мать, отец. Семья. Дом, от которого и следа не найдешь.
Да…
Но надо вернуться к началу рассказа.
Так вот, чтобы зарезать и разделать барана у меня умозрительный опыт давно уже был. Подумаешь, делов-то! Перепахал ему ножом горло, слил кровь, повесил за проножку и давай шкурить. Вот и вся забота.
Так думал я, согласившись вместе с Пашкой Мотовиловым забить у его хозяев – двух сестер-монашек, только что купленных «ярочек», которые, обе-две, слабо блеяли, привязанные у дома к палисаднику.
Эти монашки жили на отшибе, в том конце села, который называется почему-то Дунаем. Монашки жили обособлено. Ходили всегда в тёмном – то ли траур по убитым на войне мужикам, сестры так и не вышли замуж, то ли такая одежда была более угодна Богу. Бондарские воинствующие горлопаны-атеисты подсмеивались над ними, обходили стороной и считали их ненормальными. Женщины на это не обижались. При необходимости безотказно лечили мальцов от сглаза, от порчи, грыжу заговаривали, рожу, пупки вправляли, отчитывали от дурного наговора баб, то есть помогали сельчанам по мере своих возможностей. Дружбы они ни с кем не водили, и от этого казались еще более странными.
Не знаю, почему они взяли на постой моего друга, мальчика из дальней деревни, ведь плата была почти никакая, а забот с подростком можно было нахвататься.
Пашка Мотовилов на житуху не жаловался, жил, как хотел, только вот курить они ему в доме не разрешали, и Пашке приходилось смолить цигарки на улице. Пашкину отцу они никогда не жаловались, и Пашкин отец тоже был доволен.
В это воскресенье я, как всегда, сидел с Пашкой на завалинке, пуская голубой табачный дым в голубое звонкое от небольшого морозца небо. Нам было хорошо. Пашка, он головастый, задачки решил само-собой, и мы к завтрашнему дню были готовы. Устные задания мы никогда не делали, достаточно было предыдущего урока и короткой перемены, чтобы быстро разобраться, что к чему. А, что может быть лучше беззаботного времяпровождения? Только точно такое же, но уже в другом месте. И мы с Пашкой почти договорились пойти еще куда-нибудь, может ко мне домой, как из-за угла, семеня ногами, показался дед Ларион, придерживая рукой поясницу.
Деда Лариона мы хорошо знали. Он часто приходил к нам в школу и рассказывал о своей боевой молодости, как он помогал укоренять в Бондарях Советскую власть, как делал на кулаков облавы, и какой он был ловкий в поисках излишек зерна, которое это проклятое отродье, почему-то никак не хотело отдавать добровольно. «Приставишь наган к брюху такого кормильца, он сразу и в штаны напустит, извиняюсь, свое зерно отдаст, да еще и на соседа укажет. Такой народ несознательный! – хитро улыбался дед Ларя, вспоминая свое удачливое время.
– Девки дома? – постанывая, обратился он к нам.
Мы с другом недоуменно переглянулись.
– Ну, монашки ваши! Христовы невесты!
– Дома. А куда же они денутся. Вон овец с базара пригнали. Наверно, резать будут? – Пашка завернул к палисаднику, ухватил двумя руками овцу, стоявшую поближе к нему, за шерсть
оторвал от земли. Животное задергало в воздухе ногами и жалобно, почти по-человечьи заблеяло.
– Тяжелые, сволочи!
Дед Федоскин, по-имени Ларя, подошел, нырнул пятерней в овечий загривок, пощелкал языком и ничего не сказал.
Услышав разговор, из дома на крыльцо вышла одна из сестер.
Илларион Семенович, никак опять спина расхворалась? —
озабочено спросила она Федоскина.
– Ох, Клавдия, Клавдия, мочи нет! Грехи-то наши тяжкие, они,
как гири, завсегда на позвоночнике висят. Вот и гнут старика,
говорят: «Гордый ходил, а теперь в землю кланяйся, ирод проклятый!»
– тут же елейным тоном заговорил дед. – Вот ты, надысь,
утин секла, мне сразу и полегчало. Мог людям прямо в глаза смотреть, а теперь опять вот, вроде, деньги на земле ищу. Может посекёшь, а? А бараны – ничего, ничего. Почём брала-то? Да, они, цены-то, кусаются. Кусаются… Милая, ну, – вернулся он к своей болячке, – пособишь, нет? Выгони этот проклятый утин!
Баба крапивой секла – не помогло. Пчел по десятку на поясницу сажал – не полегчало, а с твоей руки, как корова языком слизала. Ну, сразу помолодел!
– Заходи. Заходи, Илларион Семенович. Всё в руках Божьих. Господь поможет, отойдет от тебя утин этот. Отпустит.
Дед Ларя с благодарностью закивал головой, поднимаясь по ступенькам в избу. Мы с Пашкой, переглянувшись, нырнули за ним. Все же интересно, что это за утин такой, который деда Федоскина за холку к земле гнет.
– Павел, сходи во двор, голик принеси, да топор захвати!
женщина провела деда в избу, отворила дверь и велела Федоскину ложиться на пол головой на порог из дома к выходу.
Дед, кряхтя и постанывая, опустился на четвереньки, затем лёг на живот и положил голову на чистый, скобленый ножом порог.
Пашка принес веник и топор, и все передал в руки монашке Клавдии. Та положила веник, прутьями по направленью из дома, на спину деду, что-то быстро-быстро прошептала, трижды перекрестилась и начала мелко-мелко, понарошку, сечь топором прутья веника.
– Ой-ей-ей! Ой-ей! – стонал Федоскин, не поворачивая головы, – Что ты делаешь, матушка?
– Утин секу, батюшка!
И опять:
– Что ты делаешь, матушка?
– Утин секу, батюшка!
– Секи! секи его, окаянного! Чтоб ему пусто было!
Повторив этот диалог три раза, монашка Клавдия брезгливым жестом отшвырнула веник в дальний угол сеней, и туда же бросила топор. Затем опять, что-то шепча, трижды перекрестила дверной проем.
Дед Ларя поднялся, глаза его оживились. Он растирал ладонью затекшую шею.
– Тёть Клава, а что такое – утин? – спросил изумленный
Пашка.
Мне тоже было интересно.
– А Господь его знает. Утин и утин. Меня так маманя учила,
так и я делаю. Ломота в пояснице что ли?..
Федоскин на глазах распрямлялся, как упругий стебель.
– Ты, Клавдия, только скажи. Я вам тоже чем-нибудь пособлю. Суседское дело. Куда денешься?
– Илларион Семенович! – окликнула его из-за занавески сестра Клавдии. – Тебя сам Господь прислал! Мы двух ярочек купили, видел, небось, у палисадника. Резать надо – дело-то мужичье. Может, справишься, а?
– И-н, девка! – помешкав, запел дед Ларя. – Резать, оно, конешно не рожать, мужик нужон. Дак, какой я теперь мужик, один
обиход остался. Вот, когда в коллективку сгонял, я, ведь, молодой был. Мне, что резать, что из нагана завалить – рука всегда тверёзая была. Голова, как качан квашеный, а рука не дрогнет. Нет! Бывало, Иван Степаныч, ну Горгор, его еще Грозным обзывали. Ну, помните, в комбеде начальником был? Бывало, как гаркнет: «Ты, Ларион, нонче вон того кулацкого бугая в расход пусти, чтоб к вечеру жбан стоял, и печенка жарилась! А бугая мы спишем. Ногу вывихнул – вот и вся недолга!» – тут дед Федоскин запнулся, скумекав, что сказал что-то совсем не то, и сразу перевел разговор на нас с Пашкой. – Вот они, партизаны наши! Комсомольцы-добровольцы. Они, не то что барана зарезать, а и на кобылу без подстановки взапрыгнут. Управитесь с ярками, али как? – почему– то, обращаясь ко мне, спросил он.
– Али как – не будет! – выскочил вперед Пашка. – Тимуровцы всё могут. Теть Клашь, давай нож!
– Никак, справитесь? – женщина протянула Пашке широкий, тяжелый косырь, которым скребут полы. Но на тот нож Пашка даже и глядеть не стал. Взял со стола тонкий, наполовину стертый хлебный с узкой металлической ручкой, и со знанием дела потрогал пальцем острие:
– Как обух!
Белобрысая чёлка делала его похожим сразу и на Сергея Тюленина, и на Олега Кошевого, наших молодогвардейских кумиров, таким героическим он сейчас выглядел.
Дед Ларя, убедившись, что мальчишки его выручат и сделают все, раскланявшись, пошмыгал ногами к выходу. Монашки, посомневавшись, вернулись к своим делам, обсуждая, кого бы из сельских мужиков позвать для столь необходимого дела: " А Павел, Господь с ним, дитё еще. Всё помочь хочет, дай Бог ему здоровья!»
Я вышел вслед за дедом на улицу. Мой друг уже, сидя на корточках, ловко наводил жало на гибком, пружинистом лезвии кухонного ножа.
Ты что, взаправду собрался овец шкурковать? – подсел я к нему. – Не боишься?
А чего бояться! Мне это, как два пальца об асфальт. – Пашка, поплевав на лезвие, снова зашмыгал им по кирпичу.
Я с интересом на него посматривал, возбуждаясь от предстоящего действа. Мне приходилось до этого раза два отрубать цыплятам головы, и то, зажмурившись. Но сегодня я не хотел показать свою слабость и отстать от товарища.
– Тащи таз, кровь сливать будем! – Пашка вытер пучком травы лезвие и отвязал одну овцу. – Да в сенях не греми, чтобы старухи не услыхали. Я этих ягноков в один миг оженю! – Пашка, матюкнувшись, по мужичьи сплюнул себе под ноги.
Я вернулся, в сенях осторожно снял с гвоздя таз, и потихоньку снова подошел к Пашке.
Тот, сжав несчастную жертву между ног, держал в горсти ее оттенённые чернью губы.
Животное крутило мордой, норовя освободиться от Пашкина зацепа, и било задними копытцами подмерзшую бондарскую землю.
– Ставь таз! – прохрипел мой товарищ, потягивая из-за голенища нож.
Я еще не успел, как следует подсунуть таз, как в Пашкиных руках шея животного разломилась и о жесть ударила густая, широкая, пахнущая морскими водорослями струя. Животное несколько раз дернулось, брызгая кровью, и затихло.
Другая ярка у штакетника, почуяв запах убоины, стала по-детски мекать и рваться с привязи.
На крыльце показались сестры-монашки, вероятно заинтересованные вознёй у дома.
Пашка стоял, зажав в кулаке нож, в позе воина-победителя, у ног лежало поверженное и затихшее существо.
Сестры-монашки вопросительно смотрели на моего друга.
– Павел! – сказала одна из них. – Павел, что же мы теперь
будем делать? Зачем ты беспроша самоуправствуешь? За мужиками идти придётся…
– Я, щас! – Пашка нырнул в сенцы, принес конец веревки
и небольшое березовое полено. Ловко остругав его, он сделал
из полена проножку, привязал к ней веревку, и вот уже ярка
лежит кверху брюхом с распоркой в задних ногах. Осталось только её подвесить вниз головой и ошкурить.
Сестры, видя целеустремленную и умелую Пашкину работу, успокоились, и теперь с любопытством поглядывали на дальнейшие действия.
– Ну-ка, помоги! – Пашка перекинул веревку через сук кривой и тощей ветёлки, растущей здесь же у палисадника. Beтёлка только согласно кивнула и, спружинив, мягко закачала меховой мешок, набитый мясом.
Я был сражен Пашкиными умением и способностями.
– Держи! Чего уставился? Шкуру надо снимать, пока мясо не остыло.
Я ухватился обеими руками за тушу, погружая кисти рук в теплую шерсть.
Пашка владел ножом не хуже моего отца. Отняв по суставам тонкие с лакированными копытцами ноги, он несколькими взмахами ножа обезглавил туловище, и, сделав меж задних ног поперечный надрез, медленно, сантиметр за сантиметром, стал, помогая ногтем большого пальца правой руки, снимать овечью шкуру сверху вниз, заворачивая ее чулком.
Я попытался помогать Пашке, но он, сказав: «Не лезь!», продолжал, сопя, выпрастывать тушу из её вместилища. Кусочки сала на мездре он деловито соскребал ножом и бросал их в уже опорожненный таз.
Кровь монашки вылили на землю. Она чернеющей грудкой еще дымила на подмороженной, с беловатыми блестками траве-мураве.
– Господь не велит. Грех. В ней душа овечья – на мой вопрос, почему её нельзя есть, ответила одна из них.
Вот уже бледно голубоватая кожа, мехом вовнутрь, лежала у дерева в налипших крошках земли и прочего мусора. В тазу парили внутренности. Дело было сделано. Пашка вытащил у меня из губ цигарку и присел на корточки, гордо покуривая, выхваляясь своим мастерством.
Туша была готова. Сестры-монашки, отказавшись от моей помощи, отнесли ее в сени.
Теперь Пашка передал нож мне, кивнув на плачущую и отчаянно рвущуюся с привязи неизбежную жертву. Я глянул в её влажные и темные, как ночь, глаза, и, не выдержав, отвернулся:
– Твоя очередь. Действуй, а я пока покурю.
Схватив нож, я, собравшись, решительно перерезал привязь, держа рвущуюся ярку за густую горячую шерсть на холке.
Вместе со страхом я чувствовал непреодолимое влечение охотника к своей жертве. Такое чувство охватывает тебя на краю обрыва – и сердце замирает, и посмотреть охота. У Пашки получилось, а я чем хуже!
Оседлав животное, я обнял ее левой рукой за шею и, зажмурясь, быстро полоснул ножом по густой и мягкой в завитках шерсти. Ярка мгновенно просела, как будто у неё подкосились ноги, и она, рванувшись, выскочила из-под меня. С каким-то всхлипом, мотая головой и поливая кровью подмерзшую землю, чумея от боли, животное рванулось прямо в густые заросли бурьяна и, запутавшись в жестком репейнике, спотыкаясь и падая, норовило выскочить из собственной кожи.
Мы с Пашкой бросились ловить свою жертву.
Это было нетрудно сделать, так как раненое животное, хотя еще и не смирилось, но уже начало терять силы, и только било, и било ногами, сбивая, высокие жилистые стебли и брызгая кровью на жухлые листья.
Пашка, матерясь, отобрал у меня нож и сказал, чтобы я держал овцу за ноги, которые резко и беспорядочно дергались, а сам, зайдя сбоку, поймал узкую, с изящным вырезом ноздрей черненую мордочку, и резким движением впритык сунул пружинистое лезвие в горло, туда, где сваленная окровавленная шерсть парила на воздухе, чистом и морозном.
Ноги в лаковых копытцах сразу перестали дергаться, и животное теперь лежало смирно, откинув назад, к спине, угомонившуюся голову.
– Ты эту, недорезанную, шкуркуй сам – сказал Пашка, проталкивая заостренные концы проножки в подколенные связки овцы, пока я, пачкаясь кровью, держал навису сразу обмякшую, сползающую вниз жертву моей нетвердой руки.
Чулком снять шкуру мне не удалось, и я, вспоминая последовательность действий отца, когда он раздевал того барана, норовил сделать то же самое.
Намучившись, каким-то образом мне все же удалось снять кожу с несчастного животного, и теперь вся исполосованная надрезами, с оборванными концами она валялась у ног, уже никому не нужная.
Сёстры-монашки, ни в чём меня не упрекая, оттащили шкуру в овражек, куда жители сбрасывали всякий ненужный хлам.
Пашка потом, обзывая меня козлом, долго соскабливал ножом клочки шерсти и кожи с розовой, в белых прожилках сала, быстро остывающей и коченеющей на холоде туши.
Ранний осенний вечер быстро густел, смешиваясь с низкой облачностью. В окнах уже зажегся свет, отчего сумерки стали еще гуще, а облачность еще ниже. Вот-вот должен повалить снег. Пашка по-хозяйски взвалил тушу на плечо и понес в сенцы, туда, где в углу, теперь уже без дела, валялись топор и веник, успешно выгнавшие из деда Федоскина ненавистный утин.
Монашек не было видно. Теперь уже уверенные в исключительных способностях своего квартиранта они, по всей видимости, готовили нам достойный ужин.
От кизячного дыма над крышей тянуло праздничным теплом, уютом и тем самым запахом топленого жира, который так будоражит аппетит и связанные с ним соображения.
Как всегда в молодости, есть хотелось неимоверно, и мы с нетерпением ждали, пока сестры нас позовут, нервничая, – накормят – не накормят.
– Мальчики, ну, где же вы? Заходите в дом! Все готово.
Опомнившись, мы остановились у порога. Как не крути, а работу всё-таки выполнили, и теперь нам следовало держаться по-мужски, солидно и уверено.
В доме было светло и чисто. На плите, судя по запаху, доходила печёнка с луком. Пашка толкнул меня в плечо, показывая на умывальник.
Конечно! Какой разговор? Гигиена – первое дело! И мы, громыхая соском, похожим на перевернутый вниз шляпкой, гвоздь, большой и толстый, стали мыть руки.
Мыло в холодной воде никак не хотело мылиться, пена на ладонях становилось скользкой и вязкой, как глина.
Одна из сестер взяла большой алюминиевый ковш, зачерпнула горячей воды из ведерного чугуна на плите, разбавила холодной водой и стала услужливо поливать наши руки.









































