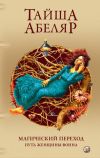Текст книги "Индивид и социум на средневековом Западе"
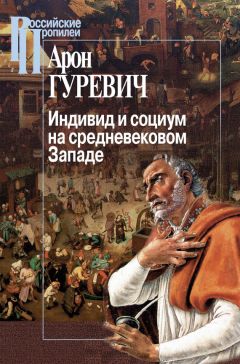
Автор книги: Арон Гуревич
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 34 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
В сагах есть еще один «персонаж», то отходящий на задний план, то выступающий вперед, но постоянно присутствующий в сознании героев. Это – судьба. Как уже было сказано, судьба у германцев и скандинавов – не стоящий над миром фатум, слепо раздающий награды и кары независимо от тех, кому они достаются. У каждого человека собственная судьба, т. е. своя мера удачи и везенья. По поведению его, даже по внешнему облику люди могут судить, насколько человек удачлив или неудачлив. И сам индивид может знать, какова его судьба. Когда Скарпхедину, сыну Ньяля, несколько человек, не сговариваясь, заявляют, что, судя по его внешности и повадкам, он невезучий, неудачливый и что счастье, как видно, скоро ему изменит и ему недолго осталось жить, то Скарпхедин ничего не может возразить, он и сам это знает. Если он и бранит тех, кто говорит о его «несудьбе», то лишь потому, что на этом основании они отказывают ему в помощи. В одном случае он и сам признается, что неудачлив, парируя мрачное предсказание Гудмунда: «Мы оба с тобой неудачливы, но каждый по-своему» («Сага о Ньяле», гл. 119). Таким образом, индивидуализирован не только герой саги, но и его судьба.
Поступки одних имеют благоприятные последствия, поступки же других, в том числе и людей доблестных, оборачиваются неудачей, влекут их к гибели. Чем это вызывается? Саги не дают ясного представления о причинах удачи или невезенья индивида. С одной стороны, характер его – источник совершаемых им поступков, и потому удача и неудача зависят от него самого. Но, с другой стороны, даже самые мудрые и прозорливые герои саг нередко терпят поражение и гибнут. И тогда оказывается, что судьба не зависит от качеств человека. «Одно дело доблесть, а другое – удача» («Сага о Греттире», гл. 34). Бывают неудачливые люди, которые приносят несчастье тем, кто с ними имеет дело. Таков Куриный Торир (Hœensa Þórir), герой одноименной саги. Правда, помимо неудачливости, он еще и просто дурной человек. Вместе с тем есть удачливые люди, которые приносят везенье и другим. Такого человека называли gæfumaðr, «тот, кто обладает счастьем, удачей и приносит их». Итак, удача – и в человеке, и вместе с тем не зависит от него. Существенно, однако, следующее: человек не должен полагаться на удачу, он должен активно ее испытывать: «Мы не знаем, как обстоит дело с нашей удачей, до тех пор пока не испытаем ее»; «нелегко изменить то, что суждено», но нужно бороться до конца («Сага о Хрольве Жердинке»).
Образцом человека, который терпит неудачу в столкновении с судьбой, несмотря на свои выдающиеся качества, может служить Ньяль. Это мудрый, предусмотрительный человек, сторонящийся конфликтов, во многом способствующий их улаживанию. Впервые вводя его в сагу, автор характеризует Ньяля: «Он был такой знаток законов, что не было ему равных. Он был мудр и ясновидящ и всегда давал хорошие советы» («Сага о Ньяле», гл. 20). И действительно, далее это подтверждается. Ньяль отчетливее других осознает логику развертывающихся событий, но не менее четко понимает, что изменить ход вещей он не в состоянии. Поэтому мудрость его – не столько в предусмотрительности, помогающей избежать зла, сколько в провидении неизбежного. Вероятно, по этой причине его усилия направлены не на то, чтобы отвратить своих воинственных сыновей от участия в распрях, а на то, чтобы не форсировать ход событий. Без колебаний санкционируя акты мести сыновей и слуг, он провидит трагический исход этого крещендо убийств для себя и своих близких. И свои усилия Ньяль прилагает к тому, чтобы неизбежная месть осуществилась в наиболее благоприятных для его семьи условиях. Враги, насмехающиеся над ним и сыновьями, рассуждает он, – люди глупые; значит, нужно действовать лишь тогда, когда вина падет на врагов. «И долго придется вам, – говорит он своим детям, – тащить эту сеть, прежде чем вы вытащите рыбу» («Сага о Ньяле», гл. 91).
Может показаться, будто Ньяль сам создает обстоятельства и воздействует на ход событий. Но если присмотреться внимательнее, то обнаружится, что все советы Ньяля, вопреки ожиданию, так или иначе приводят к несчастью. Он бессилен предотвратить гибель своего друга Гуннара, равно как и убийство любимого воспитанника Хёскульда; в нем он надеялся видеть залог умиротворения – но Хёскульд погибает от руки сыновей Ньяля…
Возможно, в этих случаях нельзя было предусмотреть трагического поворота событий. Допустим. Но вот сцены из «Саги о Ньяле», ключевые как для развертывания центрального конфликта, так, думается мне, и для понимания концепции судьбы в сагах вообще.
Эпизод первый. После гибели Хёскульда Ньялю все же удается достигнуть примирения на альтинге; установлена огромная сумма возмещения за убитого, эти деньги собраны и могут быть немедленно выплачены Флоси и его родственникам. Ньяль считает, что «дело кончилось хорошо», и лишь просит сыновей «не испортить» достигнутого. Поверх всей суммы денег, подлежавших выплате Флоси, Ньяль кладет длинное шелковое одеяние и заморские сапоги. Флоси смотрит на это одобрительно. Но затем он берет в руки шелковое одеяние и спрашивает, кто его положил сюда. Никто не отвечает, хотя Ньяль стоит подле. Флоси «снова помахал одеянием и спросил, кто положил его, и рассмеялся». Смех этот зловещ и предвещает недоброе. Опять никто не отвечает, и тотчас же вспыхивает перебранка между Флоси и сыном Ньяля Скарпхедином, произносятся роковые оскорбления, примирение сорвано. В чем дело? Халль объясняет так: «Слишком неудачливые люди замешаны здесь». Ньяль, еще недавно рассчитывавший на мир, говорит сыновьям: «Вот сбывается то, что я давно предчувствовал: это дело не кончится для нас добром… Сбудется то, что будет для всех хуже всего». Подобные же предчувствия возникают и у Снорри Годи («Сага о Ньяле», гл. 123).
Но зачем нужно шелковое одеяние и почему Ньяль, который его положил, не признался в том, что это сделал он? Это нелогично и кажется непонятным с точки зрения развития сюжета. Общий смысл, очевидно, таков: на самом деле люди не желали примириться, расплата в деньгах их не устраивала (как сказано в другом памятнике: принять возмещение за убитого – всё равно, что «держать сына в кошельке»). Но эпизод с шелковой одеждой и молчание Ньяля в ответ на вопрос Флоси я мог бы объяснить только одним: Судьба вмешивается и перетасовывает все карты. То, что должно свершиться, – неотвратимо. В появлении этой одежды, как и в молчании по ее поводу, нет логики, но вмешательство судьбы иррационально. Это «логика судьбы», а не логика человеческих решений, где что-то можно предотвратить. Судьба вмешалась здесь в решающий момент, после которого гибель Ньяля и его семьи становится неизбежной.
Эпизод второй. Когда враги подходят к дому Ньяля, Скарпхедин предлагает мужчинам выйти им навстречу и дать бой перед домом, но Ньяль настаивает на обороне в доме, и это несмотря на то, что Скарпхедин предупреждает, что враги не остановятся перед тем, чтобы сжечь их в доме. Но ведь Ньяль – мудрый, он видит яснее, чем его сын. Чем же объяснить его слепоту, роковую для него и всех его ближних? Они сгорают в подожженном врагами доме. Возможное объяснение: Ньяль сознательно идет навстречу своей судьбе, понимая ее неизбежность. Еще накануне нападения на дом Ньяля его жена Бергтора, ставя на стол еду, сказала домочадцам, что кормит их в последний раз. Самому Ньялю видится вокруг все залитым кровью. Зловещие предчувствия! Но ничего не делается для того, чтобы избежать гибели в доме. И в данном случае решение иррационально.
Нет ли переклички между такими эпизодами в сагах и сценами в эддических песнях, когда герой поступает опять-таки явным образом иррационально? Невозможно отождествлять этику героической поэзии с этикой саги, но все же отметим известный их параллелизм: внезапное, спонтанное, логически необъяснимое решение героя придает и песни, и саге новое измерение. Тема судьбы тесно связана с установкой на героизацию.
В двух эпизодах, в которых решается участь Ньяля и его семьи, судьба неотвратима. «Несудьба» – центральное понятие этой саги, замечает ее исследователь[75]75
Einar Ól. Sveinsson. Njáls saga: A Literary Masterpiece. Lincoln, Nebr., 1971.
[Закрыть]. Судьба пробивается сквозь все человеческие ухищрения, разрушая планы и намерения людей. И потому самые мудрые и провидящие не могут предотвратить предначертанного судьбою. Конунг Олав Святой так и говорил Греттиру, что тот очень неудачлив и не может совладать со своей злой судьбой: «Ты – человек, обреченный на неудачу». О горькой судьбе Греттира говорят и другие персонажи саги, да и сам он этого не оспаривает.
Судьба, занимающая в саге важнейшее место, – ключевая концепция всего германо-скандинавского эпоса. Она сообщает повествованию огромную напряженность и динамизм. Идея судьбы объясняет смысл конфликтов между людьми и показывает неизбежность тех или иных поступков и их исхода. Подчас она материализуется в виде предметов, обладание которыми дает удачу, а утрата лишает ее. Таковы, например, плащ, копье и меч, подаренные Глуму его дедом; в эти предметы у сородичей была особая вера, но при их утрате удача покидает Глума («Сага о Вига-Глуме»).
Судьба выступает в сагах как взаимосвязь, как логика человеческих поступков, продиктованных нравственной необходимостью, однако эта субъективная, индивидуальная логика поведения осознается и соответственно изображается в виде объективной, от воли людей не зависящей необходимости, которой они не могут не подчиниться. Эпическому сознанию присущ глобальный детерминизм. Он воспринимается именно как идея судьбы.
С темой судьбы теснейшим образом связаны прорицания, видения, вещие сны. Они придают конструктивное единство повествованию, вскрывают внутреннюю связь событий и их обусловленность, как они понимались людьми того времени. Сага не любит неожиданности – аудитория заранее предуведомляется о грядущих судьбах персонажей. Но поскольку предвосхищение это выступает в виде прорицания, напряженность и интерес к повествованию не только не убывают, но, напротив, усиливаются, ведь важно узнать, как именно свершится предначертанное.
Тема судьбы и заведомого знания грядущего доминирует в песнях «Эдды». Сознание исландцев «стереоскопично» – они воспринимали героические легенды на фоне событий собственной жизни или жизни своих предков и вместе с тем эту бытовую жизнь осмысляли в перспективе героических идеалов и образов эддической поэзии. В духовном универсуме средневекового скандинава существовал пласт представлений, восходивших к героическому plusquamperfectum, и таившиеся в нем символы и мотивы оказывали свое воздействие на его поведение. Архаический индивидуализм находил свои пределы и ограничения в образах судьбы, которую, с одной стороны, индивид, казалось бы, формировал своими поступками, но которая, с другой стороны, представляла собой некую внеличную силу.
В контексте анализа вопроса об архаическом индивидуализме средневековых скандинавов мы не можем обойти молчанием нередкие упоминания в сагах персонажей, которые, по их словам, полагались только на «собственную мощь и силу» и не желали совершать жертвоприношений языческим богам-асам. Вопреки суждениям отдельных скандинавистов этих людей далеко не во всех случаях правомерно считать «благородными язычниками», внутренне созревшими для перехода в христианскую веру[76]76
Lönnroth L. The Noble Heathen: A Theme in the Sagas // Scandinavian Studies, 1969, Vol. 41. P. 1–29.
[Закрыть]. Им в равной мере могла быть чужда и религия предков, и новая вера, которую исландцы мирно приняли в 1000 году решением альтинга и которую в Норвегии насильственно вводили короли Олав Трюггвасон в конце X века и Олав Харальдссон (будущий святой) в первой трети XI века.
Как понимать формулу trúa á mátt sinn ok megin, которая встречается в сагах всякий раз, когда речь заходит о подобных безрелигиозных индивидах? Как мы знаем, саги подверглись записи преимущественно в XIII веке, т. е. уже в христианскую эпоху, и потому естественно предположить, что описываемые в них сцены, в которых фигурируют подобные «безбожники», интерпретируются с христианской точки зрения. Немецкий исследователь Г. В. Вебер, специально изучивший вопрос о безрелигиозности подобных героев саг, пришел к выводу о том, что упомянутая аллитерированная формула представляла собой древнеисландский аналог-перевод латинских выражений omni virtute et omnibus viribus или ex tota fortitudine, которые употребляются в Новом Завете. Подобные же кальки нетрудно найти в англосаксонских и старонемецких религиозных текстах[77]77
Weber G. W. Irreligiosität und Heldenzeitalter. Zum Mythencharakter der altisländischen Literatur // Specvlvm Norroenvm. Norse Studies in Memory of Gabriel Turville-Petre / Ed. U. Dronke et al. Odense, 1981. P. 474–505.
[Закрыть]. Такого рода заимствования из библейского словаря вполне правдоподобны. Однако, странным образом, Вебер не обращает внимания на то, с моей точки зрения решающее, обстоятельство, что смысловые контексты, в которых употребляются эти формулы в Священном Писании, с одной стороны, и в сагах – с другой, совершенно различны. В самом деле, авторы псалмов, равно как и евангелисты Марк и Лука, у которых встречаются подобные выражения, имеют в виду силу, доблесть и духовную стойкость верующего, источником каковых является Творец; ведь именно в Нем, а не в самом себе независимо от высшей силы человек только и может почерпнуть эти добродетели. Не он – их источник, он лишь вмещает ниспосланную свыше благодать. Напротив, герой саги, заявляющий о своей безрелигиозности, верит исключительно в себя, в собственные способности, в свою личную судьбу и не нуждается в какой бы то ни было стоящей над ним сакральной инстанции.
Слова trú «вера» и trúa «верить» применительно к язычеству имели существенно иной смысл, нежели в христианстве. Отношение человека к языческому божеству не предполагало безоговорочного поклонения и безраздельной преданности низшего высшему, как не имело оно оттенка сыновней любви творения к Творцу. Языческие асы, естественно, были более могущественны, чем человек, и в их помощи и покровительстве нуждались люди, приносившие им за это дары и жертвы. Однако отношения между богами и людьми обладали характером договора, основанного на взаимном доверии: язычники служили асу, коль скоро он предоставлял им защиту и содействие, и считали, что вправе расторгнуть «договор» в случае, если божество им не помогало.
Годи Храфнкель, главный персонаж одноименной саги, совершал жертвоприношения богу Фрейру и как бы «на паях» владел конем Фрейфакси, которого он посвятил этому божеству и на котором поэтому запретил ездить кому бы то ни было. Но случилось так, что работник Храфнкеля нарушил этот запрет, за что хозяин его убил. Вызванный этим убийством конфликт между Храфнкелем и отцом убитого привел в конечном счете к осуждению Храфнкеля на тинге и изгнанию его из собственной усадьбы. Принадлежавшее ему капище Фрейра было разрушено, а конь Фрейфакси убит. Тогда Храфнкель якобы сказал: «Я думаю, это вздор – верить в богов» – и с тех пор никогда в них не верил и не совершал жертвоприношений. Удача на время изменила этому годи, утратившему не только свою собственность, но и власть над населением округи. Тем не менее по истечении нескольких лет Храфнкелю удалось вернуть себе былое могущество. Однако в саге ничего не сказано о возобновлении его связи с Фрейром или другими языческими богами. Вместе с тем он отнюдь не стал и христианином, и когда Храфнкель умер, его похоронили в кургане, положив вместе с его телом принадлежавшие ему сокровища, доспехи и копье. «Удача», «везенье» Храфнкеля – не дар богов или небес – это проявление его собственной силы и способностей.
И точно так же Одд Стрела, герой одноименной «саги о древних временах», был человеком, который не совершал жертвоприношений и верил только в «собственную мощь и силу». Этой же уверенностью в себе обладал Арнльот Геллини, явившийся к конунгу Олаву Харальдссону перед его последней битвой. Отвечая на вопрос конунга, крещен ли он, этот могучий великан сказал: «Этой веры [в собственную мощь и силу] мне до сих пор хватало. А теперь я хочу верить в тебя, конунг». На это Олав отвечал, что если Арнльот хочет верить в него, т. е. доверять ему, то он должен будет поверить во Христа. Так и случилось.
Разумеется, мы лишены возможности судить о том, что испытывали упомянутые в сагах (будь то сага «семейная» или «королевская», либо «сага о древних временах») безрелигиозные лица в X веке или в легендарную эпоху, – мы знаем лишь о том, как их мировоззрение расценивалось авторами саг в период их записи. Тем не менее в высшей степени симптоматично, что эти авторы, так же как и их аудитория, исходили из представления о возможности существования в дохристианское время индивидов, полагавшихся всецело на самих себя. Не служит ли такая самодостаточность индивида свидетельством внутренней самостоятельности его личности, самостоятельности в той мере, в какой она допускалась обществом? Эти безрелигиозные состояния, судя по сагам, были временными, ибо раньше или позже «безбожники», ушедшие от традиционных верований, принимали христианство, но переходили они в него опять-таки по собственной воле, руководствуясь нередко практическими соображениями.
Каков был внутренний мир подобного «безбожника», полагавшегося, по его утверждению, исключительно «на собственные силы и мощь», – об этом мы можем только догадываться. Но самый этот феномен, несомненно, симптоматичен: индивид явно выламывается из социума и занимает позицию, свидетельствующую о его духовной самостоятельности.
Эгиль сын Скаллагрима (Лысого Грима) – самый знаменитый из северных скальдов. Недаром ему посвящена целая большая сага, в которой, в частности, цитируются его стихи. Благодаря этому мы имеем возможность познакомиться с его жизнью и понять, как воспринимали творчество и личность скальда в начале XIII века, когда была записана сага. Однако поэмы Эгиля намного старше саги – он жил в X веке, приблизительно между 910 и 990 гг. При этом он, как и другие скальды, сочинял свои поэмы изустно, и записаны они были два с лишним столетия спустя. Тем не менее есть основания предполагать, что эти стихи – по крайней мере, большие поэмы Эгиля – сохранились в устной традиции в основном в своем первоначальном виде. Обычным для фольклора и эпоса трансформациям препятствовала изощренная и жесткая форма скальдической поэзии – ее специфические стихотворные размеры, изобилие в ней условных поэтических обозначений – кеннингов (kenningar), внутренних рифм и аллитераций, плотная словесная вязь, переплетение вкрапленных одна в другую фраз.
Господство поэтического канона представляло собой тем не менее лишь одну из характерных черт творчества скальдов – другой, столь же неотъемлемой его стороной было стремление поэтов проявить свое индивидуальное мастерство, превзойти предшественников и соперников. Но не симптоматично ли то, что сходные явления находим мы и в изобразительном искусстве скандинавов той же эпохи? Анималистические изображения на дереве и камне проникнуты традиционностью, и повсюду можно встретить переплетающиеся между собой фигуры фантастических зверей. Однако следование общераспространенным и казавшимся обязательными изобразительным стандартам «звериного стиля» вовсе не исключало индивидуальности «почерка» того или иного мастера. Изучение резьбы по дереву на разных предметах, извлеченных из погребенного в кургане корабля в Усеберге (Юго-Восточная Норвегия), привело известного норвежского археолога X. Шетелига к выводу, что здесь работали несколько мастеров, каждый из которых придерживался собственного стиля. Канон не исключал индивидуальной манеры.
Наконец, – и это обстоятельство заслуживает особого внимания – в противоположность анонимному эпосу и сагам, авторы которых, за редчайшими исключениями, не названы, скальдическая песнь имеет индивидуального автора, его имя известно. Никому из средневековых исландцев или норвежцев не пришло бы в голову сочинить сагу о ком-либо, кто рассказывал или записывал саги[78]78
Об исландце-сказителе // Исландские саги / Под ред. О. А. Смирницкой. СПб., 1999. Т. II. С. 535–536.
[Закрыть], а между тем сохранилось несколько саг, повествующих о прославленных скальдах.
Индивидуальность скальда и его «авторское право» пользовались признанием. Очевидно, только скальдическое искусство оценивалось как таковое. Судя по обилию сохранившихся скальдических отрывков, исландцы ценили и понимали поэзию. Нам известны имена более трехсот скальдов, и отрывки из их песней бережно сохраняются в сагах. Придется согласиться с мыслью о том, что, при крайней немногочисленности населения Исландии в X–XIII веках, количество поэтов «на душу населения» было необыкновенно велико.
Но было бы ошибочно воображать себе скальда в виде профессионального поэта, который поглощен сочинением песней. С одной стороны, многие исландцы, мужчины и женщины, взрослые и дети, могли в определенной ситуации начать говорить стихами. Обычно потребность облечь свое сообщение в поэтическую форму возникала у них в моменты психического возбуждения или когда нужно было сделать особо важное сообщение. С другой стороны, скальд, человек, который особенно часто прибегал к поэзии и владел этим искусством, сам не воспринимал себя и не воспринимался окружающими в качестве профессионального поэта. Он нередко был воином, служившим в дружине норвежского или другого северного конунга, и от случая к случаю сочинял в его честь песни. Воспевая подвиги и другие деяния вождя, он пользовался его благосклонностью и получал в награду за свои песни дорогие подарки. Хвалебная песнь скальда высоко ценилась, ибо она не только увековечивала память о конунге, но и, как тогда верили, магически способствовала возрастанию могущества вождя. И точно так же сочиненная им «хулительная песнь» (нид) могла оказать самое губительное воздействие на репутацию того, против кого она была сочинена, и даже на его здоровье и благополучие. Таким образом, скальдическому искусству приписывалась магическая сила, способность воздействовать на судьбы людей. Забота о славе как в настоящем времени, так и – в особенности – в грядущих поколениях была неотделима от веры в магию и колдовство.
Тот факт, что песнь скальда могла оказывать магическое воздействие на того, кому она была посвящена, сам по себе несомненно свидетельствует о существенной функции, которую она выполняла в древнескандинавском обществе. Поэтому не только творчество скальда, но и самая его личность властно привлекали внимание современников. О высокой оценке скальдического искусства свидетельствуют, на мой взгляд, те необычайно высокие «авторские гонорары», какими вожди, не скупясь, расплачивались с поэтами. За полноценную песнь скальд мог получить боевой или торговый корабль, дорогостоящий парус, сундук, наполненный золотом или серебром, драгоценное ожерелье или гривну, боевой меч или заморский плащ. Все это были сокровища, обладание коими повышало как уважение общества, так и самосознание поэта.
Думаю, что не ошибусь, утверждая, что в остальной Европе того же времени поэтические сочинения не вознаграждались с подобной же щедростью. Видимо, именно то, что песнь скальда в одних случаях интенсифицировала удачу, везенье воспеваемого вождя, а в других – грозила бедами тому, против кого была направлена, ставило столь остро вопрос о вознаграждении автора песни.
Коль скоро я употребил такое модернизированное выражение, как «авторский гонорар», то не удержусь и от другого – «литературная критика». Скальды нередко вступают в поэтические состязания, стремясь превзойти своих соперников в высоком мастерстве и подчеркивая беспримерность собственных поэтических достижений. Конунги, которых они воспевают, со своей стороны, внимательно вслушиваются в песнь и придирчиво оценивают ее формальные качества. Таким образом, фигура скальда и его творческие способности, уникальное мастерство, с какими он использует поэтическую традицию, находятся в центре внимания как самого творца, так и того, кому адресована его песнь.
Здесь нужно остановиться еще на одном интересном обстоятельстве. Согласно общераспространенному мифу, скальдическое искусство было подарено людям языческим богом Одином, который похитил его – «мед поэзии» – у великанов. Но этот дар Одина не имел ничего общего с даром муз и Аполлона, каким обладали античные поэты. Способность сочинять скальдические висы расценивалась как ремесло, и термин «íÞrótt» мог быть одинаково применен как к уменью ремесленника или физической ловкости, так и к способности сочинять стихи. При этом нигде не раскрывается тайна поэтического творчества: нам ничего не известно о каком-либо обучении скальда его искусству, равно как и о процессе сочинения им песни[79]79
Подробнее см.: Гуревич Е. А., Матюшина И. Г. Поэзия скальдов. М., 2000. С. 223–329.
[Закрыть].
В скальдических стихах воспевались не одни только подвиги вождей – они могли сочиняться практически по любому поводу. Сплошь и рядом скальд рассказывал в своей поэзии о собственных поступках и переживаниях. Широк диапазон эмоций, которые он выражает: ненависть и любовь, дружба и преданность, горе и радость, угрозы и презрение, торжество и непристойная брань, наконец, самовосхваление и высокая оценка собственного уменья на поприще поэзии. Мало этого, в поэтических произведениях скальда отчетливо ощущается его непосредственный контакт с аудиторией; это не лирические послания без определенного адреса – скальд настойчиво и подчас повелительно обращается к своим слушателям, имея в виду вполне конкретных адресатов. Стихи скальда – это поэзия ad hoc.
Итак, поэзия скальдов – подчеркнуто, демонстративно личная поэзия, и этим она радикально отличается от эддических песней. Нередко скальд гордо заявляет о своем творческом даре. Немалая доля скальдических стихов посвящена саморефлексии поэтов: они превозносят свое поэтическое уменье или обсуждают и критикуют песни других скальдов. «Послушай мою песнь, конунг, – обращается скальд Сигват к королю Олаву сыну Харальда, – ибо я изощрен в сочинении стихов, и даже если ты, повелитель Норвегии, когда-либо ругал других скальдов, меня ты похвалишь». И он же двадцать лет спустя: «Те, кто разбирается в поэзии, найдут немного погрешностей в стихах Сигвата, а кто упорно утверждает иное, – несомненно, дурак». В определенной степени скальдическая поэзия представляет собой не что иное, как поэтический комментарий на самое себя[80]80
Clover С. J. Skaldic Sensibility // Arkiv for nordisk filologi. Bd. 93, 1978. S. 80.
[Закрыть].
Первое лицо в скальдике – не отвлеченное или фиктивное лирическое Я, за которым может вовсе и не скрываться подлинная личность[81]81
См.: Zumthor P. Le je du poète // Zumthor P. Langue, texte, énigme. Paris, 1973. P. 181–196.
[Закрыть], – это реальное Я конкретного поэта, чьи стихи пронизаны высоким самосознанием его как творца. «Скальдом зовусь я», – гордо заявляет древнейший из известных нам скальдов, Браги Старый (первая половина IX века)[82]82
О Браги Старом см.: Смирницкая О. А. Два предания о первых поэтах: Кэдмон и Браги // Другие Средние века. К 75-летию А. Я. Гуревича. М.: СПб., 2000. С. 297–317.
[Закрыть]; перечислив ряд кеннингов скальда (его поэтических обозначений, указывающих на происхождение поэзии от меда, похищенного Одином у великанов), он заключает риторическим вопросом: «Что же такое скальд, если не это?»
И в этой связи нужно отметить еще одно существенное обстоятельство. Личностная тенденция, с самого начала вполне четко обозначившаяся в скальдике, не нарастает с течением времени (как можно было бы предположить), но, напротив, ослабевает, подавляемая церковным влиянием. Требование личного смирения служило в средневековой литературе христианской Европы препятствием для выявления индивидуального начала. Как раз в XII веке, веке «открытия индивидуальности» в Европе (согласно распространенной точке зрения), самораскрытие скальда наталкивается на это идеологическое препятствие[83]83
См.: Kreutzer G. Die Dichtungslehre der Skalden. Poetologische Terminologie und Autorenkommentare als Grundlagen einer Gattungspoetik. 2. Aufl. Meisenheim am Glan, 1977. S. 172 ff., 264 ff.
[Закрыть].
В «Саге об Эгиле» личность скальда и специфическое восприятие его творчества предстают с исчерпывающей ясностью. Начать с того, что Эгиль происходил из семьи не только знатной, но и отличавшейся некоторыми специфическими особенностями. Дед и отец Эгиля явно были оборотнями в глазах окружающих: с наступлением сумерек они приобретали необыкновенную физическую силу и вместе с тем сонливость и начинали избегать людей. Недаром деда Эгиля, Ульва прозвали Вечерним Ульвом (= Волком – Kveld-Úlfr). В бою он впадал в неистовство, наподобие берсерка[84]84
Берсерками (berserkr) называли воинов, отличавшихся необыкновенной физической силой и яростью; в бою они сбрасывали с себя одежду, выли и рычали, кусали свой щит и считались неуязвимыми. Берсерки находились под покровительством Одина.
[Закрыть], и обнаруживал сверхъестественную силу. Мало этого, его таинственные способности проявились и после смерти. Она пришла к нему в тот момент, когда он вместе с семьей и домочадцами подплывал на корабле к Исландии (подобно многим другим знатным людям, он покинул Норвегию в то время, как ее конунг Харальд Прекрасноволосый приступил к объединению страны и лишал знать ее былой независимости). Перед кончиной Квельдульв приказал, чтобы, когда он умрет, его положили в гроб и спустили за борт; подобно лоцману, гроб указал путникам место, где они должны пристать к берегу и заселить землю.
Об его сыне Скаллагриме (Skalla-Grímr), отце Эгиля, норвежский конунг говаривал: «По виду этого лысого великана ясно, что он полон волчьих мыслей»; и точно так же другой человек, наблюдая Скаллагрима и его людей, заметил: «Ростом и видом они больше похожи на великанов, чем на обычных людей» (гл. 25).
Сам Эгиль с малых лет выделялся своим ростом и огромной силой, а также буйным, неукротимым нравом. Играя, он, разгневавшись, убил товарища. Вместе с тем в нем рано проявилась и способность сочинять стихи. Любопытно, однако, то, что эта способность была теснейшим образом связана с занятиями магией: однажды, произнося сочиненный им стих, Эгиль вырезал руны на роге, в котором, как он подозревал, был яд, окрасил руны собственной кровью, и рог тотчас же разлетелся на куски (гл. 44). Это единство поэзии и колдовства проявлялось неоднократно. Враждуя с норвежским конунгом Эйриком и его женой колдуньей Гуннхильд, Эгиль насадил на жердь лошадиный череп и произнес заклятье, призывая всяческие несчастья на королевскую чету (гл. 57). Колдовство возымело действие, и Эйрик вскоре был изгнан из Норвегии. Правда, магические способности Гуннхильд, видимо, были неменьшими, и она сделала так, что Эгиль попал в руки конунга Эйрика, когда тот стал править в Нортумбрии (на северо-востоке Англии). Спасти свою голову ему удалось только благодаря сочиненной им за одну ночь песни, в которой он восхваляет своего врага; эта песнь так и называется «Выкуп головы». И хотя Эгиль был повинен в убийстве близких сородичей Эйрика, конунг даровал ему жизнь, так как сочиненная им хвалебная песнь, по словам друга Эгиля Аринбьёрна, «останется навсегда» (гл. 59–61).
«Сага об Эгиле» рисует его как человека, обладавшего недюжинной физической силой и выносливостью. Внешне он был безобразен и страховиден[85]85
И в других сагах о скальдах обычно отмечается их странная внешность, – видимо, это признак их особой отмеченности и опасности, которую они могут представлять. См.: Ross M. С. The Art of Poetry and the Figure of the Poet in Egils Saga // Parergon, 1978. № 22.
[Закрыть]. И о нем, как и об его отце, говорили: «Большущий, как тролль». Он был непобедим в схватках, жесток к врагам. Этот мужественный воин без колебаний вступал в неравный бой и неизменно выходил из него победителем. Этот алчный человек упорно домогался богатств. Он рассчитывал только на свои собственные силы, но неизменно ссылался на право и закон, которые он якобы защищал. В случаях, когда ему отказывали меч и копье, он был способен повалить противника и перегрызть ему горло.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?