Текст книги "Если бы Пушкин…"
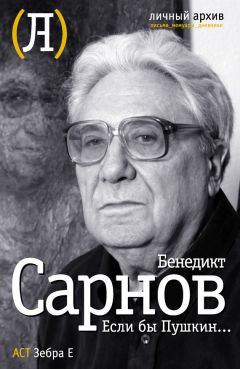
Автор книги: Бенедикт Сарнов
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 53 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
Опрокинутая купель
В основе того пафоса «демифологизации», которым одержимы названные (а так же и многие не названные) мною авторы, лежит, конечно, комплекс Герострата. Но какая-то толика истины есть и в рассуждениях Александра Жолковского, и в инвективах Михаила Синельникова, и даже в высокомерно-снисходительных сентенциях Виктора Ерофеева:
Там, где кончается незабвенная «осетрина второй свежести», роман полон дешевого мелодраматизма. Он часто безвкусен в своих религиозных претензиях, излишне театрален.
Виктор Ерофеев. «Два Михаила». В кн.: «Страшный суд», М., 1996, стр. 451
…Мемуарные книги А.И. Цветаевой взбаламутили поколения «джинсовых» девочек, самовыразившихся посредством «Марины» и нашедших себя в бездумной декламации и истерическом кликушестве, в паломничестве к святым «цветаевским местам»…
В поздних стихах и поэмах Цветаева увлеклась звонкой, но пустой и безответственной риторикой… Стали царапать слух цветаевская фальшь и нарочитость, самолюбование и псевдорусское молодечество.
Михаил Синельников. «Во мгле кочевья», «Московские новости», № 18,5-12 мая 1996 г., стр. 24
Объект моего полемического остранения – не столько поэзия Ахматовой, как таковая, сколько весь ахматовский миф в целом и тот, так сказать, «институт ААА», который является современным способом его существования.
А. Жолковский. «Анна Ахматова – пятьдесят лет спустя», «Звезда», 1996, № 6, стр. 212
С рассуждениями и соображениями такого рода можно спорить, но совсем, не принимать их во внимание нельзя. И уж совсем не стоит оспаривать тот очевидный и несомненный факт, что и Булгаков, и Цветаева, и Ахматова, в силу некоторых – легко объяснимых – причин и в самом деле стали объектами самого что ни на есть доподлинного культа. И дело тут не только в «джинсовых девочках» и «институте ААА». Создалась ситуация, в которой любая – даже обоснованная – критика того или иного булгаковского, или цветаевского, или ахматовского текста воспринимается как незаконное и даже кощунственное вторжение на территорию некоего табуированного пространства, куда «посторонним» вход разрешен лишь при неукоснительном соблюдении соответствующих – сугубо культовых – правил поведения.
Всякий культ раздражает. И не только раздражает, но и вызывает определенную реакцию, довольно точно обозначаемую старинной русской пословицей, гласящей, что клин клином вышибают.
О том, что может проистечь (и проистекало) из практики такого вышибания клина клином, можно было бы написать не одну драму, и даже трагедию.
Вот, например, Николай Гаврилович Чернышевский был очень снисходителен к некоторым слабостям своей жены. Объяснял он это тем, что мужчины так долго держали женщин в повиновении, так чудовищно угнетали их требованиями супружеской верности (хоть сами при этом отнюдь не склонны были блюсти эту самую верность), что не грех теперь и перегнуть палку в другую сторону. Ничего хорошего из этого «перегибания палки» у Николая Гавриловича, как известно, не вышло. И не могло выйти.
Вышибать клин клином – это значит заменять одно зло – другим злом, прежнюю дурь – другой дурью, старую ложь – новой ложью.
Кое-кто, конечно, станет защищать многочисленных «вышибателей клина клином», доказывая, что движет ими никакой не «комплекс Герострата», а естественный и до некоторой степени даже обоснованный протест против культового сознания.
Ну что ж, может, и так. Но сути дела это не меняет. Бороться с мифами можно только одним способом: поиском истины. В любом ином случае стремление к «демифологизации» грозит обернуться созданием другого, нового мифа, еще более злокачественного, чем прежний.
Или даже еще худшим злом, о непоправимых последствиях которого проницательно высказался однажды Андре Жид. Путешествуя по Советскому Союзу и наблюдая разнообразные причуды советской жизни, он весьма кстати припомнил известную пословицу насчет опрокидываемой купели, из которой вместе с водой выплеснули ребенка. Этот старый и, между нами говоря, довольно-таки затасканный образ он довольно удачно обновил и даже обогатил некоторыми новыми красками. Поводом для этого ему послужило крайне нетерпимое отношение тогдашних советских властей к религии.
К самой идее борьбы с религиозным дурманом маститый французский писатель, как ни странно, отнесся с пониманием. Даже с сочувствием. Но были у него при этом и кое-какие сомнения:
Что касается консервативного влияния религии на сознание, отпечатка, который может наложить на него вера, я знаю об этом и думаю, что было бы хорошо освободить от всего этого нового человека. Я допускаю даже, что… может возникнуть желание разом избавиться от всего этого, но… У немцев есть хорошая поговорка, я не могу подобрать схожей французской: «Вместе с водой выплеснули и ребенка». По невежеству и в великой спешке. И что вода в корыте была грязная и зловонная – может быть. Настолько грязная, что не пришло даже в голову подумать о ребенке, выплеснули все сразу не глядя.
И когда я слышу теперь, как говорят, что по соображениям терпимости, по прочим разным соображениям надо отливать заново колокола, боюсь, чтобы это не стало началом, чтобы не заполнили снова грязной водой купель… в которой уже нет ребенка.
Стимулы, которые движут людьми, опрокидывающими купели, могут быть самые разные. Купель может быть опрокинута, как говорит Жид, «по невежеству и в великой спешке». Но эта операция может проделываться и вполне обдуманно, а также отнюдь не невежественными, а, напротив, высокоучеными людьми. Побудительной причиной может быть «комплекс Герострата», но могут тут действовать и совсем иные, так сказать, вполне благие намерения… Но результат при этом всегда будет один и тот же. В любом случае перед нами вновь окажется все та же купель, наполненная грязной, может быть, даже еще более грязной водой, но – уже без ребенка.
И в них вся родина моя
В 1922 году, покидая родную землю (как оказалось и как он, конечно, предчувствовал, навсегда), Владислав Ходасевич написал:
России – пасынок, а Польше —
Не знаю сам, кто Польше я.
Но: восемь томиков, не больше, —
И в них вся родина моя.
Вам – под ярмо ль подставить выю
Иль жить в изгнании, в тоске.
А я с собой свою Россию
В дорожном уношу мешке.
Это не было ни риторической фигурой, ни даже метафорой.
Уезжавшая вместе с ним Н. Берберова вспоминает:
Вокруг нас на полу товарного вагона лежали наши дорожные мешки. Да, там был и его Пушкин, конечно, все восемь томов. Но я уже тогда знала, что никогда не смогу полностью идентифицироваться с Ходасевичем, да я и не стремилась к этому: Россия не была для меня Пушкиным только. Она вообще лежала вне литературных категорий…
Это свидетельство интересно не только тем, что подтверждает: все было в точности так, как «отстоялось словом» – и дорожные мешки на полу товарного вагона (именно мешки, а не, скажем, чемоданы или саквояжи), и восемь томов собрания сочинений Пушкина в издании А.С. Суворина (действительно восемь, а не шесть или десять). Гораздо интереснее и важнее тут другое: то, что даже Берберова, самый близкий ему тогда человек, не могла полностью идентифицироваться с ним в своем отношении к родине.
Но это была лишь крохотная, едва заметная трещина. В других же случаях «трещина» разрасталась в непроходимую пропасть.
1
У П.Я. Чаадаева в его «Апологии сумасшедшего» есть рассуждение, которое представляется мне и поныне – к великому нашему несчастью! – сохраняющим свою актуальность. Вот оно:
Есть разные способы любить свое отечество; например, самоед, любящий свои родные снега, которые сделали его близоруким, закоптелую юрту, где он, скорчившись, проводит половину своей жизни, и прогорклый олений жир, заражающий вокруг него воздух зловонием, любит свою страну, конечно, иначе, нежели английский гражданин, гордый учреждениями и высокой цивилизацией своего славного острова.
Для Чаадаева не было и не могло быть ни малейших сомнений насчет того, какой из этих двух «способов любить свое отечество» предпочтительнее. Но Чаадаев в этом смысле был у нас едва ли не белой вороной. Для многих ответ на этот вопрос был далеко не так прост и однозначен. А кое-кто из самых выдающихся деятелей русской культуры так даже определенно предпочитал жалкую «самоедскую» любовь к отчизне – гордой британской. И не только предпочитал, но и настойчиво, упорно, неистово эту «самоедскую» любовь культивировал:
Грешить бесстыдно, непробудно,
Счет потерять ночам и дням,
И, с головой от хмеля трудной,
Пройти сторонкой в Божий храм.
Три раза преклониться долу,
Семь – осенить себя крестом,
Тайком к заплеванному полу
Горячим прислониться лбом.
Кладя в тарелку грошик медный,
Три, да еще семь раз подряд
Поцеловать столетний, бедный
И зацелованный оклад.
А, воротясь домой, обмерить
На тот же грош кого-нибудь,
И пса голодного от двери,
Икнув, ногою отпихнуть.
И под лампадой у иконы
Пить чай, отщелкивая счет,
Потом переслюнить купоны,
Пузатый отворив комод.
И на перины пуховые
В тяжелом завалиться сне… —
Да, и такой, моя Россия,
Ты всех краев дороже мне.
Вглядитесь пристально в эту картину нарисованную Александром Блоком. Посмотрите, как нарочито, подчеркнуто отобраны поэтом самые непривлекательные и даже гнусные подробности российского бытия.
В храме, куда российский грешник приходит отмаливать свои грехи, пол – заплеванный. Голодного пса русский человек отпихивает, и не как-нибудь, а – икнув. Купоны он не просто пересчитывает, как это делал бы какой-нибудь французский Гарпагон или папаша Горио, а-слюнит и даже переслюнивает. И все это – для того, чтобы с упоением воскликнуть, что даже и такой, заплеванной, загаженной, омерзительной, – его родина ему дороже всех прочих стран и краев земли.
Но сама эта формула (и такой) все-таки предполагает, что есть и какая-то другая, может быть, чистая и прекрасная Россия, которая ему тоже дорога. Что он просто не желает отделять одну от другой, а принимает свою родину целиком, с ее не только лицевой, парадной, но и – оборотной, грязной стороной, всю омерзительность которой он не хочет, не считает нужным, считает даже недостойным скрывать и замалчивать.
Да, у Блока это, может, и так. (У него даже слышится в этих строчках не только любовь, но и ненависть – «и страсть, и ненависть к отчизне», как написал он однажды.)
Но были в России писатели, поэты, мыслители, философы – и отнюдь не какого-нибудь там третьего ряда, а весьма даже крупные, – которые решительно предпочитали именно вот эту оборотную сторону, сладострастно восхваляли именно эту – нищую, грязную, грешную, измызганную Россию. Хотели видеть и любить ее только такой, и никакой иной.
Особенно искренно, а потому особенно талантливо это получалось у одного из замечательнейших писателей русских – Василия Васильевича Розанова.
Цитируя одно из наиболее откровенных высказываний Розанова на эту тему, Дмитрий Мережковский комментировал его с изумлением и некоторым даже ужасом:
Самообличение, самооплевание русским людям вообще свойственно. Но… до этого еще никто никогда не доходил. Тут преступлена какая-то черта, достигнут какой-то предел.
Россия – «матушка», и Россия – «свинья». Свинья – матушка. Полно, уж не насмешка ли? Да нет, он и в самом деле, плачет и смеется вместе: «смеюсь каким-то живым смехом, от пупика» – и весь дрожит, так что видишь, кажется, трясущийся кадык Федора Павловича Карамазова.
– Ах вы, деточки. Поросяточки! Все вы – деточки одной Свиньи Матушки. Нам другой Руси не надо. Да здравствует Свинья Матушка!..
В этой характеристике не было ни малейшего преувеличения. Розанов и в самом деле полагал, что именно вот такая, «самоедская» любовь к России, – что только она и есть – подлинная, настоящая.
Вот была, например, у него статья – «Левитан и Гершензон».
О трудах известного историка русской литературы и русской общественной мысли М.О. Гершензона он писал там так:
Берешь одну книгу – и залюбовываешься… Берешь другую книгу и залюбовываешься. Как у Левитана – смотришь один пейзаж и восхищаешься, смотришь другой пейзаж и восхищаешься… Оба, и Левитан, и Гершензон, умели схватить как-то самый воздух России…
Замечательно, что на пейзажах Левитана… пейзаж всегда – без человека. Вот «Весенняя проталинка», ну – завязло бы там колесо. Обыкновенное русское колесо обыкновенного русского мужика в обыкновенной русской грязи. Почему нет? Самая обыкновенная русская история. «Прелестная проталинка», – и ругательски ругается среди нее мужик, что «тут-то и утоп». – «Ах… в три погибели ее согни»…Как же это передать, как не несколько обезобразив «Проталинку»?..
Я думаю – стремнин и крупных людей по той же причине не берет и Гершензон… Да если в этом «разбираться», то выйдет «испачканный надписями забор», а не «Пропилеи» в афинском стиле.
Вдруг «сивухой запахло». В литературе-то? Литература должна быть благоуханна…
Отдав дань восхищения и живописцу и историку русской литературы, Розанов сперва, как бы непроизвольно, сбивается на несколько иронический тон. И вдруг эта легкая, едва заметная ирония взрывается нескрываемым сарказмом:
…Русская «суть»? – Ах, она мучительна. Ах, она страшна… Оба они, пейзажист и историк, взяли «Власа» вот собирающим копеечки на блюдо для построения «церкви Божьей». Благочестивый вид и благообразное занятие. Но была история «до этого». И вот на эту историю оба накинули покров.
Отчего как-то и заключаешь, что Русь не «кровная» им, не «больная сердцу». Ибо «родное»-то сердце всю утробушку раскопает. И все «на свет божий вытащит», да и мало еще – расплачется и даже в слезах самого историка или ландшафиста «кондрашка хватит».
Да, такую Россию «в дорожном мешке с собой» не увезешь! А те, чью очищенную, «ублагороженную», дистиллированную Россию можно увезти с собой в эмиграцию (хоть картиною Левитана, хоть восемью томами Пушкина), они – чужие, не родные ей, как бы старательно – и даже талантливо – ни притворялись своими:
Это мастерская «стилизация» русского ландшафта и то же истории русской литературы; и еще глубже и основательнее – стилизация в самом себе – русского человека, русского писателя, русского историка русской литературы, русского живописца. Нет боли, крика отчаяния и просветления…
Тут – камень в огород уже не только Левитана и Гершензона, а всех деятелей русской культуры, тщетно старающихся утаить свое инородчество.
Были бы они русскими, так изображали бы «русского грешника» не только в тот момент, когда он «кладет в тарелку грошик медный» и целует «столетний, бедный и зацелованный оклад», но и в те неприглядные мгновения его бытия, когда он готов – «воротясь домой, обмерить на тот же грош кого-нибудь, и пса голодного от двери, икнув, ногою отпихнуть».
Хотя изобразить этого «русского грешника» он (инородец) еще, быть может, и изобразит. А вот полюбить, признать в нем своего единокровного брата, а быть может, даже и увидеть в нем самого себя… И – мало того! – от души воскликнуть: «Д а, вот такая она, наша Русь, и никакой другой Руси нам не над о!..» – вот этого инородцу не дано…
2
Владислав Ходасевич тоже – как Левитан, как Гершензон – был инородцем. Ни капли русской крови не текло в его жилах. (Его дед по отцовской линии Я.И. Ходасевич был польский дворянин, участник восстания 1830 года, за что он был лишен дворянства, земли и имущества. Отцом матери поэта был известный в свое время публицист Я.А. Брафман – еврей, принявший православие.)
Этого своего «инородчества» Владислав Фелицианович не скрывает – он даже на нем настаивает, прямо называя себя пасынком России. Но для тех, кто посмел бы поставить под сомнение его кровную причастность русскому языку и русской культуре, у него давно уже был заготовлен ответ:
Не матерью, но тульскою крестьянкой
Еленой Кузиной я выкормлен. Она
Свивальники мне грела над лежанкой,
Крестила на ночь от дурного сна…
Она меня молитвам не учила,
Но отдала мне безраздельно все:
И материнство горькое свое,
И просто все, что дорого ей было…
И вот, Россия, «громкая держава»,
Ее сосцы губами теребя,
Я высосал мучительное право
Тебя любить и проклинать тебя.
Но – в этом же стихотворении – он не боится признаться и в том, что любит Россию не «самоедской» любовью. А что, подобно «английскому гражданину», он горд своей причастностью к наивысшим из ее достояний. У англичан – это «учреждения и высокая цивилизация» их «славного острова». У нас – иное:
В том честном подвиге, в том счастье песнопений,
Которому служу я в каждый миг,
Учитель мой – твой чудотворный гений,
И поприще – волшебный твой язык.
«Твой чудотворный гений» – это, конечно, Пушкин. Так возникает вторая – не менее важная – тема стихотворения. Выясняется, что это свое «мучительное право», свою кровную связь с Россией, свое бытие в русском языке и в русской поэзии Ходасевич не только «высосал» с молоком своей кормилицы, но и перенял, унаследовал от учителя – от Пушкина.
3
Ритм, синтаксис, архаическая лексика процитированного стихотворения – да и не его одного! – говорят о жестком консерватизме художественных вкусов Ходасевича. Да он никогда и не скрывал этого – свою упрямую приверженность классическим образцам формулировал не только внятно, но даже и подчеркнуто:
Заумно, может быть, поет
Лишь ангел, Богу предстоящий, —
Да Бога не узревший скот
Мычит заумно и ревет.
А я – не ангел осиянный,
Не лютый змий, не глупый бык.
Люблю из рода в род мне данный
Мой человеческий язык.
Его суровую свободу,
Его извилистый закон…
О, если б мой предсмертный стон
Облечь в отчетливую оду!
Это поэтическое кредо Ходасевича – отчетливо полемично. Может показаться, что жало этой полемики строго и точно нацелено в футуристов – недаром же в коротеньком стихотворении поэт дважды саркастически подчеркивает свое упрямое неприятие футуристической (конечно, футуристической, а какой же еще?) зауми. («Глупыйбык», который «мычит заумно и ревет», – это уж не Маяковский ли?)
На самом деле, однако, Ходасевич метит тут не в футуристов. Во всяком случае, не только в них.
14 февраля 1921 года на Пушкинском вечере в Доме литераторов – том самом, на котором Блок произнес свою знаменитую речь «О назначении поэта», – Ходасевич выступил со своей пушкинской речью. Он говорил там о наступлении «второго затмения» Пушкина. (Первое было во времена Писарева.) О том, что обращаясь в эти дни к Пушкину, «мы уславливаемся, каким именем нам аукаться, как нам перекликаться в надвигающемся мраке».
Упрямый консерватизм Ходасевича во многом был сродни яростному консерватизму Бунина. И в характере его было много черт, роднящих его с Буниным. Знаменитая злость Бунина была притчею во языцех. Да он и сам сказал о себе (в письме Телешову): «Я стар, сед, сух, но еще ядовит». О злости Ходасевича тоже ходили легенды. В.Б. Шкловский признавался, что однажды сказал Владиславу Фелицианови-чу: «У вас туберкулез, но вы не умираете, потому что палочки Коха дохнут в вашей крови, такая она ядовитая».
Но при всем этом – отнюдь не только внешнем – сходстве была в отношении этих двух художников к тому, что случилось с Россией и русской литературой, огромная разница. Говоря (в той же пушкинской речи) о своих современниках, которые, к несчастью, уже «не слышат Пушкина», Ходасевич замечает, что это – «не отщепенцы, не выродки: это просто новые люди. Многие из них безусыми юношами, чуть не мальчиками, посланы были в окопы, перевидали целые горы трупов, сами распороли не мало человеческих животов, нажгли городов, разворотили дорог, вытоптали полей – и вот, вчера возвратились, разнося свою психическую заразу».
И тут он роняет такую совершенно невозможную в устах Бунина фразу: «Не они в этом виноваты…»
Нет, они! – с яростью возразил бы на это Бунин. – Кто же, как не они!
Отвечая (в 1926 году) на анкету о Пушкине, Бунин не удержался от такого злобного выпада:
…Давно дивлюсь: откуда такой интерес к Пушкину в последние десятилетия, что общего с Пушкиным у «новой» русской литературы, – можно ли представить себе что-нибудь более противоположное, чем она – и Пушкин, то есть воплощение простоты, благородства, свободы, здоровья, ума, такта, меры, вкуса?
Процитировав несколько строк Блока и Есенина и высказавшись попутно насчет «заборной орфографии», он продолжает:
Сколько пишется теперь подобных! И какая символическая фигура этот советский хулиган (это о Есенине. – Б.С.)…Тут действительно стоит роковой вопрос:…обязательно ли подлинный русский человек есть «обдор», азиат, дикарь или нет? Теперь все больше входит в моду отвечать на этот вопрос, что да, обязательно. И московские «рожи», не довольствуясь тем, что они и от рождения рожи, из кожи вон лезут, чтобы стать рожами сугубыми, архирожами. Посмотрите на всех этих Есениных, Бабелей, Сейфуллиных, Пильняков…
Ходасевич к числу поклонников Есенина тоже не принадлежал. Однако он о Есенине высказывался совсем не так, как Бунин:
Жизнь его была цепью ужасных ошибок – религиозных, общественных, личных. Но одно, самое ценное, всегда было в нем верно: писание было для него не «литературой», а делом жизни и совести. Перечитывая его стихи, вижу, что он всегда был правдив перед собой – до конца, как и должен, как только и может быть правдив настоящий поэт.
Можно, конечно, сделать вывод, что Бунин был больше «желчевик», чем Ходасевич, и на том успокоиться. Но суть этих разногласий отнюдь не в большем или меньшем «разлитии желчи». И совсем не в Есенине и различном отношении к нему тут было дело.









































