Текст книги "Свобода и закон"
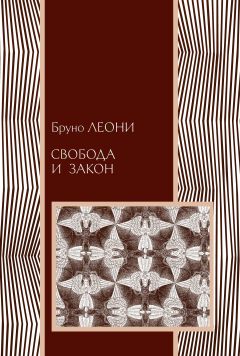
Автор книги: Бруно Леони
Жанр: Юриспруденция и право, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Глава 4. Свобода и определенность закона
Греческая концепция определенности закона была концепцией писаного закона. Хотя в данном случае нас не очень интересуют исторические проблемы, было бы небезынтересно вспомнить, что греки, особенно ранних эпох, имели также представление об обычном праве (customary law) и вообще о неписаных законах. О последних упоминает сам Аристотель. Их не следует путать с более поздним представлением о праве как о совокупности письменных формулировок, в том терминологическом смысле, какой слово nomos приобрело в V–IV веках до н. э. Но и в более зрелую эпоху своего развития у древних греков также была возможность устать от своего традиционного представления о законе как о чем-то написанном и введенном в действие законодательными органами вроде афинского народного собрания.
Пример древних греков особенно уместен не только потому, что от них ведут начало политические системы, позже укоренившиеся в странах Запада, но и потому, что большинство греков, особенно афиняне, были искренними почитателями политической свободы в смысле, абсолютно нам понятном и сравнимом с нашим собственным ее пониманием. То, что, к примеру, говорит у Фукидида Перикл в надгробной речи афинским солдатам и морякам, которые первыми пали в Пелопонесской войне, могли бы повторить дословно такие современные идеологи политической свободы, как Джефферсон, Токвиль, Джон Стюарт Милль, лорд Актон и Спенсер. Вопрос о том, насколько аутентичны были записи, которые Фукидид использовал для реконструкции речи Перикла, все еще остается открытым. Но даже если допустить, что эту речь написал не Перикл, а Фукидид, то авторитет Фукидида как выразителя чувств афинян и духа своего времени не меньше, чем Перикла. Итак, в английском переводе Кроули, Перикл, в реконструкции Фукидида, использует следующие слова для описания афинской правовой и политической системы середины V века до н. э.: «Наш государственный строй не подражает чужим учреждениям; мы сами скорее служим образцом для некоторых, чем подражаем другим. Называется этот строй демократическим, потому что он зиждется не на меньшинстве, а на большинстве (демоса). По отношению к частным интересам законы наши предоставляют равноправие для всех; что же касается политического значения, то у нас в государственной жизни каждый им пользуется предпочтительно перед другим не в силу того, что его поддерживает та или иная политическая партия, но в зависимости от его доблести, стяжающей ему добрую славу в том или другом деле; равным образом, скромность звания не служит бедняку препятствием к деятельности, если только он может оказать какую-либо услугу государству. Мы живем свободною политическою жизнью в государстве и не страдаем подозрительностью во взаимных отношениях повседневной жизни; мы не раздражаемся, если кто делает что-либо в свое удовольствие, и не показываем при этом досады, хотя и безвредной, но все же удручающей другого. Свободные от всякого принуждения в частной жизни, мы в общественных отношениях не нарушаем законов главным образом из страха перед ними и повинуемся лицам, облеченным властью в данное время; в особенности же прислушиваемся ко всем тем законам, которые существуют на пользу обижаемым и которые, будучи неписаными, влекут (за нарушение их) общественный позор»[38]38
Thucydides, The History of the Peloponnesian War, II, 37–39, trans. by R. Crawley (London: J. M. Dent & Sons, 1957, p. 93). [См.: Хрестоматия по античной литературе. В 2-х т. Т. 1: Дератани Н. Ф., Тимофеева Н. А. Греческая литература. М.: Просвещение, 1965].
[Закрыть].
В том виде, как она отражена в речи Перикла, греческая идея свободы очень похожа на нашу современную идею свободы – максимальной независимости от принуждения со стороны других, в том числе властей, в отношении нашего личного поведения. Прежнее представление некоторых исследователей, например, Фюстеля де Куланжа, о том, что древние греки в большинстве случаев имели в виду под словом «свобода» совсем не то, что мы, в последнее время подверглось пересмотру. Например, недавно вышла книга под названием «Свободомыслие в греческой политике» (Eric A. Havelock, The Liberal Temper in Greek Politics, 1957), автор которой, канадский исследователь Эрик Хэвлок, привел доказательства того выдающегося вклада, который греческие мыслители, менее знаменитые, чем Платон и Аристотель, внесли в развитие идеала политической свободы, противостоящего рабству во всех смыслах слова. Один из выводов этой книги состоит в том, что греческая свобода была не «свободой от нужды», а «свободой от людей». Как отметил Демокрит в сохранившемся до наших дней фрагменте, «бедность при демократии настолько же предпочтительней того, что олигархия называет процветанием, насколько свобода предпочтительнее рабства». На этой шкале ценностей свобода и демократия находятся выше процветания. Остается мало сомнений в том, что шкала ценностей афинян была такова. Это совершенно точно отражало ценности Фукидида и Перикла. Мы читаем в надгробной речи, что афиняне, павшие в бою, должны быть образцом для сограждан, которые, «полагая счастье плодом свободы, а свободу – плодом доблести, никогда не откажутся от опасностей войны»[39]39
Loc. cit.
[Закрыть].
Законотворчеством занимались народные законодательные собрания, и общие правила, сформулированные в письменном виде такими собраниями, противопоставлялись произвольным указам тиранов. Однако во второй половине V–IV веках до н. э. грекам, особенно афинянам, предстояло столкнуться с серьезными проблемами такого законотворчества, в результате которого все законы были «определенными» (то есть точно сформулированными и записанными), но никто не был уверен, что любой закон, действующий сегодня, не утратит силу завтра из-за принятия следующего закона. Реформирование афинской конституции Тисаменом в конце V века до н. э. предоставляет нам пример средства защиты от этого неудобства, который мог бы быть полезен и нынешним политикам, а также специалистам по политическим наукам. При нем в Афинах была установлена жесткая и сложная процедура, чтобы ввести в рамки законодательные новации. Специальный комитет магистратов (nomotetai), задача которого заключалась в том, чтобы охранять существующее законодательство от новых законопроектов, тщательно изучал каждый законопроект, предложенный каким-либо гражданином (в афинской системе прямой демократии каждый человек, принадлежавший ко всеобщему народному собранию, имел право законодательной инициативы, тогда как в Риме она была только у выборных магистратов). Конечно, авторы проекта имели право попытаться убедить всеобщее законодательное собрание в необходимости принять его, несмотря на мнение nomotetai, но при этом обсуждение представляло собой сравнение старого и нового закона, а не просто речь в защиту нового.
Но на этом история не заканчивалась. Даже когда закон в конце концов получал одобрение собрания, его автор отвечал за свою инициативу в случае, если другой гражданин, действуя против автора закона как истец, мог доказать, уже после одобрения закона собранием, что в новом законодательстве имеются серьезные недочеты или оно противоречит более старым законам, действующим в Афинах. В этом случае автор закона мог быть на законном основании подвергнут суду, а наказания бывали очень строгими, вплоть до смертного приговора, хотя, как правило, законодателей-неудачников просто штрафовали. Это вовсе не легенда. Все это нам известно из обвинений Демосфена против Тимократа, одного из таких неудачливых законодателей. Такая система штрафов для авторов вредных законов не противоречила демократии, если иметь в виду под демократией строй, при котором верховной властью является народ, и если согласиться с тем, что верховная власть означает также безответственность, о чем свидетельствуют многочисленные исторические примеры.
Итак, мы приходим к выводу, что афинская демократия в конце V и в течение IV века до н. э. явно не удовлетворялась представлениями о том, что определенность закона – это просто точные формулировки в письменном тексте.
Посредством реформы Тисамена афиняне наконец открыли, что они не могут быть свободны от вмешательства политической власти, только повинуясь ныне действующим законам; им также необходимо предвидеть последствия собственных действий в соответствии с законами завтрашнего дня.
Таков в действительности главный недостаток представления, что определенность закона – это четкая формулировка частного или общего писаного правила.
Однако идея определенности закона в политических и правовых системах Запада имеет не только упомянутый выше смысл. Она также понималась в совершенно ином смысле.
Определенность закона в смысле письменной формулы относится к ситуации, которая неизбежно включает возможность того, что действующий закон может быть в любой момент заменен последующим законом. Чем более интенсивным и ускоренным является процесс законотворчества, тем меньше определенности в вопросе о том, сколько времени будет действовать нынешнее законодательство. Более того, нет ничего, что мешало бы изменить какой-то вполне определенный в упомянутом смысле закон посредством другого закона, не менее «определенного», чем предыдущий.
Таким образом, определенность закона в этом смысле можно назвать краткосрочной определенностью закона. Действительно, кажется, что в наши дни существует параллель между краткосрочными мерами экономической политики и краткосрочной определенностью законов, которые вводятся в действие для обеспечения этих мер. Если обобщить, то политико-правовые системы почти всех современных стран в этом смысле можно назвать краткосрочными системами, по контрасту с классическими долгосрочными системами прошлого. Знаменитая фраза покойного Кейнса о том, что «в долгосрочной перспективе мы все мертвы», может послужить будущим историкам в качестве девиза нашего времени. Возможно, мы привыкли ожидать немедленных результатов от гигантского и беспрецедентного прогресса в области технических средств и научных приборов, разработанных для решения многих материальных задач и достижения многих материальных результатов. Несомненно, это создало у многих людей ожидание немедленных результатов также и в других областях, не зависящих от научно-технического прогресса.
Я вспоминаю разговор с одним стариком в моей стране, который занимался тем, что выращивал растения. Я попросил его продать мне большое дерево для моего сада. Он ответил: «Сегодня все хотят большие деревья. Люди хотят их немедленно; их не волнует то, что деревья растут долго и что требуется много времени и забот, чтобы вырастить дерево». «Сегодня все спешат, – печально сказал он, – и я не знаю, почему».
Кейнс мог бы объяснить ему, почему люди считают, что в долгосрочной перспективе они все умрут. Такую же установку можно заметить в связи с общим упадком религиозных чувств, на который сегодня жалуются многие священники и пасторы. В христианстве акцент обычно делался не на нынешней, а на будущей жизни человека. Чем меньше современный человек верит в будущую жизнь, тем больше он цепляется за свою нынешнюю жизнь – он спешит оттого, что считает эту жизнь короткой. Это вызвало резкое омирщение религиозных верований в современных странах Запада и Востока, так что даже такая безразличная к этому миру религия, как буддизм, усилиями некоторых ее приверженцев приобрела «социальное» (а по сути скорее «социалистическое») звучание. Современный американский исследователь Дагоберт Рунес пишет в своей книге о созерцании: «Церкви утратили связь с Божественным и обратились к политике и литературной критике»[40]40
Dagobert D. Runes, A Book of Contemplation (New York: Philosophical Library, 1957), p. 20.
[Закрыть].
Это может помочь объяснить, почему так мало внимания уделяется долгосрочной концепции определенности закона или, собственно, любой долгосрочной концепции, относящейся к человеческому поведению. Разумеется, это не означает, что краткосрочные системы эффективнее долгосрочных в достижении тех самых целей, к которым люди стремятся, когда изобретают, например, новую волшебную программу полной занятости, невиданную юридическую норму или просто просят садовника продать им большое дерево для сада.
Краткосрочная концепция – это не единственное представление об определенности закона, с которым встречается исследователь в истории политических и правовых систем стран Запада, если он обладает достаточным терпением, чтобы распознать принципы, которые лежат в основе институтов.
В эпоху античности все было иначе. Хотя историки могут до некоторой степени описать античную Грецию как страну с писаным законом, сомнительно, чтобы это было справедливо для Древнего Рима. Возможно, мы настолько привыкли думать о римской правовой системе в терминах Свода гражданского права Юстиниана, то есть в терминах писаного кодекса, что нам не удается осознать, как на практике применялось римское право. У римлян верховенство права в значительной степени вообще не было связано ни с каким законодательством. На протяжении большей части долгой истории Римской республики и Римской империи римское частное право, которое римляне называли jus civile, находилось вне досягаемости законодателей. Такие выдающиеся ученые, как покойные Ротонди и Винченцо Аранхио Руис, а также покойный английский юрист У. У. Бакленд, неоднократно повторяли, что «фундаментальные понятия и общую систему римского права следует искать в гражданском праве, то есть в наборе принципов, которые постепенно развились и усовершенствовались в течение многих веков в ходе судопроизводства, почти без вмешательства со стороны законодательного органа»[41]41
W. W. Buckland, Roman Law and Common Law (2nd ed. revised by F. H. Lawson; Cambridge University Press, 1952), p. 4. Эта книга представляет собой блистательное сравнение двух систем.
[Закрыть].
Бакленд также замечает, вероятно, на основании исследований Ротонди, что «из многих сотен сохранившихся leges [актов, принятых законодательным органом] не больше сорока имели значение с точки зрения частного права», так что по крайней мере в классическую эпоху римского права «законодательные акты находились в подчиненном положении относительно частного права»[42]42
W. W. Buckland, Roman Law and Common Law (2nd ed. revised by F. H. Lawson; Cambridge University Press, 1952), p. 18.
[Закрыть].
Очевидно, что это происходило не оттого, что римляне не обладали необходимой компетенцией в сфере нормотворчества. У них было много разновидностей законодательных актов: leges, plebiscita, а также Senatus Consulta, которые принимали соответственно народ и Сенат. У них были также в распоряжении разные виды leges, например leges imperfectae, minusquamperfectae и plusquamperfectae. Но, как правило, они предназначали статутное право для той области, в которой законодательные органы имели прямые полномочия на вмешательство, то есть для публичного права, quod ad rem Romanam spectat (относящегося к римским делам), относящегося к функционированию политических собраний, Сената, магистратов, то есть их государственных чиновников. Для римлян статутное право, выраженное в законодательных актах, – это в основном конституционное и административное (а также уголовное) право, только опосредованно связанное с частной жизнью и частными делами граждан.
Это означало, что во всех тех случаях, когда, например, между римскими гражданами возникал спор об их правах или обязанностях по договору, они обычно не могли обосновать свои требования, обратившись к какому-либо законодательному акту, к четко сформулированному писаному правилу, которое было бы определенным в греческом или в краткосрочном смысле слова. Так, один из наиболее выдающихся современных историков римской юриспруденции Фриц Шульц отмечал, что «определенность» (в краткосрочном смысле) была чужда римскому гражданскому праву. Это вовсе не означает, что римляне не могли планировать будущие правовые последствия своих действий. Всем известно о грандиозном развитии римской экономики, и вряд ли есть нужда ссылаться здесь на посвященный этой теме фундаментальный труд Ростовцева[43]43
Ростовцев М. И. Общество и хозяйство в Римской империи. В 2-х т. СПб.: Наука, 2000–2001. – Прим. научн. ред.
[Закрыть].
С другой стороны, всем исследователям римского частного права хорошо известно, что, как выражается профессор Шульц, «индивидуализм эллинистического либерализма привел к тому, что частное право развивалось на основе свободы и индивидуализма»[44]44
Fritz Schulz, History of Roman Legal Science (Oxford: Clarendon Press, 1946), p. 84.
[Закрыть]. Собственно говоря, большинство наших ныне существующих континентальных кодексов, в том числе французский, немецкий и итальянский, были написаны в соответствии с нормами римской правовой системы, зафиксированными в «Свод» Юстиниана. Некоторые социалисты-реформисты называют их «буржуазными». Так называемые социальные «реформы» в современных европейский странах возможны (если предположить, что они возможны) только при условии отмены или модификации норм, которые очень часто восходят к правилам древнеримского частного права.
Таким образом, у древних римлян был закон, достаточно определенный, чтобы позволить гражданам свободно и уверенно строить планы на будущее, который при этом вообще не являлся писаным законом, то есть последовательностью четко сформулированных правил типа письменного кодекса. Римский юрист по сути был исследователем: объектами его исследований были решения дел, за которыми к нему обращались граждане, примерно так же, как сегодня промышленники могут обратиться к физику или к инженеру за решением технической проблемы, касающейся оборудования или производства. Поэтому римское частное право представляло собой целый мир реально существующих вещей, которые были частью общего достояния всех римских граждан, – то, что можно было открыть или описать, но не принять и не ввести в действие. Никто не принимал этих законов, и никто при всем желании не мог их изменить. Это не означало, что изменений не было, но это определенно означало, что люди не ложились спать, строя планы на основании действующего закона, чтобы наутро обнаружить, что законодатели заменили этот закон другим.
Римляне выработали и применяли принцип определенности закона, который можно было бы описать так: закон не может быть изменен внезапно или непредсказуемым образом. Более того, как правило, закон не мог быть представлен на рассмотрение какому-либо законодательному собранию или отдельному индивиду, включая сенаторов и других высших должностных лиц государства, и не зависел от их произвольных желаний или произвольных полномочий. В этом состоит долгосрочная или, если вам так больше нравится, римская концепция определенности закона.
Несомненно, именно с этой концепцией была неразрывно связана та свобода, которой римские граждане традиционно пользовались в делах и вообще в частной жизни. До известной степени, результаты ее действия в сфере правовых взаимоотношений граждан были очень похожи на результаты действия свободного рынка в сфере их экономических взаимоотношений. Закон в целом был не менее свободен от принуждения, чем рынок. На самом деле я не могу представить себе действительно свободный рынок, который не был бы, в свою очередь, укоренен в свободной от произвольного (то есть внезапного и непредсказуемого) вмешательства властей или любого другого человека в мире правовой системы.
Можно было бы возразить на это, что римская правовая система должна была основываться на римской конституционной системе и, таким образом, если не прямо, то опосредованно, римская свобода в делах и в частной жизни была основана на статутном праве. Далее можно было бы утверждать, что статутное право в конечном итоге зависело от произвола сенаторов или таких законодательных собраний, как comitia (комиции, то есть народные собрания) и concilia plebis (разновидность комиций, в которых участвовали одни плебеи), не говоря о выдающихся гражданах, которые, как, например, Сулла, Марий или Цезарь, время от времени брали на себя контроль за всем происходящим и в силу этого получали полномочия на пересмотр конституции.
Тем не менее римские политики и государственные деятели всегда с чрезвычайной осторожностью подходили к использованию своих законодательных полномочий для вмешательства в частную жизнь граждан. Даже диктаторы, например Сулла, довольно аккуратно вели себя в этом отношении, и, вероятно, мысль о том, чтобы уничтожить jus civile, показалась бы им такой же странной, как современным диктаторам – идея отменить законы физики.
Действительно, люди вроде Суллы приложили большие усилия, чтобы во многих отношениях изменить римскую конституцию. Сам Сулла пытался отомстить таким народам и городам Италии, как Арретиум и Волатерра, поддержавшим его главного врага Мария, заставив римские законодательные собрания принять законы, которые внезапно лишили жителей этих городов римского jus civitatis, то есть римского гражданства и всех связанных с ним привилегий. Мы знаем об этом из речи Цицерона в защиту Цецины, с которой он выступил в суде. Однако мы также знаем, что Цицерон выиграл дело, доказав, что закон, инициированный Суллой, не является легитимным, поскольку никакое законодательное собрание не может посредством законодательного акта лишить римского гражданина его гражданства, так же как оно не может последством законодательного акта лишить римского гражданина его свободы. Закон, введенный в действие Суллой, был законодательным актом, формально одобренным народом; законы такого типа в Риме было принято называть lex rogata, то есть законодательный акт, который был одобрен народным собранием по просьбе избранного магистрата с соблюдением принятой процедуры. В связи с этим Цицерон упоминает, что с древнейших времен все законопроекты содержали оговорку, значение которой, хотя и ставшее с течением времени не совсем понятным, явно было связано с возможностью того, что содержание принятого законопроекта может оказаться противоправным: Si quid jus non esset rogarier, eius ea lege nihilum rogatum. («Если в этом законопроекте, одобрить который я вас прошу, есть что-либо, противоречащее закону, ваше одобрение будет считаться ничтожным», – примерно так обращался магистрат к законодательному собранию римского народа.)
Это, как кажется, доказывает, что законодательные акты могли противоречить закону и римские суды не считали законными некоторые писаные и одобренные формально законы, например, те, которые лишали римских граждан их свободы или их гражданства.
Если Цицерон не лжет, можно сделать вывод о том, что римское право было ограничено принципом законности, чрезвычайно похожим на тот, который сформулировал Дайси применительно к английскому принципу «верховенства права»[45]45
Этим и другими интересными замечаниями о римской правовой системе я обязан профессору В. Аранхио Руису, чья статья “La regle de droit dans l’antiquite' classique”, опубликованная автором также в Rariora (Rome: Ed. di storia e letteratura, 1946, p. 233), является чрезвычайно информативной и стимулирующей.
[Закрыть].
Согласно последнему, который тесно связан с историей обычного права в целом, нормы права были не просто итогом осуществления произвольной воли отдельных людей. Они представляли собой объект для непредвзятого расследования со стороны судов, точно так же, как римские правовые нормы были объектом непредвзятого расследования со стороны римских юристов, к которым тяжущиеся стороны обращались со своими спорами. Сейчас мнение о том, что суды описывают или находят верное решение по делу, как писал в своей заслуженно знаменитой книге «Как возникает закон» (Law in the Making) Карлтон Кемп Аллен, считается старомодным. Современная так называемая реалистическая школа, считающая доказанными многочисленные недостатки этого способа «открытия» законов, с удовольствием приходит к выводу, что работа судей в системе обычного права была и остается не более беспристрастной, чем работа законодателей, но при этом менее публична. Конечно, по этому поводу надо было бы сказать гораздо больше, чем это возможно здесь. Однако нельзя отрицать, что судья в системе обычного права всегда относился к rationes decidendi рассматриваемых дел (то есть к основаниям, из которых он исходит при принятии решения) не как законодатель, а как исследователь, задача которого состоит в том, чтобы подтвердить данные, а не изменить их. Я не отрицаю, что бывали случаи, когда судьи в системе обычного права сознательно выносили необъективное решение под ложным предлогом якобы уже существующего закона страны. Самый знаменитый из английских судей, сэр Эдвард Кок, не может быть избавлен от таких подозрений, и я осмелюсь утверждать, что самый знаменитый из американских судей, главный судья Маршалл, в этом смысле не отличается от своего прославленного английского коллеги XVII века.
Я всего лишь хочу подчеркнуть, что в Англии не могли с легкостью вводить в действие произвольные законы, потому там никогда не было возможности делать это непосредственно, в характерной внезапной, грандиозной и надменной манере законодателей. Более того, в Англии было столько судов и они так ревниво относились друг к другу, что даже знаменитый принцип прецедента, имеющего обязательную силу, не признавался ими открыто вплоть до относительно недавнего времени. Кроме того, они всегда имели право выносить решение только в связи с конкретным обращением к ним частных лиц. Наконец, относительно немного людей обращались в суд за тем, чтобы узнать от судей нормы, которыми они руководствуются в принятии решений. В результате в процессе возникновения закона судьи находились скорее в позиции зрителей, а не актеров; причем в позиции зрителей, которым разрешено видеть не все из того, что происходит на сцене. На сцене находились частные граждане. Обычное право в основном состояло в том, что они обычно считали правом. В этом отношении реальными действующими лицами были обычные граждане, так же как они и сейчас являются реальными действующими лицами в процессе формирования языка и, по крайней мере частично, в экономических сделках, если речь идет о странах Запада. Грамматиков, которые описывают нормы языка, или статистиков, которые отслеживают цены или объемы товаров на рынке, гораздо правильнее считать обычными наблюдателями за происходящим вокруг, чем властителями, управляющими своими согражданами в том, что касается экономики и языка.
Возрастающее значение законодательного процесса в наше время, как на Европейском континенте, так и в англоговорящих странах, с неизбежностью скрыло то, что закон – это просто комплекс правил, относящихся к поведению обычных людей. Нет никаких оснований считать эти правила поведения резко отличающимися от других правил поведения, в которые политические власти вмешивались только в исключительных случаях или вообще не вмешивались. Действительно, в наше время единственным, что обычные люди сумели сохранить и защитить от политического вмешательства, является язык, по крайней мере в Западном мире. Сегодня в Красном Китае, например, правительство применяет насильственные меры, чтобы изменить традиционную систему письма, и подобное вмешательство уже увенчалось успехом в некоторых других странах Востока, например, в Турции. Во многих странах люди уже почти совсем забыли о временах, когда, например, банкноты выпускал не только государственный банк, но и частные банки. Боле того, сегодня мало кто знает о том, что чекан монет раньше был частным занятием, а правительства ограничивались тем, что защищали граждан от злоупотреблений со стороны фальшивомонетчиков, просто подтверждая качество и вес металлов, использованных для изготовления монеты. Похожая ситуация существует с общественным мнением о государственном секторе в экономике. В континентальной Европе, где железные дороги и телеграф давным-давно были монополизированы государством, только очень немногие, даже среди хорошо образованных людей, могут представить себе, что в какой-то стране железные дороги и телеграфные сообщения являются частным бизнесом – точно так же как кинематограф, отели и рестораны. Мы все больше привыкаем рассматривать законотворчество как нечто такое, что имеет отношение к законодательным собраниям, а не к обычным людям, как нечто, что может соответствовать личным идеям конкретных индивидов, при условии, что их официальное положение предоставляет им такие полномочия. То, что на протяжении жизни десятков поколений, растянутым на много сотен лет, процесс создания законов является или был по преимуществу частным делом, затрагивающим миллионы людей, сегодня практически не осознается даже образованными слоями. Говорят, что у римлян не было вкуса к историческим и социологическим соображениям. Но они ясно осознавали то, о чем я только что упомянул. Например, согласно Цицерону, Катон Цензор (Старший), сторонник традиционного римского образа жизни и противник иностранного (то есть греческого) влияния, любил повторять, что «наше государственное устройство лучше устройства других государств по той причине, что в последних, можно сказать, отдельные лица создавали государственный строй на основании своих законов и установлений, например, у критян – Минос, у лакедемонян – Ликург, у афинян, чье государственное устройство весьма часто испытывало перемены, вначале – Тесей, затем Драконт, затем Солон, Клисфен и многие другие, а под конец совершенно ослабевшему государству не дал погибнуть ученый муж Деметрий Фалерский; напротив, наше государство создано умом не одного, а многих людей, и не в течение одной человеческой жизни, а в течение нескольких веков и на протяжении жизни нескольких поколений. Ибо, – говорил Катон, – никогда не было такого одаренного человека, от которого ничто не могло бы ускользнуть, и все дарования, сосредоточенные в одном человеке, не могли бы в одно и то же время проявиться в такой предусмотрительности, чтобы он мог обнять все стороны дела, не обладая долговременным опытом»[46]46
Cicero De republica ii. 1, 2. [Русск. изд.: Марк Туллий Цицерон. Диалоги. М.: Научно-издательский центр «Ладомир» – Наука, 1994].
[Закрыть].
Между прочим, эти слова напоминают нам о гораздо более известной, но менее волнующей фразе Бёрка, которая является обоснованием его консервативного взгляда на государство. Однако слова Бёрка имеют легкий мистический налет, которого мы не находим в бесстрастных рассуждениях старого и почтенного римлянина. Катон просто указывает на факты, не стремясь никого убедить, и те факты, на которые он указывает, несомненно, должны произвести большое впечатление на всякого, кто хоть немного знаком с историей.
Создание законов, как говорит Катон, в действительности не дело какого-либо отдельного индивида, исследовательского центра, эпохи и поколения. Если вы полагаете, что Катон неправ, вы получите худшие результаты по сравнению с теми, которые вы получили бы, согласившись с ним. Посмотрите на судьбу греческих городов, сравните с судьбой наших городов – и убедитесь. Это урок – нет, я сказал бы, завет – государственного деятеля, о котором мы обычно знаем только то, чему нас учили в школе: что он был раздражительным занудой, вечно настаивавшим на том, что Карфаген надо сровнять с землей, а его жителей – убить.
Любопытно отметить, что, когда современные экономисты, например, Людвиг фон Мизес, критикуют централизованное экономическое планирование за то, что оно не позволяет властям произвести какие-либо расчеты, относящиеся к реальным нуждам и к реальным возможностям граждан, они занимают позицию, которая напоминает нам об этом древнеримском государственном деятеле. То, что в тоталитарной экономике центральная власть, вырабатывая свои экономические планы, не располагает никакой информацией о рыночных ценах, является лишь следствием того, что центральная власть никогда не располагает достаточной информацией о бесконечном количестве элементов и факторов, которые образуют социальное взаимодействие индивидов в любое время и на любом уровне. Власти никогда не могут быть уверены в том, что они делают то, чего от них хотят люди, точно так же как люди никогда не могут быть уверены в том, что, когда власти направляют весь процесс создания законов в стране, они не вмешаются в то, что люди хотят сделать.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































