Текст книги "Виллет"
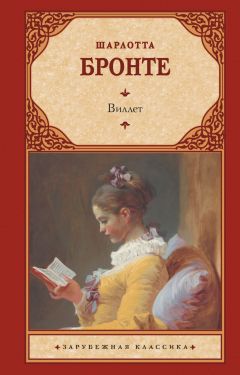
Автор книги: Charlotte Bronte
Жанр: Литература 19 века, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 18 (всего у книги 38 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
– Как здесь жарко! – заявил доктор Джон, поднимаясь с места и пребывая в раздражении. – Люси, дорогая, не выйти ли нам на воздух хотя бы на пару минут?
– Да, прогуляйтесь, – поддержала сына миссис Бреттон, – а я, пожалуй, посижу.
Я бы тоже предпочла остаться на месте, однако желание Грэхема всегда обладало правом закона, поэтому пришлось отправиться вместе с ним.
Вечерний воздух показался холодным – во всяком случае, мне. Мистер Бреттон не замечал ничего вокруг, но было очень тихо, а на безоблачном небе мерцали звезды. Закутавшись в теплую шаль, я покорно пошла по аллее, но под фонарем Грэхем поймал мой взгляд и спросил:
– Вам грустно, Люси. Это из-за меня?
– Беспокоюсь, не опечалены ли вы.
– Нисколько, так что взбодритесь по моему примеру. Когда бы я ни умер, Люси, уверен, что это произойдет не от сердечных страданий. Могу чувствовать себя уязвленным, могу на некоторое время поникнуть духом, но до сих пор ни одна боль, ни одно страдание не проникли в мой организм. Дома вы всегда видели меня веселым?
– Как правило.
– Я даже рад, что она насмехалась над матушкой. Не променяю свою старушку и на дюжину красавиц. Эта презрительная ухмылка подействовала благотворно. Спасибо, мисс Фэншо! – сняв с кудрявой головы шляпу, он театрально поклонился и продолжил: – Да, я ее благодарю. Она заставила понять, что из десяти частей моего сердца девять неизменно оставались здоровыми и лишь десятая кровоточила от небольшой раны: пустячного прокола ланцетом, который мгновенно заживет.
– Сейчас вы раскалены, разгневаны и возбуждены. Завтра все изменится.
– Раскален и разгневан! Плохо вы меня знаете. Напротив, накал прошел: я холоден как ночь, которая, кстати, может оказаться слишком свежей для вас. Пойдемте обратно.
– Доктор Джон, как вы переменились!
– Ничего подобного. А если и так, то на это есть уважительная причина, даже две. Одну я вам изложил. А теперь давайте вернемся в зал.
Мы с трудом добрались до своих мест; началась лотерея, а вместе с ней возникла сумятица. Толпа заблокировала подобие коридора, по которому нам предстояло пройти, и пришлось остановиться. Вдруг мне показалось, что кто-то произнес мое имя. Оглянувшись, я увидела рядом вездесущего, неотвратимого месье Поля. Он смотрел мрачно и сосредоточенно: не столько на меня, сколько на розовое платье, – и во взгляде застыл сардонический комментарий. Надо заметить, что профессор имел обыкновение подвергать критике наряды учительниц и учениц пансионата мадам Бек, и эту его привычку если не все, то по крайней мере некоторые считали оскорбительной. До сих пор я была избавлена от нападок просто потому, что серые, унылые повседневные платья не привлекали внимания. Сегодня я не желала пасть жертвой агрессии, и вместо того чтобы встретить нападение, предпочла игнорировать присутствие противника, для чего намеренно повернулась к рукаву доктора Джона. Рукав этот показался куда более симпатичным, приятным, добродушным и дружелюбным, чем непривлекательная внешность маленького смуглого профессора. Доктор Джон неосознанно одобрил мое предпочтение, посмотрев сверху вниз, и произнес своим добрым голосом:
– Да, держитесь поближе, Люси: эта толпа бюргеров не готова проявить уважение.
Однако твердости характера мне не хватило. Поддавшись неведомому воздействию – возможно, гипнотическому, – но явно недоброму, нервирующему, непреодолимому, я все-таки обернулась, чтобы посмотреть, не ушел ли месье Поль. Нет, он продолжал стоять на том же месте – неподвижно, но с иным выражением лица, словно проникнув в мои мысли, прочитал стремление избежать встречи. Насмешливый, но все-таки добродушный взгляд сменился хмурым прищуром, а когда я поклонилась в надежде на примирение, то в ответ получила лишь едва заметный, леденяще суровый кивок.
– Кого вы так рассердили, Люси? – с улыбкой прошептал доктор Джон. – Кто этот свирепый друг?
– Один из профессоров пансионата мадам Бек, причем крайне строгий.
– Сейчас он действительно выглядит устрашающе. Что такое вы с ним сделали? Что все это значит? Ах, Люси, Люси! Умоляю, объясните!
– Уверяю вас, никакой тайны нет. Месье Эммануэль чрезвычайно требователен. А поскольку, вместо того чтобы поклониться и сделать книксен, я уставилась на ваш рукав, он решил, что недополучил свою долю уважения.
– Этот маленький… – начал доктор Джон, однако договорить не смог, так как в этот момент меня едва не смяла толпа.
Месье Поль грубо двинулся вперед и начал с такой бесцеремонностью расчищать себе путь локтями, что в итоге образовалась настоящая давка.
– По-моему, он один из тех бесцеремонных персонажей, кого сам бы назвал злодеями, – заметил доктор Бреттон.
Я тоже так думала.
Медленно, с большим трудом мы добрались до наших кресел. Веселый, занимательный процесс вытягивания билетов продолжался около часа, а потом настал кульминационный момент: каждый поворот колеса рождал всеобщую надежду и всеобщее волнение. Номера вытаскивали две девочки пяти и шести лет, а затем во всеуслышание объявлялись призы – многочисленные, однако незначительные по ценности. Мы с доктором Джоном тоже получили трофеи. Мне достался портсигар, а ему – дамский головной убор: чрезвычайно легкомысленный, голубой с серебром тюрбан с напоминающим снежное облако пучком перьев. Грэхем упорно убеждал обменяться, но я отказалась наотрез и по сей день храню свое сокровище. Глядя на милую вещицу, вспоминаю прежние времена и тот счастливый вечер.
Что же касается доктора Джона, то он двумя пальцами держал тюрбан на расстоянии вытянутой руки, разглядывая с вызывающим неудержимый смех почтительным недоумением. Закончив изучение, собрался положить хрупкое украшение на пол, между ног, очевидно, не представляя, что с ним делать дальше. Если бы матушка не пришла на помощь, скорее всего, просто сунул бы под мышку, как складной цилиндр. К счастью, миссис Бреттон вернула головной убор в шляпную коробку, откуда тот и явился.
Весь вечер Грэхем держался жизнерадостно, причем настроение это казалось вполне естественным. Его поведение и внешность описать нелегко: было в них что-то особое и по-своему оригинальное. Я прочитала необыкновенное владение страстями и глубину здоровой силы, способной без видимого усилия задушить змею разочарования и вытащить ее ядовитый зуб. Манеры его напомнили мне качества, замеченные во время профессиональных визитов в бедные кварталы. Там он тоже выглядел одновременно решительным, терпеливым и добрым. Разве можно было не проникнуться симпатией к этому благородному человеку? Он не проявлял слабости, заставлявшей думать о необходимости поддержки. От него не исходило пугающего и подавляющего раздражения. С губ не срывались ядовитые, до костей прожигающие слова. Глаза не метали вонзавшихся прямо в сердце угрюмых стрел с холодными ржавыми наконечниками. Рядом с доктором Бреттоном царило безмятежное спокойствие, вокруг него светило ласковое солнце.
И все же он не простил и не забыл мисс Фэншо. Сомневаюсь, что, разгневавшись, он легко смягчался, а охладев, мог когда-нибудь снова воспылать любовью. Он смотрел на нее не однажды, причем не тайно и робко, а открыто и твердо. Полковник Амаль не отходил, миссис Чолмондейли сидела рядом, и все трое были целиком погружены в веселую беседу и возбужденное предвкушение, охватившее алую ложу ничуть не меньше, чем плебейские части зала. В разгар особенно горячего спора Джиневра раз-другой подняла руку настолько высоко, что на запястье блеснул драгоценный браслет. Я заметила, как его сияние отразилось в глазах Грэхема презрительными, гневными искрами.
– Пожалуй, следует возложить тюрбан на обычный алтарь приношений, – рассмеялся доктор. – Там, во всяком случае, он точно встретит одобрение: ни одна гризетка не обладает более развитым инстинктом приобретения. Странно! Насколько мне известно, мисс Фэншо выросла в хорошей семье.
– Да, но вы незнакомы с ее образованием, – возразила я. – Всю жизнь скитаясь из одной школы в другую, молодая леди может по праву продлить перечень своих недостатков невежеством. К тому же с ее слов мне известно, что и отец, и мать воспитывались точно так же.
– Всегда считал, что серьезным состоянием она не владеет, и мысль меня радовала.
– Джиневра призналась, что семья ее бедна. Она всегда говорит правду: никогда не врет, как это принято у иностранок. У них много детей, однако положение и связи, по мнению родителей, требуют показного благополучия. Острая нехватка средств вкупе с природным легкомыслием породила крайнюю неразборчивость в способах достижения желанной видимости. Таково положение дел, и это единственное, что Джиневра видела с первых дней жизни.
– Вполне верю. Я очень надеялся внушить ей более благородное отношение к материальной стороне существования, но теперь, если честно, Люси, глядя на нее и Амаля, испытываю совершенно новое чувство. Впервые оно возникло еще до того, как я заметил пренебрежение по отношению к матушке: увидел, как, едва войдя в ложу, эти двое посмотрели друг на друга, и откровенный смысл многозначительного взгляда от меня не утаился.
– О чем вы? Это всего лишь флирт, и не больше!
– Что флирт! Он мог означать девичий каприз, желание подразнить истинного поклонника! Я говорю вовсе не о флирте: молчаливый обмен взглядами означал глубокое тайное взаимопонимание и вовсе не был ни девичьим, ни невинным. Ни одна женщина – даже прекрасная, словно Афродита, но способная послать или принять подобный знак, – не сможет стать моей женой. Скорее женюсь на пейзанке в короткой юбке, деревянных башмаках и высоком чепце, чтобы быть уверенным в ее честности.
Я не смогла сдержать улыбки, не сомневаясь, что он преувеличивает порок. Несмотря на легкомыслие, Джиневра оставалась достаточно честной, о чем я и сказала. Доктор Бреттон покачал головой и заявил, что не смог бы довериться такой, как она.
– И все же это единственное, в чем можно целиком и полностью на нее положиться. Джиневра будет беззастенчиво опустошать бумажник мужа и покушаться на его состояние, безрассудно испытывать его терпение и нервы, однако я почти уверена, что ни разу в жизни не посягнет на его честь и никому не позволит это сделать.
– Становитесь преданным адвокатом. Хотите, чтобы я вернулся к прежним цепям?
– Нет. Рада видеть вас на свободе и надеюсь, что сохраните независимость надолго, но все же оставайтесь справедливым.
– И так уж справедлив, как Радамант[187]187
Радамант – в древнегреческой мифологии сын Зевса и Европы, один из судей Аида. – Примеч. ред.
[Закрыть], Люси, однако, охладев и отстранившись, не могу не судить строго. Но смотрите: король и королева встают. Мне нравится ее величество: очень милая и скромная леди. Мама тоже заметно устала. Если задержимся дольше, не довезем старушку домой.
– Я устала, Джон? – воскликнула миссис Бреттон живым и бодрым голосом. – Готова пересидеть тебя. Пусть нас оставят здесь до утра, и тогда посмотрим, кто на рассвете покажется более утомленным.
– Что-то не хочется проводить эксперимент. Честно говоря, мама, вы самое стойкое из вечнозеленых растений и самая свежая из матрон. В таком случае придется сослаться на слабые нервы и хрупкую конституцию вашего сына и на этом основании просить скорейшего возвращения домой.
– Лентяй! Не иначе как мечтаешь добраться до постели. И все же придется с тобой согласиться. Люси тоже выглядит совершенно измученной. Стыдись, Люси! В твоем возрасте меня не заставила бы побледнеть даже целая неделя вечерних выездов. Как знаете, молодые люди: можете сколько угодно смеяться над старушкой, но я все равно заберу коробку с тюрбаном.
Так она и поступила. Я предложила помощь, но она была отвергнута с шутливым презрением. Крестная матушка заявила, что будет славно, если я позабочусь о самой себе. Поскольку уход королевской четы освободил подданных от церемоний, среди веселой суматохи зала миссис Бреттон пошла первой и быстро проложила нам путь в толпе. Грэхем следовал за ней, не переставая шутить: например, заявил, что ни разу в жизни не имел счастья видеть такую симпатичную гризетку со шляпной коробкой в руках; призвал меня обратить внимание на страсть матушки к небесно-голубому тюрбану и выразил уверенность, что однажды она непременно его наденет.
На улице стало очень холодно и совсем темно, однако мы быстро нашли свой экипаж и поспешили устроиться на мягких удобных подушках. Не побоюсь признаться, что возвращение домой стало еще приятнее, чем поездка на концерт. Удовольствие ничуть не омрачилось тем обстоятельством, что значительную часть свободного времени кучер провел в лавочке виноторговца, в результате пропустил поворот к Террасе и по пустой темной дороге завез нас неизвестно куда. Все это время мы весело болтали и смеялись, ничего не замечая до тех пор, пока миссис Бреттон не призналась:
– Всегда знала, что шато расположено в уединенном месте, однако не подозревала, что живу на краю света. И все же, судя по всему, это так, потому что едем уже полтора часа и до сих пор не свернули на свою аллею.
Тогда Грэхем выглянул в окно и, увидев вокруг поля с незнакомыми рядами тополей и лип вдоль невидимых во тьме изгородей, приказал кучеру остановиться, сел на козлы и сам взял поводья. Благодаря его уверенности мы благополучно прибыли домой, хоть и на полтора часа позже.
К счастью, Марта о нас не забыла. В гостиной весело пылал камин, а в столовой был накрыт стол к ужину. Мы обрадовались и тому, и другому и по спальням разошлись, когда уже занималась зимняя заря. Снимая кружевную накидку и розовое платье, я чувствовала себя намного лучше, чем в тот момент, когда их надевала. Наверное, далеко не все из блиставших яркими нарядами дам могли признаться в том же, так как не все довольствовались дружбой, душевным спокойствием и скромной надеждой.
Глава XXI
Реакция
Через три дня мне предстояло вернуться в пансионат. С тоской наблюдая, как стрелки отсчитывают минуты на циферблате часов, я думала, с какой радостью остановила бы время. Пребывание в Террасе незаметно, но стремительно подходило к концу.
– Сегодня Люси от нас не уедет, – уверенно заявила миссис Бреттон за завтраком. – Она знает, что можно добиться второй отсрочки.
– Если бы могла, не стала бы просить и одной, – возразила я. – Пора уже попрощаться и вернуться на рю Фоссет, и чем быстрее, тем лучше. Чемодан уже собран и перевязан.
Выяснилось, однако, что время отъезда зависело от Грэхема. Он сказал, что сам меня отвезет, но весь день провел в больнице и домой вернулся лишь в сумерках. Последовала краткая, но энергичная словесная перепалка с сыном. Миссис Бреттон убеждала остаться еще на одну ночь. Я едва не плакала от досады: так хотелось скорее уехать, покинуть добрых друзей, чтобы избавиться наконец от терзавшей меня боли. Гостеприимные хозяева, конечно, об этом не подозревали, поскольку не обладали подобным опытом.
У двери пансионата мадам Бек, в полной темноте, доктор Джон подал мне руку и помог выйти из экипажа. Как и весь день, моросил холодный ноябрьский дождь. Над крыльцом горел фонарь, и свет падал на мокрую мостовую. Еще не прошло и года с тех пор, как в такой же вечер я впервые переступила этот порог. Ничего не изменилось. Я помнила даже форму камней на дороге, которые разглядывала, пока с тяжело бьющимся сердцем ждала ответа на свой звонок – одинокая и бездомная. Тогда же случайно встретила того, кто сейчас стоял рядом. Напомнила ли ему о короткой встрече, объяснилась ли? Нет, не сделала ни того, ни другого, о чем даже ни разу не пожалела. Приятное воспоминание жило в моем сознании, и выпускать его на волю не хотелось.
Грэхем позвонил. Дверь мгновенно открылась, так как настало время, когда городские ученицы разъезжались по домам и Розин дежурила на посту.
– Не входите, – попросила я, однако он все-таки переступил порог и оказался в освещенном вестибюле.
Мне не хотелось, чтобы доктор Джон заметил «воду в глазах», поскольку обладал слишком добрым сердцем, чтобы без необходимости видеть подобное свидетельство печали, всегда стремился помочь, облегчить страдание – даже тогда, когда оказывался бессилен.
– Не теряйте мужества, Люси. Думайте о нас с матушкой как о верных друзьях. Мы вас не забудем.
– И я не забуду вас, доктор Джон.
Возница внес мой чемодан, и мы обменялись прощальными рукопожатиями. Он повернулся, но, прежде чем уйти, почувствовав, что не сказал и не сделал достаточно, чтобы удовлетворить щедрость души, спросил:
– Люси, вам здесь будет очень одиноко?
– Поначалу да.
– Скоро матушка приедет вас навестить, а сам я буду писать письма: просто какую-нибудь веселую чепуху, которая придет в голову. Хорошо?
«Доброе, благородное сердце!» – подумала я, однако покачала головой и с улыбкой возразила:
– Не думайте об этом, не утруждайтесь. Писать мне! У вас нет на это времени.
– О, не беспокойтесь, найду. До свидания!
Он ушел. Тяжелая дверь захлопнулась. Топор упал. Казнь свершилась.
Не давая себе времени думать и чувствовать, глотая слезы, словно вино, я отправилась в гостиную мадам, чтобы нанести необходимый визит вежливости и почтения. Хозяйка встретила меня с великолепно изображенной сердечностью. Прием оказался демонстративно теплым, хотя и кратким. Уже спустя десять минут мне было позволено уйти. Я направилась в столовую, где в этот час учительницы и ученицы собрались для вечерних занятий, и снова услышала теплые слова – причем, кажется, не совсем фальшивые. Поздоровавшись со всеми, я наконец-то почувствовала, что имею право спрятаться в спальне, и, опустившись на край кровати, спросила себя: «Неужели Грэхем действительно напишет?»
Здравый смысл тайком пробрался сквозь полумрак длинной пустой спальни и благоразумно шепнул: «Возможно, напишет, но лишь однажды: добрая душа заставит сделать усилие, – а продолжения не последует». Велика глупость, способная поверить в такое обещание; безумна доверчивость, принявшая дождевую лужу с единственным глотком воды за вечный источник, дарящий влагу круглый год.
Я склонила голову и в такой позе просидела больше часа. Положив на плечо высохшую руку, касаясь уха холодными, посиневшими от старости губами, благоразумие продолжало нашептывать мудрые слова: «Но даже если напишет, что тогда? Мечтаешь о счастье ответа? О, глупая! Предупреждаю: отвечай коротко. Не надейся на восторг сердца и радость ума. Не давай простора чувствам. Не позволяй вспыхнуть искре откровенности. Не рассчитывай на искреннее общение…» – «Но я беседовала с Грэхемом, и ты не возражало!» – взмолилась я.
«Нет, – подтвердило благоразумие. – Тогда в этом не было нужды. Беседа тебя дисциплинирует. Разговариваешь ты плохо. Во время речи не забываешь о своем низком положении, не поддаешься иллюзиям. Боль, лишения, нищета связывают твой язык…» – «Но, – возразила я снова, – если телесное воплощение слабо и речь презренна, разве нельзя сделать письмо средством общения более достойным, чем дрожащие губы?» – «Напрасная мечта! Даже не пытайся вдохнуть душу в начертанные строки!» – сурово ответило благоразумие.
«Неужели нельзя выразить то, что я чувствую?» – «Никогда!»
Я застонала от безжалостного приговора. «Никогда»… О, какое жестокое слово!
Пришлось смириться с тем, что благоразумие не позволит поднять голову, улыбнуться, обрести надежду: не успокоится, пока окончательно не сломит, не унизит и не растопчет, ибо считает, что я родилась лишь для того, чтобы работать ради куска хлеба, ожидать мучений смерти и всю жизнь тосковать. Благоразумие может говорить правду, и все же неудивительно, что время от времени мы с радостью пренебрегаем его советами, вырываемся из-под опеки и даем волю воображению – его главному сопернику и нашему верному помощнику, нашей божественной надежде, – и, несмотря на неминуемую страшную месть, время от времени переступаем роковую черту. Благоразумие дьявольски мстительно: мне оно всегда напоминало злую мачеху. Если я и подчинялась ему, то только из страха, а не по любви. Давно следовало бы умереть от его дурного обращения, ограничений, холода, голода, ледяной постели, бесконечных избиений. Спасла меня лишь тайно преданная добрая сила. Благоразумие часто выгоняло меня зимней ночью на мороз, швырнув вслед обглоданные собаками кости, сурово заявив, что больше для меня ничего нет, даже не позволив попросить чего-то лучшего. И вдруг, посмотрев вверх, среди хоровода звезд я замечала одну, самую яркую, которая посылала мне луч сочувствия и внимания. Неслышно спускался и дух – тот, что добрее и лучше человеческого благоразумия, – и нес с собой заимствованное у вечного лета тепло, аромат никогда не вянущих цветов, красоту деревьев, чьи фрукты дают жизнь, чистый ветер счастливого мира, где день светел даже без солнца. Мой голод утолил добрый ангел: именно он принес странную сладкую пищу, которую собрал вместе с другими ангелами, в первый свежий час божественного дня вышедшими в серебряное от росы поле. Добрый ангел нежно развеял невыносимый, убийственный страх, милостиво позволил отдохнуть от смертельной усталости, щедро подарил парализованному отчаянию надежду и свет. Божественное, сострадательное, исцеляющее благо! Если я преклоню колени перед кем-нибудь, кроме самого Бога, то только перед твоим белым крылатым образом, прекрасным и на горе, и на равнине. Во имя солнца построены храмы, луне посвящены алтари. О, величайшая слава! Твое имя не возносят руки, не шепчут губы, но сердца поклоняются тебе вечно. Твой дворец слишком велик для стен, слишком высок для куполов. Это храм, где пол безграничен, а обряды пронзают сущее и воспламеняют гармонию миров!
Всесильный властитель! Твою стойкость поддерживает армия страдальцев, твои успехи вершит избранный отряд достойных воинов. Неоспоримое божество, сущность твоя нетленна!
Небесный ангел вспомнил обо мне этим вечером, увидел, что плачу, и успокоил, проговорив нежно: «Усни, я позолочу твой сон!»
Ангел исполнил обещание и не оставил меня ночью, однако на рассвете его сменило благоразумие. Я проснулась словно от толчка. В окна хлестал дождь, злобно завывал ветер. В центре спальни на круглой черной подставке догорал ночник. Занялся день. До чего же мне жаль тех, кого умственная боль оглушает, а не волнует! В то утро мучительное пробуждение вытащило меня из постели подобно мощной руке великана. Как быстро я оделась в холоде дождливого рассвета! С каким наслаждением выпила ледяной воды из графина! Она всегда служила лучшим лекарством, к которому, словно пьяница, я обращалась в минуты горя.
Вскоре звонок объявил общий подъем. Уже одетая, я спустилась в столовую, где топилась печка и было тепло. Остальные комнаты не отапливались, хотя, несмотря на начало ноября, северные ветры принесли в Европу зимнюю стужу. Помню, поначалу черные чугунные печки мне не нравились, однако со временем я научилась ценить их тепло и полюбила ничуть не меньше, чем дома, в Англии, камины.
Устроившись перед милостивой утешительницей, я вскоре погрузилась в глубокий спор с собой относительно жизни и ее шансов, судьбы и ее решений. Сознание, более сильное и спокойное, чем вчера вечером, выдвинуло ряд необходимых правил. Правила эти под страхом смерти запрещали любое малодушное обращение к былому счастью, требовали терпеливого преодоления нынешних испытаний и надежды на веру – созерцания облака и колонны, которые подчиняют, направляя, и вселяют благоговейный ужас, просвещая, – приказывали подавлять стремление к обожанию и поклонению, держать под контролем мечты о далекой Земле обетованной, чьи реки, возможно, существуют лишь в предсмертных мечтах, чьи тучные пастбища видны только с одинокой вершины погребальной горы Нево[188]188
Нево – гора, на которой, по библейскому сказанию, умер Моисей. Перед смертью Бог показал ему с вершины Нево землю обетованную. – Примеч. ред.
[Закрыть].
Постепенно в душе родилось сложное чувство: боль переродилась в силу, успокоила судорожное биение сердца и позволила приступить к обычной работе. Я подняла голову.
Устроившись возле печки и выглянув в холл через окно, которое находилось в той же стене, я увидела не только феску с кисточкой, но и лоб, и внимательные глаза, пристальный взгляд которых пересекся с моим уже в следующее мгновение: за мной наблюдали. До этого момента я не подозревала, что щеки влажны от слез, а сейчас явственно ощутила предательскую улику.
В странном доме мадам Бек не существовало уголков, защищенных от вторжения извне. Без свидетелей нельзя было пролить ни единой слезы, сосредоточиться ни на одной мысли: тут же рядом возникала шпионка, которая все замечала и обо всем докладывала мадам, но откуда взялся, да еще в столь необычный час, посторонний шпион-мужчина? Какое право он имел вмешиваться в мои дела? Ни один другой профессор не осмелился бы пересечь холл до звонка на урок, однако месье Эммануэль не обращал внимания ни на часы, ни на общепринятые правила: в библиотеке первого класса хранилась необходимая ему книга, и этого оказалось достаточно для вторжения. По пути за книгой он прошел мимо столовой, как всегда, замечая все вокруг, – вот так и увидел меня через маленькое окно, открыл дверь и явился собственной персоной.
– Mademoiselle, vous êtes triste[189]189
Мадемуазель, вы печальны (фр.).
[Закрыть].
– Monsieur, j’en ai bien le droit[190]190
Месье, имею право (фр.).
[Закрыть].
– Vous êtes malade de coeur et d’humeur[191]191
Вы больны сердцем и душой (фр.).
[Закрыть], не только печальны, но и сердиты. Вижу на щеках две слезинки. Знаю, что они горячи, как две искры, и солоны, как два морских кристалла. Сейчас, слушая мои слова, вы смотрите странно. Хотите, скажу, какой образ вы мне внушаете?
– Месье, скоро позовут на молитву, так что времени на разговоры совсем мало. Простите…
– Что ж, я готов. Нрав мой настолько кроток, что ни отказ, ни даже оскорбление не способны его возмутить. Вы сейчас как дикое молодое животное, только что пойманное, неприрученное: со страхом смотрите на вошедшего в клетку дрессировщика.
Непростительное замечание – безрассудное и бестактное по отношению к ученице и недопустимое по отношению к учительнице. Месье Поль стремился спровоцировать гневный ответ: мне уже приходилось видеть, как он раздражал эмоциональные натуры, вызывая взрыв чувств, – но во мне злоба не нашла удовлетворения, и я сидела молча.
– Похоже, вы готовы с радостью проглотить сладкую отраву, а полезную горькую настойку с отвращением отвергнуть.
– Никогда не пила горькие настойки и не считаю их полезными, а что касается сладкого – будь то отрава или что-то съедобное, – по крайней мере невозможно отрицать одного чудесного свойства – сладости. Лучше умереть быстрой приятной смертью, чем влачить долгую безрадостную жизнь.
– И все же, если бы я мог распоряжаться, то вы ежедневно получали бы свою горькую порцию, а что касается возлюбленной сладости, то разбил бы чашку, ее содержащую.
Я стремительно отвернулась: и оттого, что присутствие месье Поля вызывало досаду, и чтобы избежать вопросов: в нынешнем состоянии необходимое для ответов усилие могло разрушить самообладание.
– Ну же, – произнес месье Поль мягче, – скажите правду: печалитесь из-за разлуки с друзьями, правда?
Вкрадчивая учтивость показалась не более приемлемой, чем инквизиторское любопытство. Я молчала. Профессор вошел в комнату, сел на скамью в двух ярдах от меня и принялся долго, упорно, терпеливо вызывать на откровение. Попытка провалилась естественным образом, так как я просто не могла говорить, а когда сумела, попросила оставить меня в покое, хотя голос даже при этих словах дрогнул, голова упала на сложенные на столе руки, и я горько, хотя и беззвучно, расплакалась. Месье Поль посидел еще немного. Я не подняла головы и не произнесла ни слова до тех пор, пока звук закрывшейся двери и удаляющиеся шаги не сообщили об уходе незваного наблюдателя. Слезы принесли облегчение.
До завтрака я успела умыться и, надеюсь, к трапезе вышла такой же спокойной, как и все остальные, хотя и не столь веселой, как жизнерадостная молодая леди, которая заняла место напротив, устремила на меня ликующий взгляд маленьких острых глазок и доброжелательно протянула через стол белую руку для пожатия. Путешествие, флирт и развлечения пошли мисс Фэншо на пользу: она стала пухленькой, а щеки округлились подобно яблокам. В последний раз я видела ее в элегантном вечернем наряде, однако сейчас, в школьном платье, которое представляло собой подобие кимоно из темно-синей ткани в тонкую, малозаметную черную клетку, она выглядела не менее очаровательной. Думаю даже, что унылое одеяние подчеркнуло ее прелесть, выгодно контрастируя с прекрасным цветом кожи, свежестью румянца, золотом локонов.
– Рада, что вы вернулись, Тимон, – заявила Джиневра. Это было одно из дюжины имен, которые она для меня придумала. – Даже не представляете, как часто я вспоминала вас в этой ужасной дыре.
– Неужели? В таком случае наверняка уже приготовили для меня какую-нибудь работу: например, заштопать чулки или что-нибудь в этом роде.
Я никогда не верила в искренность мисс Фэншо.
– Как всегда, ворчлива и груба! – заметила она. – Ничего другого я и не ожидала: если бы не ужалили, то не были бы собой. И все же, бабуля, надеюсь, что, как и прежде, вы любите кофе и терпеть не можете булочки. Готовы меняться?
– Поступайте, как считаете нужным.
Она сочла нужным поступить привычным образом. Утренний кофе она не любила: школьный вариант казался ей недостаточно крепким и сладким, – зато, как любая здоровая девушка, обожала свежие булочки – действительно очень хорошие, – которые в определенном количестве подавались каждой из нас. Мне этого количества хватало с избытком, а потому я неизменно отдавала половину мисс Фэншо, хотя находились и другие желающие. Взамен она иногда уступала мне свою порцию кофе. Этим утром я с благодарностью приняла напиток, так как голода не ощущала, зато страдала от жажды. Сама не знаю, почему отдавала еду именно Джиневре, а не какой-нибудь другой девушке, почему, когда приходилось вдвоем пить из одного сосуда – иногда так случалось: например, во время долгих прогулок за город, когда мы останавливались на ферме, – всегда устраивала так, чтобы делиться именно с ней, отдавая львиную долю светлого пива, сладкого вина или парного молока. Мы почти каждый день ссорились, но никогда не отдалялись друг от друга.
После завтрака я обычно уходила в первый класс, где в полном одиночестве можно было почитать или обдумать планы на день (чаще второе), пока ровно в девять звонок не распахивал все двери, чтобы впустить толпу приходящих учениц и объявить о начале работы, без перерыва продолжавшейся до пяти часов вечера.
В то утро в дверь класса постучали.
– Pardon, Mademoiselle[192]192
Простите, мадемуазель (фр.).
[Закрыть], – произнесла, осторожно войдя, одна из пансионерок, взяла со своей парты нужную книгу или тетрадь и на цыпочках удалилась, пробормотав по пути: – Que mademoiselle est appliquée![193]193
Как мадемуазель прилежна! (фр.)
[Закрыть]
Прилежна, ничего не скажешь! Учебники лежали передо мной, но я ничего не делала и делать не собиралась. Вот так мир приписывает нам несуществующие достоинства. Сама мадам Бек считала меня настоящим bas-bleu[194]194
Синий чулок (фр.).
[Закрыть] и часто всерьез уговаривала не заниматься слишком много, чтобы «вся кровь не ушла в голову». Действительно, на рю Фоссет бытовало общее мнение, что мисс Люси очень образованна. Исключение составлял один лишь месье Эммануэль. Каким-то неведомым способом он сумел получить довольно точное представление о моей реальной квалификации и использовал любую возможность, чтобы шепнуть на ухо злорадную оценку ее скудости. Сама же я на этот счет никогда не беспокоилась. Очень любила размышлять; получала огромное удовольствие от чтения, хотя и предпочитала книги, в стиле и настроении которых чувствовалась индивидуальность автора, и неизбежно скучала над заумными, но безликими произведениями. Я всегда понимала, что Господь ограничил силу и действенность моего ума, а потому испытывала благодарность за ниспосланный дар, не мечтая ни о более щедрых воздаяниях, ни о высшей культуре.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































