Текст книги "Виллет"
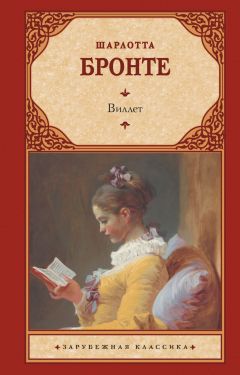
Автор книги: Charlotte Bronte
Жанр: Литература 19 века, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 34 (всего у книги 38 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Иными словами, не скажу ничего, кроме правды, если заключу, что, подобно любимому сыну Иакова, Грэхем и Полина познали «благословение небес и благословение бездны, что лежит под ними»[338]338
Быт. 49:25 – Примеч. ред.
[Закрыть]. Так было, потому что Господь счел это добром.
Глава XXXVIII
Туча
Однако счастье послано не всем. Что же тогда? Воля его должна быть исполнена независимо оттого, готовы ли мы смириться. Импульс творения доносит ее до нас; видимые и невидимые мощные силы реализуются в неумолимом наблюдении. Требуется представить доказательство будущей жизни, причем при необходимости это доказательство должно быть написано огнем и кровью. Огонь и кровь оставляют следы в природе; огнем и кровью отмечен наш собственный опыт. Страдалец, не слабей от ужаса перед этим горящим свидетельством. Усталый путник, препояши чресла, подними голову и смело шагни вперед. Пилигримы и братья-плакальщики, соединитесь в дружеской компании. Большинство из нас бредут по темному лесу, доверившись узкой извилистой тропинке. Так пусть же шаг наш станет ровным и уверенным; пусть крест станет нашим знаменем, а посохом нам служит обещание того, чье «слово испытано, чей путь праведен». Он дарит нам надежду, протягивая «щит спасения», предлагая «великое добро». Тот, кто «обитает в небесной вышине», дает нам последнее пристанище у своей груди, а в качестве главной награды посылает вечную, безмерную славу. Так давайте же достигнем цели; выдержим испытания, как настоящие воины. Давайте завершим путь, сохранив веру, к любой трудности обратив взгляд победителя и воскликнув: «Разве не Предвечный Творец послал тебя для нашего испытания? Мы не умрем!»
В четверг утром все мы собрались на урок литературы. Час настал, но учителя пока не было. Ученицы первого класса сидели очень тихо, и перед каждой лежало аккуратно переписанное, прилежно приготовленное к занятию сочинение. Обычно профессор быстро проходил по рядам и собирал работы. Июльское утро обещало жаркий день: сквозь распахнутую в сад стеклянную дверь залетал легкий свежий ветерок, цветущие растения склонялись, раскачивались и заглядывали в класс, словно нашептывая приятные новости.
Месье Эммануэль не отличался пунктуальностью, так что небольшое опоздание никого не удивило, однако удивило другое: когда дверь наконец открылась, вместо порывистой, полной огня фигуры профессора появилась спокойная, если не сказать осторожная, фигура мадам Бек.
Она подошла к столу, остановилась и, запахнув укрывавшую плечи легкую шаль, глядя в одну точку, тихо, но твердо произнесла:
– Сегодня урок литературы не состоится.
Второй абзац обращения последовал после паузы продолжительностью в две минуты.
– Возможно, перерыв продлится неделю. Чтобы найти достойную замену месье Эммануэлю, потребуется время. Нам предстоит заполнить пустоту полезными занятиями. Профессор намерен лично попрощаться с вами, однако сейчас не располагает досугом, так как готовится к длительному путешествию. Внезапный и настойчивый голос долга призывает его в далекие края. Он решил покинуть Европу на неопределенное время. Возможно, сам он расскажет подробнее. А сегодня, леди, вместо обычного урока с месье Эммануэлем вам придется заняться английским языком под руководством мадемуазель Люси.
Мадам Бек любезно склонила голову, плотнее запахнула шаль и покинула класс.
Повисла тишина, а через некоторое время возник невнятный шум: кажется, многие заплакали.
Шум, шепот и рыдания становились все громче, и я поняла, что дисциплина уступила место возрастающему беспорядку, как будто ученицы ощутили отсутствие внимания и бдительности. Привычка и чувство долга приказали мне немедленно собраться с духом, встать перед классом, заговорить обычным голосом, призвать к порядку и восстановить спокойствие. Урок английского языка я вела долго и тщательно, посвятив чтению и переводу все утро. Помню свое раздражение при звуке приглушенных рыданий. Чувство не отличалось глубиной – это было всего лишь истерическое возбуждение, о чем я заявила с безжалостной прямотой и строгостью, едва ли не высмеяв плачущих учениц. Правда, однако, заключалась в том, что я не могла вынести слез и судорожных вздохов, не в силах была их стерпеть. Одна не слишком умная, неспособная сосредоточиться девочка продолжала всхлипывать даже после того, как все остальные успокоились. Суровая необходимость вынудила обратиться к ней таким тоном, что она не осмелилась продолжить демонстрацию чувств.
Ученица имела полное право меня возненавидеть, если бы после урока, когда класс опустел, я не попросила ее остаться и не сделала того, чего прежде никогда себе не позволяла: обняла и поцеловала в щеку. Правда, после столь откровенного выражения сочувствия пришлось немедленно ее выпроводить, так как бедняжка зарыдала еще отчаяннее.
В тот день я постаралась занять каждую минуту, и если бы смогла оставить свечу, то просидела бы всю ночь. Ночь, однако, прошла тяжело, оставила дурные последствия и плохо подготовила к невыносимым сплетням наступившего дня. Разумеется, новость стала предметом всеобщего обсуждения. Свойственная первоначальному потрясению сдержанность быстро испарилась, рты открылись, языки заработали. Учительницы, ученицы и даже служанки без устали повторяли имя месье Эммануэля. Тот, чья связь со школой установилась в день ее открытия, исчез мгновенно, без предупреждения и объяснения! Все недоумевали.
Разговоры продолжались так долго, что из многословия суждений, предположений и слухов в конце концов выстроилась некая версия. На третий день я услышала, что месье Эммануэль отплывает через неделю, затем – отправляется в Вест-Индию. Отрицание или подтверждение факта попыталась найти в лице и глазах мадам Бек, пристально изучив ее облик, однако не заметила ничего, кроме обычной невозмутимости. Она заявила, что переживает уход месье Поля как огромную потерю и не знает, кем заполнить вакансию. Родственник стал ее правой рукой, и непонятно, как без него обойтись. Мадам утверждала, что пыталась разубедить кузена, однако тот ответил, что обязан исполнить долг.
Директриса заявила это во всеуслышание, в классе, во время беседы с мадемуазель Сен-Пьер.
Можно было бы спросить, что за долг вынудил месье Поля оставить нас так внезапно. Хотелось остановить мадам Бек, когда та безмятежно проходила мимо, крепко схватить за руку и произнести: «Стоп! Давайте разберемся и сделаем выводы. Что за долг обрекает месье Эммануэля на изгнание?» – однако она неизменно заговаривала с какой-нибудь другой учительницей и никогда не обращала на меня внимания, как будто не предполагала, что тема может представлять некий интерес.
Неделя шла своим чередом. Обещание, что месье Поль лично попрощается с нами, повисло в воздухе. Никто не спрашивал, придет ли он, никто не выражал опасения, что профессор уедет, не сказав нам ни слова. Все беспрестанно болтали о чем угодно, но никто ни разу не коснулся этой жизненно важной темы. Что касается мадам, то она, конечно, с ним встречалась и имела возможность сказать все, что думает. Так зачем же ей заботиться о том, появится ли родственник в классе?
Неделя завершилась, и мы слышали, что дорогой учитель в такой-то день отбывает в Гваделупу, в порт Бас-Тер, по делам, связанным с интересами друга, а не с собственными проблемами. Именно этого и следовало ожидать.
Бас-Тер в Гваделупе. Я почти перестала спать, однако всякий раз, едва погрузившись в дремоту, вздрагивала: казалось, что слова «Бас-Тер» и «Гваделупа» звучали над подушкой или пересекали тьму вспышками красных и фиолетовых букв.
Чувства мои не знали утешения, но разве я могла не чувствовать? В последнее время месье Поль относился ко мне с необыкновенным дружелюбием, и с каждым часом дружба наша крепла. Месяц назад мы уладили теологические разногласия и с тех пор больше не ссорились, не отдалялись друг от друга. Он приходил все чаще, и мы беседовали дольше, чем прежде, час за часом проводя в полном спокойствии и довольстве, в мягкой домашней манере. В наших разговорах стали появляться новые, сердечные темы. Он поинтересовался планами на будущее, и я без ложной скромности о них поведала. Намерение организовать школу так заинтересовало месье Поля, что он попросил повторить мои умозаключения по этому поводу, хотя и назвал мечту воздушным замком. После того как ссоры прекратились; взаимопонимание расширилось и углубилось, в сердце укрепились чувства единения и надежды, перерастая в привязанность, глубокое уважение и доверие.
Как тихо, спокойно проходили уроки! Больше не звучали ни насмешки в адрес моего интеллекта, ни угрозы унизительных публичных проверок. На смену ревнивым порицаниям и еще более ревнивым, почти страстным похвалам пришла молчаливая, снисходительная помощь, а вместе с ней бережное руководство и нежное терпение, умевшее прощать, но не хвалить. Иногда месье Поль подолгу сидел молча, а когда поздний час или дела вынуждали уйти, вставал, не преминув посетовать: «Il est doux, le repos! Il est précieux, le calme bonheur!»[339]339
Как сладок отдых! Как драгоценно спокойное счастье! (фр.)
[Закрыть]
Однажды вечером, всего каких-то десять дней назад, месье Эммануэль подошел, когда я гуляла по своей аллее, и взял за руку. Решив, что он хочет привлечь внимание, я обернулась и посмотрела в лицо, а он проговорил: «Bonne petite amie, douce consolatrice!»[340]340
Добрая маленькая подруга, нежная утешительница! (фр.)
[Закрыть] Эти слова и прикосновения внушили новую, неожиданную мысль: возможно ли, чтобы этот человек стал не просто другом или братом, выражал ли его взгляд нечто большее, чем братская или дружеская симпатия?
Красноречивый взгляд свидетельствовал о многом, рука влекла, губы трепетали. Нет, не сейчас. В сумеречной аллее возникло зловещее двойственное предупреждение. Мы увидели две полные жизни фигуры: женщину и священника, мадам Бек и отца Силаса.
Образ второго никогда не забуду. С первого взгляда лицо его выразило взволнованную нежной сценой чувствительность в духе Руссо, однако ее тут же затмила религиозная ревность. Ко мне он обратился резко, а на ученика взглянул сурово. Что касается мадам Бек, то она, разумеется, ничего не заметила. Ровным счетом ничего, хотя в ее присутствии родственник держал за руку иностранку, к тому же еретичку, и не только не спешил отпустить, но еще крепче сжимал ладонь.
В свете подобных событий неожиданное объявление об отъезде поначалу показалось невероятным. Только постоянное повторение и уверенность ста пятидесяти умов вокруг заставили принять новость. Как прошла неделя мучительного ожидания, пустых и все же обжигающих дней, помню, но передать не могу.
Настал последний день. Сегодня профессор придет, чтобы проститься, или покинет нас молча, чтобы исчезнуть навсегда.
В альтернативу не верила ни единая живая душа в школе. Все встали в обычный час, позавтракали, как обычно, не упоминая о бывшем наставнике, с привычной флегматичностью занялись привычными делами.
Дом казался таким сонным, таким равнодушным и лишенным ожиданий, что я едва не задохнулась в удушливой атмосфере. Неужели никто ко мне не обратится? Неужели никто не произнесет заветных слов, на которые я смогу ответить «аминь!»?
Я наблюдала полное единодушие в пустяках: в еде, отдыхе, отмене урока. Ученицы не думали о том, чтобы окружить мадам Бек и настойчиво потребовать прощания с учителем, которого, несомненно, любили – по крайней мере некоторые, – так, как умели. Но что значит любовь многих?
Я знала, где он живет, где о нем можно спросить и даже можно с ним связаться. Расстояние не превышало полета брошенного камня, но даже если бы это была соседняя комната, я не смогла бы воспользоваться возможностью. Преследовать, искать, напоминать, звать – все это было для меня неприемлемо.
Месье Эммануэль мог пройти мимо на расстоянии вытянутой руки, но если бы сделал это молча, не привлекая внимания, я бы не двинулась с места и не произнесла ни звука.
Утро миновало, наступил день, и я решила, что все кончено. Сердце трепетало, кровь едва не закипала. Я чувствовала себя больной, с трудом держалась на ногах и ценой огромных усилий выполняла положенную работу, а тесный мирок вокруг продолжал равнодушно жить. Все выглядели веселыми, беззаботными, свободными от страха и даже от мыслей. Те самые ученицы, которые неделю назад истерично рыдали, забыли все: и саму новость, и ее значение, и собственные чувства.
Незадолго до пяти часов, когда занятия подходили к концу, мадам Бек позвала меня к себе, чтобы прочитать и перевести письмо на английском языке, а также написать ответ. Прежде чем приняться за работу, я заметила, что она плотно закрыла дверь комнаты и даже заперла оконные рамы, хотя день выдался жарким, а она всегда настаивала, что в помещении необходимо обеспечить доступ свежего воздуха. Что за предосторожности? Вопрос возник не на пустом месте, а стал следствием острого подозрения, почти яростного недоверия. Неужели она внезапно захотела отгородиться от звуков? Но каких?
Я прислушивалась так напряженно, как еще никогда в жизни. Так, наверное, прислушивается хищник, подстерегающий жертву, к каждому шороху, но мне удавалось одновременно слушать и писать. Примерно в середине письма перо застыло: из вестибюля донеслись шаги, но колокольчик даже не звякнул. Розин – разумеется, исполняя приказ – поджидала посетителя. Мадам увидела, что я остановилась, закашлялась, задвигалась, заговорила громче и поторопила:
– Продолжайте!
Шаги проследовали в классы, однако слух мой так обострился, что рука задрожала, мысли рассеялись.
Классы находились в другом здании и отделялись от жилого корпуса холлом. Несмотря на значительное расстояние и пустое пространство, я услышала, как одновременно поднялось целое отделение.
– Они закончили работу, – пояснила мадам Бек.
Действительно время подошло, но что означал этот краткий шум и почему его сменила тишина?
– Подождите, мадам: пойду посмотрю, в чем там дело.
Я отложила перо и вышла, но директриса не пожелала оставаться в одиночестве и, не в силах меня задержать, словно тень отправилась следом. На последней ступеньке лестницы я обернулась:
– Вы тоже идете?
– Да, – ответила она мрачно, и мы пошли дальше, но не вместе и не рядом: мадам Бек шагала за мной.
Как я и предположила, это пришел месье Поль Эммануэль: войдя в первый класс, я сразу увидела его. Не сомневаюсь: было сделано все, чтобы его не впустить, – но он все-таки пришел.
Девочки стояли полукругом, а профессор медленно шагал вдоль шеренги, прощаясь с каждой, пожимая руки, легонько прикасаясь губами к щекам. Местный обычай допускал подобную церемонию при особенно значимом, особенно торжественном прощании.
Я не могла вынести бесстыдное преследование мадам Бек. Шея и плечи мои пылали от ненавистного дыхания, и с каждым мгновением становилось все хуже.
Он приближался. Полукруг почти завершился. Вот он подошел к последней ученице и обернулся, но мадам внезапно оказалась впереди: выскочила, увеличилась в размерах, распахнула шаль и закрыла меня собой. Я исчезла из виду. Зная мою слабость и неуверенность, она вполне могла оценить степень морального паралича и абсолютного бессилия, способного поразить жертву в критический момент, поэтому бросилась к родственнику, начала что-то громко и настойчиво говорить, завладела вниманием и подтолкнула к двери – к той самой стеклянной двери, которая открывалась в сад. Мне показалось, что месье Поль оглянулся. Если бы глаза наши встретилась, мужество пришло бы на помощь чувству, и тогда, возможно, последовало бы резкое движение, появилась надежда на спасение, но в этот миг полукруг разрушился, ученицы собрались в группы, и я затерялась среди тридцати более внушительных фигур. Мадам прекрасно исполнила задуманное: увела его, не позволив меня увидеть, – а он решил, что я не пришла проститься. Часы пробили пять. Колокол громко оповестил об окончании занятий. Ученицы разошлись, класс опустел.
Некоторое время я провела в одиночестве, в полной темноте и почти безумном отчаянии: в невыразимом горе невыносимой потери. Что делать? О, что же делать, когда надежду всей жизни с корнем вырвали из разбитого, поруганного сердца?
Не знаю, что бы со мной случилось, если бы самая маленькая из девочек не проникла в кипящий, хотя и невидимый кратер вулкана и своей наивной простотой не разрушила стену отчаяния.
– Мадемуазель, – пролепетал тонкий голосок, – я должна передать вам вот это. Месье Поль велел обыскать весь дом, от чердака до подвала, найти вас и вручить лично в руки.
Малышка протянула записку, и на мои колени словно опустился голубь с оливковой веточкой в клюве. Ни адреса, ни имени на послании не было.
«Я не собирался прощаться с вами вместе с остальными: надеялся увидеть вас в классе, – но меня постигло глубокое разочарование. Разговор пришлось отложить, но будьте готовы: прежде чем я поднимусь на палубу, мы должны с вами встретиться и поговорить наедине. Мгновения сочтены и в настоящее время мне не принадлежат. К тому же есть личное дело, о котором никому не могу сказать – даже вам.
Поль».
Быть готовой? Значит, речь идет о сегодняшнем вечере. Разве не завтра ему предстоит отправиться в путь? В этом я не сомневалась, так как читала объявление об отходе его корабля. Я, конечно, подготовлюсь, но возможна ли долгожданная встреча? Времени оставалось совсем мало, а интриганы действовали так хитро, так активно, так враждебно! Путь преграждал охраняемый огнедышащим Аполлионом, глубокий, как пропасть, ров. Сможет ли мой герой преодолеть препятствие? Сможет ли найти меня?
Ответа не было. И все же я ощутила каплю мужества и каплю утешения: показалось, что бесценное сердце бьется в унисон с моим.
Я ждала своего воина. Аполлион явился, волоча за собой ад. Думаю, если бы вечность задумала причинить мучения, то не использовала бы ни огненную дыбу, ни безысходное отчаяние. Скорее всего, в один из бесконечных, не ведающих восхода и заката дней в подземное царство спустился бы ангел, постоял в сиянии, улыбнулся, изрек пророчество условного прощения, вселил сомнительную надежду на грядущее блаженство – не сейчас, а в какой-то неведомый день, – явил величие и безмерность своего обещания, а потом возвысился, превратился в звезду и исчез в небесном просторе, оставив после себя напряженное ожидание – дар страшнее отчаяния.
Весь вечер я ждала, доверившись оливковой ветви, но даже в надежде не переставая испытывать жестокий страх. Давящий, холодный, липкий, он неизменно служил спутником редко ошибавшегося дурного предчувствия. Первые часы тянулись медленно и долго, а потом стрелки на циферблате помчались, словно обрывки туч перед бурей.
Время летело стремительно. Долгий жаркий летний день сгорел так же быстро, как горит в камине рождественское полено. Алый закатный свет погас, и я осталась среди прохладных голубых теней, над бледными пепельными проблесками вечера.
Молитва закончилась, пришло время ложиться спать, и все в доме стихло, однако я по-прежнему сидела в темном первом классе, пренебрегая правилами, которых прежде никогда не нарушала.
Не могу сказать, сколько раз смерила пространство шагами: должно быть, многие часы ходила из конца в конец, проложив собственный маршрут, машинально огибая скамейки и столы, а потом, убедившись, что все в доме уже спят и ничего не слышат, наконец-то заплакала. Доверившись ночи, положившись на одиночество, перестала скрывать слезы и сдерживать рыдания. Страдания переполнили сердце и вырвались на свободу. Но какое горе могло сохранить святость в этом доме?
В начале двенадцатого – для школы на рю Фоссет время очень позднее – дверь тихо, но совсем не воровато, а, напротив, вполне уверенно открылась, и в лунный свет вторгся луч лампы. Мадам Бек вошла с тем же нерушимым самообладанием, с каким являлась в обычный час по заурядному делу, но вместо того, чтобы сразу обратиться ко мне, направилась к своему столу, достала из кармана ключи и сделала вид, будто что-то ищет в ящиках. Представление тянулось долго, а выглядела она слишком спокойной, чтобы в это можно было поверить: мое состояние с трудом допускало фальшь. В отчаянии я уже два часа назад забыла о привычном уважении и страхе: обычно покорная прикосновению и слову, сейчас не стерпела бы ни хомута, ни узды, ни понукания.
– Давно пора спать, – наконец заявила мадам Бек. – Распорядок возмутительно нарушен.
Ответа не последовало, ходить я не перестала, и тогда она преградила мне путь, стараясь говорить мягко:
– Убедительно прошу успокоиться, мисс, и позвольте проводить вас в спальню:
– Нет! – возразила я. – Ни вы, ни кто-либо другой не убедит меня лечь в постель.
– Готон согрела вашу кровать: до сих пор на ней сидит, – так что уложит вас и даст успокоительного.
– Мадам, под вашим спокойствием и внешним приличием скрывается сластолюбие. Согрейте собственную постель, примите успокоительное средство, съешьте что-нибудь вкусное, выпейте любой пряный и сладкий напиток – все, что угодно. Если испытываете горе и разочарование – наверное, так и есть… нет, я точно знаю, что это так, – примите любые меры, любые лекарства, только оставьте меня в покое. Повторяю: оставьте!
– Вынуждена кого-то к вам прислать, мисс. Пусть это будет Готон.
– Не делайте этого и сами поскорее уйдите. Не трогайте меня, не вмешивайтесь в мою жизнь! О, мадам! Рука ваша холодна и ядовита. Вы парализуете и отравляете.
– Что такого я сделала, мисс? Вы не имеете права выйти замуж за Поля, а он не может жениться.
– Собака на сене! – воскликнула я, поскольку знала, что она втайне желает кузена и всегда желала: называла его невыносимым, бранила за набожность, не любила, но все равно хотела выйти за него замуж, чтобы приковать к собственным интересам.
Я глубоко проникла в тайну мадам – сама не знаю как: путем интуиции или неизвестно откуда явившегося прозрения: она непременно начнет соперничать с каждой женщиной, которую не считает хуже себя. И вот сейчас, когда на пути встала я, она вступила в непримиримое соперничество со мной – пусть тайное, тщательно скрываемое безупречным поведением, неведомое никому, кроме нее самой и меня.
Пару минут я стояла над мадам, ощущая полноту власти, так как в состоянии, подобном нынешнему, в восприятии столь остром, как в этот момент, ее обычный маскарадный костюм – маска и домино – казались прозрачными и не скрывали существа бессердечного, эгоистичного и подлого. Мадам Бек спокойно отошла в сторону и негромко, хотя крайне неприязненно, заявила, что, если я не желаю лечь в постель, она вынуждена с неохотой меня покинуть, что и сделала немедленно – возможно, с большей радостью, чем та, которую испытала я, созерцая ее уход.
Это была единственная правдивая, проливающая свет истины стычка между мной и мадам Бек: короткая ночная сцена больше ни разу не повторялась. Ее манеры ничуть не изменились. Мести за свое поведение я не ощутила. Не знаю, стала ли директриса еще больше ненавидеть меня за утрату безупречности, но, думаю, сдерживала порывы тайной философией сильного ума и умела забывать все, что доставляло неудобства.
Ночь прошла, как проходит любая другая – даже беззвездная перед смертью. Около шести, за несколько минут до возвестившего общий подъем удара колокола, я вышла во двор и умылась свежей, холодной колодезной водой, а возвращаясь через холл, увидела свое отражение в зеркале и ужаснулась: губы и щеки побелели от слез, глаза покраснели и стали стеклянными, веки распухли и потемнели.
Встретившись с остальными, я вдруг поняла, что приковала к себе внимание, сердце открылось, я сама себя выдала. Казалось отвратительно бесспорным, что даже самые маленькие из учениц догадываются о причине отчаяния, столь очевидного.
Подошла Изабель – та самая малышка, которую я когда-то нянчила во время болезни (неужели станет насмехаться?) и проговорила, засунув палец в рот и глядя с глупой задумчивостью, которая в эту минуту показалась прекраснее любого, пусть даже самого острого, ума:
– Que vous êtes pâle! Vous êtes donc bien malade, Mademoiselle![341]341
Как вы бледны! Должно быть, очень больны, мадемуазель! (фр.)
[Закрыть]
Изабель недолго оставалась одинокой в демонстрации неведения. До конца дня я успела проникнуться благодарностью ко всем обитательницам дома. Выяснилось, что счастливое большинство имеет иные занятия, кроме обсуждения чужих чувств и пересказа сплетен. Кто желает, вполне способен руководствоваться собственным суждением и оставаться собственным тайным властителем. В течение дня я получила множество доказательств того, что не только причина нынешнего состояния сохранилась в тайне, но и все личные переживания последних шести месяцев по-прежнему принадлежали мне одной. Никто не заподозрил и не заметил, что одна жизнь из всех стала мне особенно дорога. Сплетни обошли эту тему стороной. Любопытство не заметило ничего подозрительного. Обе тонкие материи, постоянно паря вокруг, ни разу не сосредоточились на моей персоне. Некоторые организмы способны находиться среди тифозных больных и оставаться невредимыми. Месье Эммануэль приходил и уходил, беседовал со мной и учил меня, то и дело призывал, и я неизменно подчинялась. «Месье Поль зовет мисс Люси». «Мисс Люси беседует с месье Полем» – вполне обычные известия: никому в голову не приходило их комментировать, а тем более осуждать. Никто не намекал, никто не отпускал шуток. Мадам Бек отгадала загадку, но остальные ничего не заподозрили. Мое состояние было объяснено недомоганием, головной болью, и я приняла крещение.
Но какая телесная болезнь могла сравниться с этим страданием: с уверенностью, что он уехал, не простившись, с жестоким убеждением, что судьба и преследование жестоких фурий – женской ревности и лицемерия священника – больше не позволят его увидеть? Удивительно ли, что второй вечер застал меня все в том же состоянии горя и отчаяния, в безутешном одиночестве шагающей по темному классу?
Мадам Бек больше не осмелилась ко мне подойти, чтобы убедить лечь спать, но прислала дипломатическую миссию в лице Джиневры Фэншо. Трудно представить исполнительницу, более подходящую для подобной роли.
– Голова очень болит? – первым делом осведомилась Джиневра, поскольку, как и все остальные, считала, что причина моей невероятной бледности и неукротимого беспокойства заключается в невыносимой головной боли.
Вопрос вызвал желание бежать куда глаза глядят – лишь бы подальше. Последовавшие жалобы на собственную головную боль успешно завершили визит, и я поднялась в спальню, легла в кровать – холодную, жесткую, населенную вездесущими скорпионами, – но не успела пролежать и пяти минут, как явилась следующая посланница. Готон принесла какое-то питье, и, страдая от жажды, я с готовностью приняла заботу. Жидкость оказалась сладкой, но с заметным привкусом лекарства.
– Мадам говорит, что это поможет вам уснуть, Шу-шу, – пояснила добрая женщина, забирая пустую кружку.
Ах, значит, прописано успокоительное средство. На самом же деле, чтобы утихомирить хотя бы на ночь, мне дали крепкий раствор опиума.
Дом уснул. В большой тихой комнате горел ночник. Сон быстро опускался на подушки и легко подчинял своему владычеству не знавшие боли головы и сердца, однако миновал безутешных.
Лекарство подействовало быстро. Не знаю, превысила или занизила мадам дозировку, однако результат оказался противоположным тому, на который она рассчитывала. Вместо ступора пришло возбуждение, а следом явилась новая мысль, новая причудливая мечта. Все способности услышали сигнал к сбору: запели рожки, трубы сыграли несвоевременный призыв. Воображение пробудилось и дерзко, бесстрашно восстало, с презрением взглянув на материальную оболочку, настойчиво потребовало:
«Вставай! Сегодня ночью командовать буду я, а тебе придется подчиняться. Посмотри, какая ночь! Разве можно лежать в постели?»
Я послушно подняла тяжелую ставню на ближайшем окне и увидела царствующую в глубоком спокойном небе величественную луну.
Мрак, теснота, тягостная духота спальни невыносимо давили. Воспаленное воображение приказало покинуть жалкую нору и последовать за ним в росистую прохладу, в свежесть простора, открыв странную картину полночного Виллета. Особенно манил парк: летний парк с длинными, тихими, пустынными, безопасными аллеями. Среди этих аллей прятался обширный каменный фонтан, возле которого я любила стоять: скрытый в тени деревьев, полный прохладной воды, прозрачный, с зеленым лиственным мягким дном. Что из того? Ворота парка закрыты, заперты на замок и охраняются сторожами. Войти туда нельзя.
Нельзя? Об этом стоило подумать. Я машинально оделась. Ощущая полную невозможность спать и даже просто спокойно лежать, что еще я могла сделать, кроме как одеться?
Итак, ворота заперты, и перед ними стоят часовые. Неужели никак нельзя преодолеть препятствие?
Несколько дней назад, проходя мимо парка, я случайно обратила внимание на прореху в заборе: одна доска сломалась. Сейчас память услужливо представила узкую косую щель, хорошо заметную среди стволов ровных, словно колонны, лип. Мужчина не смог бы пролезть сквозь это отверстие, равно как и полная женщина – например, мадам Бек, – а вот мне стоило попробовать. Если удастся, то весь парк станет моим – волшебный, залитый лунным светом полночный парк!
Как крепко все спали! Как спокойно, ровно дышали! Какая тишина царила в доме! Который час? Внезапно остро захотелось узнать. Внизу, в классе, стояли большие часы. Что могло помешать спуститься и посмотреть? При такой луне белый циферблат и черные стрелки будут хорошо видны.
Осуществить план не мог помешать даже скрип петли или стук щеколды. Душными июльскими ночами дверь спальни оставалась открытой настежь. Но выдержат ли мою поступь половицы? Не выдадут ли? Я знала предательскую доску и сумела осторожно обойти опасное место. Дубовая лестница скрипнула под ногами, но очень тихо. И вот я в холле.
Тяжелые двери классов заперты на засовы, но выход в коридор открыт. Классы кажутся огромными, лишенными жизни тюремными камерами, к тому же полными нестерпимо болезненных воспоминаний, а коридор предлагает жизнерадостный путь в вестибюль, откуда можно беспрепятственно выйти на улицу.
Но что это? Часы бьют и вопреки глубокой тишине монастыря возвещают всего лишь одиннадцать. Прислушиваясь к мерному звуку, улавливаю далекий отголосок столицы: нечто вроде колоколов или духового оркестра, голос которого передает радость победы и горе поражения. Если бы можно было подойти к этой музыке поближе, услышать ее, стоя в одиночестве возле каменной чаши фонтана! Если бы удалось вырваться на свободу! Что же мешает выйти на улицу, что держит здесь?
В коридоре, на крючке, висит садовый наряд: соломенная шляпа и шаль. Огромная тяжелая входная дверь запирается не на ключ, а на засов, который невозможно открыть снаружи, но изнутри ничего не стоит бесшумно отодвинуть. Справлюсь ли? К счастью, железная скоба поддается с благожелательной готовностью. Дверь открывается без сопротивления, словно сама собой. Удивляясь легкости побега из тюрьмы, переступаю порог и выхожу на улицу. Кажется, невидимая сила сметает на пути все препятствия: остается приложить лишь небольшое усилие.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































