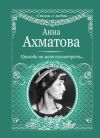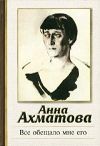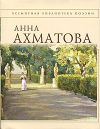Читать книгу "Иосиф Бродский и Анна Ахматова. В глухонемой вселенной"

Автор книги: Денис Ахапкин
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
Однако, вопреки мнению многих современников, особенно в эмиграции, все эти годы Ахматова не молчала. Она продолжала писать, несмотря на невозможность публиковать свои стихи. Понятно, что количество стихотворений, написанных в эти годы Ахматовой (как, впрочем, и Мандельштамом, и Пастернаком), меньше, чем за предыдущие десять лет. Это объясняется и бытовыми причинами, и – в значительной мере – политическими. Ее лирика 1920—1930-х годов входит теперь в золотой фонд русской поэзии. Достаточно назвать лишь несколько стихотворений, таких, как «Лотова жена» (1924), «Муза» (1924), «Тот город, мной любимый с детства…» (1929), «Данте» (1936)… Все они увидели свет только через два десятилетия.
В 1940 году вышел сборник «Из шести книг», но очень ограниченно. 8 мая он был подписан в печать в Ленинградском отделении издательства «Советский писатель», 20 мая Ахматова получила сигнальный экземпляр, через несколько дней сборник был выпущен и поступил в ленинградскую Книжную лавку писателей. «По записи роздали писателям 300 экземпляров, на прилавок не положили ни одного», – вспоминала Лидия Чуковская64.
Сборник «Из шести книг» попадает в руки вернувшейся из эмиграции Марины Цветаевой – и Цветаева не принимает эту книгу, как и не понимает того, что осталось за ее пределами. «Вчера прочла – перечла – почти всю книгу Ахматовой и – старо, слабо. Часто (плохая и верная примета) совсем слабые концы, входящие (и сводящие) на нет. Испорчено стихотворение о жене Лота. Нужно было дать либо себя – ею, либо ее – собою, но – не двух (тогда была бы одна: она)»65.
Речь – о стихотворении Ахматовой «Лотова жена». Одном из лучших ее стихотворений – и одном из текстов, повлиявших на Иосифа Бродского. Почему же Цветаева так недооценивает его, называя «испорченным»?
Вот это стихотворение:
Лотова жена
Жена же Лотова оглянулась позади его и стала соляным столпом
Книга Бытия
И праведник шел за посланником Бога,
Огромный и светлый, по черной горе.
Но громко жене говорила тревога:
Не поздно, ты можешь еще посмотреть
На красные башни родного Содома,
На площадь, где пела, на двор, где пряла,
На окна пустые высокого дома,
Где милому мужу детей родила.
Взглянула – и, скованы смертною болью,
Глаза ее больше смотреть не могли;
И сделалось тело прозрачною солью,
И быстрые ноги к земле приросли.
Кто женщину эту оплакивать будет?
Не меньшей ли мнится она из утрат?
Лишь сердце мое никогда не забудет
Отдавшую жизнь за единственный взгляд.
«Вопреки традиции Ахматова не только не делает героиню свидетельницей катастрофы, но и вызывающе мотивирует ее оглядку привязанностью к обреченному городу»66, – пишет М. Б. Мейлах об этом стихотворении.
Между прочим, одна из американских студенток Бродского вспоминала, как в классе он разбирал «Лотову жену». «Говоря об этом стихотворении, он заметил: „Здесь есть изящный скрытый смысл“ и пояснил, что поскольку женщина – это душа мужчины, душа Лота осталась у него позади. „Лот следует воле Бога, – пояснил Бродский, – следуя за ангелом, но на самом деле его душа остается позади. Что хорошо для Бога – не всегда хорошо для человека. В любом случае человек не понимает своего Бога“»67.
Конечно, «Лотова жена» прежде всего связана с осмыслением Ахматовой своей позиции по отношению к эмиграции, отраженной и в ряде других текстов (особенно в «Не с теми я, кто бросил землю…»). Аманда Хейт замечает: «Сочувствие поэта Лотовой жене, по-видимому, также не является оправданием ее поступка, как сочувствие оказавшимся в изгнании не означает оправдания эмиграции <…> Со временем осуждение всех, кто покинул родину, отступило перед милосердным всепониманием, нашедшим отражение в „Поэме без героя“, что „Настоящий Двадцатый Век“ и ей, и ее современникам навязал роли, которые они обязаны сыграть до конца»68.
Эта симпатия к библейской героине оказывается более понятной в контексте всего творчества Ахматовой: «„оглядка“ Лотовой жены является прообразом взгляда самой поэтессы, которая в своем позднем творчестве оглядывается на свою прошлую жизнь»69. Цветаевой не хватает в этом стихотворении лирического накала и проживания жизни героини как своей, Ахматова же дает отстраненный взгляд, столь характерный для ее поздней манеры и связанный с ее способом переживать трагический опыт – способом, который будет описан в «Реквиеме»:
Нет, это не я, это кто-то другой страдает,
Я бы так не могла, а то, что случилось,
Пусть черные сукна покроют,
И пусть унесут фонари…
Ахматова подверглась внутреннему изгнанию. С 1925-го до 1940 года в Советском Союзе не было напечатано ни одного ее стихотворения – сама она считала, что партийные органы наложили неофициальный запрет на ее публикации70. Все это время она продолжала писать, но стихов стало меньше. Причины понятны. Тридцатые стали годами террора, когда многие из писателей и поэтов, друзей Ахматовой, были уничтожены сталинской репрессивной машиной, а сама она – изолирована от читателя.
В ситуации тотального ужаса и разрушения естественных культурных процессов, замещенных декорациями советской литературы, а вскоре и решениями Первого съезда советских писателей по претворению в жизнь идей «социалистического реализма» (более двухсот участников этого съезда были отправлены в лагеря или расстреляны в следующие несколько лет), настоящая поэзия выживала, находя новые защитные механизмы.
Один из них – продолжение диалога с мировой культурой, включение в текст отсылок к ее ключевым произведениям – картинам, операм, книгам – и таким образом сохранение их. Для Ахматовой одной из главных таких книг становится Библия.
Как замечает Роман Тименчик, отсылки к библейским текстам у Ахматовой «это отсылки к общему фону европейской культуры, которого мы не замечаем, как воздух, коим дышим, или, говоря словами другого ахматовского стихотворения, о котором мы в сознании своей нищеты думаем, что его нет, и только переживание ежедневной постепенной его убыли заставляет вспомнить о бывшем богатстве»71. Именно так возникают в двадцатые годы стихи Ахматовой на ветхозаветные темы: «Мелхола», «Рахиль», «Лотова жена».
«В обычное представление о том, что цитата приносит с собой в цитирующий текст всю полноту своих былых контекстуальных ассоциаций, следует, применительно к случаю Ахматовой, внести одно уточнение – одновременно цитата как бы настойчиво подчеркивает именно свою вырванность из этого контекста. Она может демонстрировать свое небрежение к духу и букве того эпизода, в который она входит в источнике, она напоминает о своей случайности и необязательности»72.
Ахматова использует цитаты – явные и скрытые – не только для того, чтобы подключить смыслы цитируемого текста к значению собственного стихотворения. Брошенная вскользь цитата дает сигнал понимающему читателю, показывает, что они с автором принадлежат к одному кругу – кругу культуры, постоянно сужающемуся под давлением самодовольной тупости и произвола.
В Книге Судей в Ветхом Завете есть одна история. В ходе войны между разными коленами израилевыми Иеффай, бывший военачальником, разгромив основную часть вражеского войска, приказал поставить посты на всех переправах через Иордан. Часовые требовали от всех проходящих сказать только одно слово – «колос» («шибболет» по-древнееврейски). В диалекте ефремлян, с которыми он воевал, не было звука «ш», поэтому они произносили не «шибболет», а «сибболет», сразу выдавая себя. Сорок две тысячи ефремлян, согласно библейской истории, были таким образом обнаружены и казнены. С тех пор слово шибболет стало термином, обозначающим своего рода невидимый пароль, особенность речи, по которой можно сразу отличить своих от чужих.
В культуре тридцатых годов такие пароли приобрели необычайно важное значение – употребляясь иногда сознательно, иногда бессознательно, они позволяли донести сообщение до своего читателя, показать принадлежность к обществу, где понимают друг друга с полуслова.
Взгляд на стихи поэтов, писавших «поверх барьеров» советской литературы, показывает, что они насыщены такого рода отсылками. И Ахматова – один из самых интересных примеров подобной поэтической практики. «Сферой поэтической памяти Ахматовой является вся область мировой культуры, и она – при сохранении высокой степени избирательности – свободно черпает из нее цитаты и реминисценции, которые оказываются при этом необычайно органично связанными с ее собственной темой»73.
Кроме Библии главными книгами для нее в ту пору становятся «Божественная комедия» Данте и тома стихов и прозы Пушкина. Ахматовой всегда свойственно было не экстенсивное чтение, охватывающее все новые и новые имена и заглавия, а перечитывание в течение жизни небольшого количества книг, которые были важны для нее и в которых она каждый раз открывала новые смыслы – в зависимости от личного опыта, исторического контекста и собеседников, с которыми шел разговор об этих книгах.
Данте – один из самых важных для Ахматовой поэтов прошлого. Дантовский миф вошел в ахматовскую поэзию почти с самого начала, а кроме этого довольно рано стал частью ее литературной биографии. Так, Николай Гумилев посвящает семнадцатилетней Ахматовой цикл «Беатриче», где сам он предстает в образе Данте.
«Божественная комедия» – книга, которая была с Ахматовой всегда. В 1939 году отвечая на вопрос Лидии Чуковской о том, знает ли она итальянский язык, Ахматова «величаво и скромно» отвечает: «Я всю жизнь читаю Данта»74. Читает она его в подлиннике, по-итальянски. В Литературном музее Института русской литературы (Пушкинского дома) хранится принадлежавший Ахматовой экземпляр антологии итальянской поэзии, начинающейся с «Божественной комедии». В нем сохранились пометки Ахматовой, свидетельствующие о многократном и внимательном чтении – «разного рода подчеркивания, заметки на полях, крестики, отчеркивания, и т. п., а также разнообразные отсылки к другим местам в данном произведении или аналогии с другими авторами»75.
Главным ее собеседником, с которым она часами говорит о Данте, в моменты нечастых встреч становится Осип Мандельштам. Эмма Герштейн вспоминает: «С Осипом Эмильевичем у Анны Андреевны были свои отдельные разговоры <…> с детским увлечением они читали вслух по-итальянски „Божественную комедию“. Вернее, не читали, а как бы разыгрывали в лицах, и Анна Андреевна стеснялась невольно вырывавшегося у нее восторга»76.
Сама Ахматова вспоминает: «В 1933 году Мандельштамы приехали в Ленинград по чьему-то приглашению. Они остановились в Европейской гостинице. У Осипа было два вечера. Он только что выучил итальянский язык и бредил Дантом, читая наизусть страницами. Мы стали говорить о „Чистилище“, и я прочла кусок из XXX песни (явление Беатриче) <…> Осип заплакал. Я испугалась – „что такое?“ – „Нет, ничего, только эти слова и вашим голосом“»77.
Вот терцины из XXX песни «Чистилища», о которых идет речь (в переводе М. Лозинского):
В венке олив, под белым покрывалом,
Предстала женщина, облачена
В зеленый плащ и в платье огне-алом.
И дух мой, – хоть умчались времена,
Когда его ввергала в содроганье
Одним своим присутствием она,
А здесь неполным было созерцанье, —
Пред тайной силой, шедшей от нее,
Былой любви изведал обаянье.
Едва в лицо ударила мое
Та сила, чье, став отроком, я вскоре
Разящее почуял острие,
Я глянул влево, – с той мольбой во взоре,
С какой ребенок ищет мать свою
И к ней бежит в испуге или в горе, —
Сказать Вергилию: «Всю кровь мою
Пронизывает трепет несказанный:
Следы огня былого узнаю!»
Это место «Божественной комедии» было любимым у Ахматовой и Мандельштама, его Ахматова цитирует в своем выступлении на вечере, посвященном Данте: «Это явление навеки, и до сих пор перед всем миром она стоит под белым покрывалом, подпоясанная оливковой ветвью, в платье цвета живого огня и в зеленом плаще»78.
Кстати, эту же любимую ахматовскую цитату из Данте Бродский имеет в виду, когда в стихотворении «Развивая Платона» описывает утопический город, в котором можно увидеть реальные черты Петербурга/Ленинграда и безошибочно опознать образ неназванной Ахматовой:
Там должна быть та улица с деревьями в два ряда,
подъезд с торсом нимфы в нише и прочая ерунда;
и портрет висел бы в гостиной, давая вам представленье
о том, как хозяйка выглядела, будучи молода.
Я внимал бы ровному голосу, повествующему о вещах,
не имеющих отношенья к ужину при свечах,
и огонь в камельке, Фортунатус, бросал бы багровый отблеск
на зеленое платье. Но под конец зачах.
О разговорах Мандельштама и Ахматовой, в которых они обсуждали Данте, вспоминают и другие мемуаристы. Этот взаимный интерес вылился в творчестве обоих в ставшие классическими тексты. У Мандельштама – большое эссе «Разговор о Данте», у Ахматовой – стихотворение «Данте», которое она написала в 1936 году. Что примечательно – в августе.
Данте
Он и после смерти не вернулся
В старую Флоренцию свою.
Этот, уходя, не оглянулся,
Этому я эту песнь пою.
Факел, ночь, последнее объятье,
За порогом дикий вопль судьбы…
Он из ада ей послал проклятье
И в раю не мог ее забыть, —
Но босой, в рубахе покаянной,
Со свечей зажженной не прошел
По своей Флоренции желанной,
Вероломной, низкой, долгожданной…
17 августа 1936
Это не просто стихотворение об итальянском поэте. Поставленная под текстом дата отсылает нас к истории ахматовского интереса к Данте, к беседам с Осипом Мандельштамом в 1933 году, вскоре после того, как он написал «Разговор о Данте», и к последующей ссылке Мандельштама в Воронеж79. «Дикий вопль судьбы» также применим к изгнаннику Данте, как и к изгнаннику Мандельштаму, и Ахматова, говоря об одном поэте, отсылает нас к судьбе другого. Подобную тактику впоследствии использует Бродский в «Декабре во Флоренции».
Интересно, что Ахматова сопереживает Лотовой жене, которая оглянулась, и одновременно восхищается тем, что Данте, уходя в изгнание, не оглянулся. Это кажущееся противоречие снимается, если обратить внимание на то, что в этих двух случаях взгляд назад связан с двумя разными причинами.
Данте следует завету Вергилия «взгляни и проходи», не оглядываясь на остающиеся в преддверии ада души, столь ничтожные, что даже ад не может их принять80. Жена Лота, как уже отмечалось выше, оглядывается на свое прошлое, и красные стены родного Содома оказываются местом памяти, как в ахматовских стихах местом памяти оказывается сожженное Царское Село или исчезнувший вместе с друзьями и близкими в мареве революций и войн Петербург:
Из года сорокового,
Как с башни на все гляжу.
Как будто прощаюсь снова
С тем, с чем давно простилась,
Как будто перекрестилась
И под темные своды схожу.
(«Поэма без героя»)
«Лотова жена» и «Данте» оказываются связаны в поэтической системе Ахматовой. Она и сама была склонна объединять их, свидетельство чему – магнитофонная запись, где она читает два этих стихотворения81.
Очевидно, что тема взгляда назад, возможности или невозможности вспомнить, становится одной из центральных в творчестве Ахматовой. И одновременно встает вопрос о возможности разделить эту память с другими и защитить ее от деформаций и подделок, попыток исправить прошлое. В конце жизни это выразится в борьбе Ахматовой с ошибками и искажениями в мемуарах о Серебряном веке – не только связанных с ней лично, но и касающихся тех, кто был ей дорог – Гумилева, Мандельштама, – или дорогого для нее города.
В тридцатых же это стремление к точности выражается в том числе в обращении к академической среде. Ахматова вступает в диалог с учеными-пушкинистами. Теперь она выступает в роли не только поэта, но и исследователя – знакомым она говорит, что стихов сейчас пишет мало, поскольку много времени тратит на занятия творчеством Пушкина. Ее работы о «Сказке о золотом петушке», «Каменном госте», Пушкине и Бенжамене Констане получают признание у ученых. Так, Борис Эйхенбаум пишет Николаю Харджиеву в октябре 1930 года: «Была у меня Анна Андреевна. Напряженная, но умная. Очень интересны ее наблюдения над Пушкиным»82.
Работа о «Золотом петушке» читалась Ахматовой как доклад в Пушкинской комиссии. Доклад вызвал оживленное обсуждение, в котором участвовали Б. В. Томашевский, Ю. Г. Оксман и другие известные пушкинисты. Один из очевидцев, Цезарь Вольпе, писал: «Пушкинисты выступали так, как будто условились разыграть все дело как собственную незадачливость»83.
Ахматова становится регулярным участником заседаний. Так, через год она присутствует на докладе Ю. Н. Тынянова «Пушкин и Кюхельбекер». Размышляя о судьбах поэтов и их отношении друг к другу, она задумывается о причинах непонимания Пушкиным Данте. Поэтесса Мария Шкапская вспоминает слова Ахматовой в разговоре с ней на эту тему: «Любопытно, до какой степени Пушкин не понимал Данта. Он его воспринимал как-то через XVIII век, через Вольтера. Почему об этом никто не писал?»84
Том Пушкина, изданный к столетию его смерти и подаренный ей составителем и редактором Б. В. Томашевским, она хранила в своей библиотеке. Сейчас эта книга находится в книжном фонде Музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме, и на ее страницах можно видеть многочисленные пометы, подчеркивания, знаки NB, свидетельствующие о медленном и внимательном чтении. Часто эти пометы помогают исследователям найти многочисленные пушкинские подтексты в произведениях Ахматовой85.
Пушкинские штудии дают ей возможность через призму пушкинской эпохи взглянуть на советскую реальность тридцатых. Центральные темы, которые ее интересуют – эзопов язык и использование подтекстов, чтобы обойти бдительное внимание цензуры, поиски Пушкиным своего места и способа сохранить достоинство поэта в николаевском казарменном государстве. И еще одна тема, которая волнует ее, возможно, больше других: исследование попыток Пушкина найти место захоронения казненных друзей-декабристов, которое было скрыто по указанию Николая I.
Эта тема была для Ахматовой глубоко личной – точно так же, как Пушкин пытался найти могилу пятерых повешенных декабристов, она искала место захоронения Николая Гумилева, расстрелянного около станции Бернгардовка. В конце жизни, в 1962 году, она рассказывала об этих поисках Лидии Чуковской: «Я про Колю знаю, их расстреляли близ Бернгардовки, по Ириновской дороге. У одних знакомых была прачка, а у той дочь – следователь. Она, то есть прачка, им рассказала и даже место указала со слов дочери. Туда пошли сразу, и была видна земля, утоптанная сапогами. А я узнала через 9 лет и туда поехала. Поляна; кривая маленькая сосна; рядом другая, мощная, но с вывороченными корнями. Это и была стенка. Земля запала, понизилась, потому что там не насыпали могил. Ямы. Две братские ямы на 60 человек. Когда я туда приехала, всюду росли высокие белые цветы. Я рвала их и думала: „Другие приносят на могилу цветы, а я их с могилы срываю“… Приговоренных везли на ветхом грузовике, везли долго, грузовик останавливался»86.
В 1920—1940-е годы планируются разные издания ее стихов, но ни один из проектов не доводится до конца (кроме упомянутой книги 1940 года). В советской печати регулярно появляются статьи, разоблачающие наследие акмеизма в целом и «буржуазные» стихи Ахматовой в частности. Например, в «Литературной газете» в июле 1934-го выходит статья, в которой говорится: «Акмеизм наиболее полно и последовательно выразил идеологию русской буржуазии эпохи столыпинщины»87. Ахматова обвиняется в мистицизме, эротизме. В том же 1934 году арестован в первый раз Осип Мандельштам. «Не осталось ни одного писателя, за исключением Анны Ахматовой, которые не подали бы заявления в Союз. Только она одна не подала такого заявления», – ябедничает партийный функционер-литератор при подготовке Первого съезда писателей88.
К этому же периоду относится и обращение Ахматовой к Шекспиру. В конце двадцатых она начинает изучать английский язык, а в начале тридцатых переводит «Макбета». Перевод этот, скорее всего, не был закончен. «Можно полагать, что практического стимула эта затея лишилась и в связи с опубликованием в 1934 году двух новых переводов трагедии – Сергея Соловьева и Анны Радловой. Переизбыток публикаций шекспировой драмы именно в этом году – одна из очередных дьявольских гримас эпохи», – пишет Р. Д. Тименчик89.
Убийство Кирова 1 декабря 1934 года и последовавшая после этого волна «большого террора» стали событиями, которые напрямую коснулись миллионов людей, в том числе родных и друзей Ахматовой. Сотни тысяч людей погибли. И точно так же, как строки Пушкина и Данте оказывались созвучны современным событиям в восприятии Ахматовой, «Макбет» вплетался в стихи, посвященные арестам и гибели близких. В это время возникают первые наброски того, что впоследствии войдет в «Реквием».
22 октября 1935 года по типовому обвинению в создании контрреволюционной террористической организации арестованы Лев Гумилев и Николай Пунин. Е. С. Булгакова вспоминает о том, как Ахматова пришла к ней в один из следующих дней. «Днем позвонили в квартиру. Выхожу – Ахматова – с таким ужасным лицом, до того исхудавшая, что я ее не узнала, и Миша тоже. Оказалось, что у нее в одну ночь арестовали и мужа (Н. Н. Пунина), и сына (Гумилева)»90.
Обоих вскоре выпустили – в этом сыграли роль письма и хлопоты Ахматовой. Но у них впереди были новые аресты. Пунин умер в 1953 году в Абезьском лагере в Коми, Лев Гумилев был дважды осужден, окончательно освобожден в 1956 году, а реабилитирован только в 1975 году.
Наступили страшные времена.
Это было, когда улыбался
Только мертвый, спокойствию рад,
И ненужным привеском болтался
Возле тюрем своих Ленинград.
И когда, обезумев от муки,
Шли уже осужденных полки,
И короткую песню разлуки
Паровозные пели гудки.
Звезды смерти стояли над нами,
И безвинная корчилась Русь
Под кровавыми сапогами
И под шинами черных марусь.
Первые две строки этого стихотворения из «Реквиема» подсказаны монологом из «Макбета»91:
Отчизна наша бедная от страха
Не узнает сама себя! Она
Не матерью нам стала, а могилой,
Где улыбаться может только тот,
Кто ничего не знает…92
«Осужденных полки» пополнялись близкими друзьями и соратниками Ахматовой по литературной работе. 14 апреля 1938 года, в день своего пятидесятилетия на Колыме был расстрелян поэт Владимир Нарбут. 21 апреля того же года на расстрельном полигоне «Коммунарка», близ Москвы, расстрелян Борис Пильняк. 27 декабря на Второй речке под Владивостоком погиб Осип Мандельштам.
В одном из своих последних выступлений, речи «О назначении поэта», прочитанной в феврале 1921 года, Александр Блок говорил: «Пушкина тоже убила вовсе не пуля Дантеса. Его убило отсутствие воздуха. С ним умирала его Культура»93. Не все умершие в годы сталинских репрессий погибли от пуль. Отсутствие воздуха тоже убивало: и Михаила Булгакова, умершего в 40 лет, 10 марта 1940 года, и Марину Цветаеву, покончившую с собой 31 августа 1941-го.
Но разговор, закончившийся на земном пути, Ахматова продолжала «на воздушных путях» – и прежде всего в стихах, обращенных к ушедшим и написанных так, что они выходят за пределы обычного жанра эпитафии:
Все мы немного у жизни в гостях,
Жить – это только привычка.
Чудится мне на воздушных путях
Двух голосов перекличка.
Двух? А еще у восточной стены,
В зарослях крепкой малины,
Темная, свежая ветвь бузины…
Это – письмо от Марины.
Бытие не определяет поэтическое сознание, но условия, в которых живет поэт, могут отражаться в особенностях его языка и выборе творческой стратегии. Оказавшись без возможности опубликовать свои стихи, теряя друзей и собеседников, Ахматова продолжает писать. Никаких «тридцати лет молчания» в ее поэзии не было, вопреки утверждениям ряда критиков и расхожему мнению неискушенной читательской аудитории94. Она продолжала писать. Все это время в ее поэтическом языке шли глубинные, возможно, неосознаваемые процессы, определившие своеобразие стихов 1940–1960-х годов. Сформировались новые особенности индивидуального поэтического языка – или, как говорят ученые, идиостиля, – которые, подобно отпечаткам пальцев, позволяющим идентифицировать человека, стали узнаваемым отпечатком ее стиля. Многие из них были усвоены следующим поэтическим поколением, молодыми поэтами, среди которых был и Бродский, но об этом чуть позже.
В программном эссе «О собеседнике» Осип Мандельштам писал об отличии поэта от литератора. «Литератор всегда обращается к конкретному слушателю, живому представителю эпохи». И в этом смысле он должен соотносить себя с эпохой и быть понятным широкой аудитории. Поэт, по словам Мандельштама, «связан только с провиденциальным собеседником»95. И этот собеседник не нуждается в объяснениях и разъяснениях. Не в том смысле, что понимает все нюансы душевного состояния автора и мотивировки, управляющие выбором того или иного слова или приема. Это лишило бы поэзию той ауры смутной неопределенности, за счет которой она и существует. Провиденциальный собеседник наделен возможностью видеть ключи, внутреннюю разметку стихотворения и знанием поэтической традиции, позволяющим вписывать данное конкретное стихотворение в контекст бесконечной и многоголосой поэтической переклички «на воздушных путях».
Эта перекличка – естественная реакция в эпоху, когда собеседники по поэтическому цеху погибли, брошены в тюрьмы и лагеря или просто молчат.
Все души милых на высоких звездах.
Как хорошо, что некого терять
И можно плакать. Царскосельский воздух
Был создан, чтобы песни повторять.
Повторяя строки и образы, обращаясь к погибшим поэтам, Ахматова восстанавливает контекст разговора. Один из ярких примеров этого – цикл «Венок мертвым», создававшийся на протяжении более чем двадцати лет: стихотворения цикла датируются от 1938-го до 1961 года.
Одна из особенностей цикла, которая бросается в глаза – это неявное указание. Вот несколько примеров из разных стихотворений цикла:
А тот, кого учителем считаю…
Все это разгадаешь ты один…
В той ночи, и пустой и железной…
И тот горчайший гефсиманский вздох…
И сердце то уже не отзовется…
Здесь личные и указательные местоимения использованы не совсем привычным образом. Обычно в речи или тексте то, на что они указывают, становится понятно из ближайшего контекста. В приведенных примерах это правило нарушено. В каких-то случаях мы можем понять, о чем или о ком идет речь, из заглавия или эпиграфа. Так, в первом случае под учителем имеется в виду Иннокентий Анненский, в последнем – образ сердца, которое уже не сможет отозваться, связано с Николаем Пуниным. В других случаях требуется знание определенных текстов или биографического контекста. Но во всех этих случаях от читателя требуется встречное движение понимания, отвечающее на саму интонацию поэтического текста.
Бродский в «Музе плача» так писал об этом цикле: «Если Ахматова не умолкла, то, во-первых, потому, что опыт просодии включает в себя среди всего прочего и опыт смерти; во-вторых, из-за чувства вины, что ей удалось выжить. Стихотворения, составившие „Венок мертвым“, являются попыткой дать возможность тем, кого она пережила, найти приют в просодии или, по крайней мере, стать ее частью. Дело не в том, что она стремилась „обессмертить“ погибших, большинство из которых уже и тогда были гордостью русской литературы, обессмертив себя самостоятельно. Она просто стремилась справиться с бессмысленностью существования, разверзшейся перед ней, с уничтожением носителей его смысла, одомашнить, если угодно, невыносимую бесконечность, заселяя ее знакомыми тенями. Кроме того, обращение к мертвым было единственным средством удержания речи от срыва в вой»96.
Или же средством выживания и борьбы с безумием, каковым оказался «Реквием», описывающий и обобщающий трагический опыт женщин в тюремных очередях, где они ожидали свидания с мужьями и детьми, или возможности передачи. Ожидание это во многих случаях оказывалось тщетным.
Уже безумие крылом
Души накрыло половину,
И поит огненным вином,
И манит в черную долину.
И поняла я, что ему
Должна я уступить победу,
Прислушиваясь к своему
Уже как бы чужому бреду.
И не позволит ничего
Оно мне унести с собою
(Как ни упрашивать его
И как ни докучать мольбою):
Ни сына страшные глаза —
Окаменелое страданье,
Ни день, когда пришла гроза,
Ни час тюремного свиданья.
Ни милую прохладу рук,
Ни лип взволнованные тени,
Ни отдаленный легкий звук —
Слова последних утешений.
4 мая 1940
И вновь из эссе «Муза плача»: «Сила „Реквиема“ состоит в том, что подобная биография была слишком типичной. „Реквием“ оплакивает плакальщиц: матерей, потерявших детей, жен, обреченных на вдовство, порой тех и других, как в случае с автором. Это трагедия, где хор погибает раньше героя»97.
В «Листках из дневника», в набросках о Мандельштаме Ахматова пишет: «Я очень запомнила один из наших тогдашних разговоров о поэзии. Осип Эмильевич, который очень болезненно переносил то, что сейчас называют культом личности, сказал мне: „Стихи сейчас должны быть гражданскими“, и прочел „Под собой мы не чуем“. Примерно тогда же возникла его теория „знакомства слов“. Много позже он утверждал, что стихи пишутся только как результат сильных потрясений, как радостных, так и трагических»98.
Результатом такого потрясения и явился «Реквием». Ахматова создавала его, зная, что эти стихи могут грозить ей смертельной опасностью – как стало смертельным для Мандельштама стихотворение «Мы живем, под собою не чуя страны…».
Вспоминая те страшные годы и тюремные очереди, в которых родились многие строки поэмы, Лидия Чуковская пишет: «В очередях женщины стояли молча или, шепчась, употребляли лишь неопределенные формы речи: „пришли“, „взяли“; Анна Андреевна, навещая меня, читала мне стихи из „Реквиема“ тоже шепотом, а у себя в Фонтанном доме не решалась даже на шепот; внезапно, посреди разговора, она умолкала и, показав мне глазами на потолок и стены, брала клочок бумаги и карандаш; потом громко произносила что-нибудь светское: „хотите чаю?“ или: „вы очень загорели“, потом исписывала клочок быстрым почерком и протягивала мне. Я прочитывала стихи и, запомнив, молча возвращала их ей. „Нынче такая ранняя осень“, – громко говорила Анна Андреевна и, чиркнув спичкой, сжигала бумагу над пепельницей. Это был обряд: руки, спичка, пепельница, – обряд прекрасный и горестный».
Все разговоры о поэме оказываются зашифрованными. «Потом она прочитала мне новонайденные пушкинские строки – из его Реквиема. „Лунный круг“», – записывает Чуковская 3 марта 1940 года. Но в примечаниях к своим записным книжкам, написанным уже после падения советской власти, поясняет: «Это снова шифр. Пушкин тут ни при чем. „Лунный круг“ – слова из „Реквиема“ Анны Ахматовой, из „Посвящения“: „Что мерещится им в лунном круге?“»99.
В фантастической повести Рэя Бредбери «451 градус по Фаренгейту» горстка героев заучивает книги, которые должны быть преданы огню, наизусть, чтобы сохранить их. Ко времени публикации романа в 1953 году то, что было выдумкой американского фантаста, уже полтора десятка лет было явью в сталинском СССР – «Реквием» Ахматовой существовал только в памяти нескольких людей, которые практически стали этой книгой и, встречаясь, проверяли друг друга, вспоминая заученные наизусть строки.