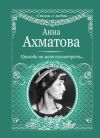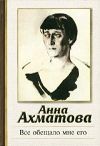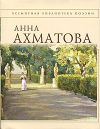Читать книгу "Иосиф Бродский и Анна Ахматова. В глухонемой вселенной"

Автор книги: Денис Ахапкин
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
Это продолжалось еще долго. В воспоминаниях Чуковской мы находим описание своеобразного «экзамена», когда Ахматова проверяла свою и чужую память. «На днях Анна Андреевна учинила ревизию: проверила наличность в кассе. Она давно уже собиралась уйти со мною куда-нибудь из-под потолка и проверить, все ли я помню. По ее внезапному вызову я к ней явилась, и мы отправились в ближайший сквер. Почти все скамейки в этот час рабочего дня пусты, мы сели подальше от двух теток, пасущих детей, от пенсионера, читающего газету, подальше от улицы. Тепло, солнечно, сыро. Воздух еще весенний, свежий, еще не испачканный запахом пыли, жары, бензина, асфальта. Думая об экзамене, я всегда боялась пропустить какую-нибудь строку, забыть слово. Но страшноватым – и смешноватым! – оказалось другое: читать Анне Ахматовой вслух стихотворения Анны Ахматовой. Уверена, что слушать собственные стихи в чужом чтении – противно. Я изо всех сил старалась читать никак, просто перечислять слова, строчки, но, боюсь, привносила невольно что-то свое. Анна Андреевна сидела рядом в зимнем, уже не по погоде, шерстяном грубом платке, в тяжелом пальто. Солнце сгущало темноту под запавшими глазами, подчеркивало морщины на лбу, углубляло их вокруг рта. Она слушала, а я читала вслух стихи, которые столько раз твердила про себя»100.
Вообще заучивание наизусть приобретает особое значение в годы «большого террора», когда память зачастую становится последним, что остается у человека. В приемных судов и в очередях на передачу посылок, в тюрьмах и на пересылках запомненные наизусть и воспроизводимые в памяти строки становятся средством борьбы с безумием.
Евгения Гинзбург, автор замечательной документальной автобиографической книги о сталинских тюрьмах и лагерях, пишет: «Сидя в тюрьмах долгими месяцами и даже годами, я имела возможность наблюдать, до какой виртуозности доходит человеческая память, обостренная одиночеством, полной изоляцией от всех внешних впечатлений. С предельной четкостью вспоминается все когда-нибудь прочитанное. Читаешь про себя наизусть целые страницы текстов, казалось, давно забытых. В этом явлении есть даже нечто загадочное»101.
Историк литературы и поэт Михаил Гронас, описывая явление, которое он называет мнемонической культурой, выделяет заучивание наизусть и воспроизведение по памяти стихов как одну из ключевых черт русской культуры. Говоря о ее развитии в годы «большого террора», он отмечает, что практика не только воспроизведения по памяти чужих стихов, но и создания и заучивания своих была широко распространена среди образованных заключенных, и в качестве примеров приводит воспоминания Александра Солженицына, Анны Лариной-Бухариной, Надежды Иоффе и других, переживших репрессии102.
В интервью Майклу Главеру Бродский говорил: «Поэзия вряд ли поддерживает духовность. Сам факт, что русским присуще запоминать и помнить много стихов наизусть, в общем-то, не дает им духовной поддержки. Это просто позволяет не быть окончательно сломленным. Говорить о поэзии как о средстве духовного выживания, для меня по крайней мере, слишком высокопарно… Но, конечно же, стихи помогают. Когда ты повторяешь про себя ту или иную строчку, ты как-то справляешься»103.
В другом интервью он говорит так о стихах Ахматовой: «Вот Ахматова – это такой случай. И какие-то ее фразы вы бубните. Совершенно не понимая, что происходит. Это поэт, с которым вы более-менее можете прожить жизнь»104.
В курсах, которые Бродский вел в различных университетах и колледжах США, он почти всегда требовал от студентов заучивать большие объемы стихов наизусть. Так, например, в описание курса «Лирическая поэзия», который он вел в Колледже Саут-Хедли, включено требование выучить наизусть около 1000 строк из поэзии Томаса Харди, Уистена Одена, Роберта Фроста, Константиноса Кавафиса, Райнера-Марии Рильке105.
Это очень большой объем поэтического текста, и я не знаю, проверял ли Бродский каждого из 30 студентов этого курса, но само по себе это требование показывает то важное значение, которое он придавал знанию стихов наизусть.
Для Бродского знание стихов наизусть это не просто профессорская блажь или свидетельство принадлежности к определенному культурному кругу. Это способ существования – если угодно, выживания – в мире, где поэт может быть расстрелян, сослан, уничтожен или просто забыт. Знание наизусть стихов других поэтов позволяет передать их по эстафете памяти, той эстафете, которую Бродский метафорически описывает в «Остановке в пустыне»:
И если довелось мне говорить
всерьез об эстафете поколений,
то верю только в эту эстафету.
Вернее, в тех, кто ощущает запах.
Аллюзия, цитата, подтекст позволяют продолжить жизнь ушедших. Поэтические строки и фразы, по известному выражению Мандельштама, становятся своего рода «письмом в бутылке», а распознавание читателем цитаты озаряет его мгновенной радостью узнавания. И таким отношением к поэзии Бродский во многом обязан Ахматовой.
Она придавала знанию текстов наизусть огромное культурное и моральное значение. В 1962 году Солженицын читал Ахматовой свои стихи, написанные в лагере, а потом рассказал, что знает наизусть «Поэму без героя» – к тому времени не напечатанную, а передававшуюся изустно106. Ахматова о стихах отозвалась сдержанно («уязвимые во многих отношениях»), а вот о повести «Один день Ивана Денисовича», которую прочла за несколько месяцев до публикации в «Новом мире», говорила: «Эту повесть о-бя-зан про-чи-тать и выучить наизусть каждый гражданин изо всех двухсот миллионов граждан Советского Союза»107. Два главных произведения Ахматовой в тот момент помнило наизусть гораздо меньше людей: «„Реквием“ знали наизусть 11 человек, и никто меня не предал», – говорила она108.
Сходным с «Реквиемом» образом возникала и «Поэма без героя», существовавшая вначале как облако связанных строф и фрагментов, часто не записанных, а воспроизводимых по памяти, с потенциалом постоянного развития. С одной стороны, это произведение, которое было завершено автором, в этом завершенном виде опубликовано и стало объектом чтения и изучения. С другой, сама специфика «Поэмы» связана с подвижностью и отсутствием четких границ. Р. Д. Тименчик в «Заметках о „Поэме без героя“» охарактеризовал это так: «Безостановочное самодвижение и саморазвитие замысла <…> связано с особой природой этого художественного текста. Ибо это „поэма в поэме“ и „поэма о поэме“, произведение, рассказывающее о своем собственном происхождении. Можно даже сказать, что сюжетом его является история художнической неудачи, история о том, как не удавалось написать или дописать „Поэму без героя“, повесть, сотканную из черновиков, наметок, отброшенных проб, нереализованных возможностей»109.
Эта «повесть» оказалась самым сложным и требовательным к читателю произведением Ахматовой – и она это прекрасно осознавала:
Но сознаюсь, что применила
Симпатические чернила…
Я зеркальным письмом пишу,
И другой мне дороги нету —
Чудом я набрела на эту,
И расстаться с ней не спешу.
В одном из предуведомлений, включенных в итоговый текст, она пишет: «До меня часто доходят слухи о превратных и нелепых толкованиях „Поэмы без героя“. И кто-то даже советует мне сделать поэму более понятной. Я воздержусь от этого. Никаких третьих, седьмых и двадцать девятых смыслов поэма не содержит. Ни изменять, ни объяснять ее я не буду»110.
Можно заметить, однако, что, отрицая наличие третьих смыслов, Ахматова ничего не говорит о вторых. В набросках к поэме в записных книжках возникают строки:
Это тайнопись – криптограмма,
А верней запрещенный прием111.
Эти строки не входят в окончательный текст – и не случайно. Пока поэты рассчитывают на своего читателя и насыщают текст указателями на скрытые смыслы, ревнители партийной чистоты в литературе придирчиво ищут шифровки. Так, в августе 1946 года свежий лауреат Сталинской премии поэт Прокофьев (из хвалебных эпитетов, раздававшихся ему советской критикой, можно, пожалуй, оставить лишь «своеобразный»), выступая на заседании правления Ленинградского отделения Союза писателей, порицал коллегу по цеху, который «рекомендует ее [„Поэму без героя“] к изданию, поэму, зашифрованную самой поэтессой. Она сама здесь говорит – не знаю, почему (думаю, что здесь можно думать об издевательстве над нами): „признаю – я применяла симпатические чернила, я зеркальным письмом писала“. Даже не надо через лупу это рассматривать»112.
На то, что читатель должен знать культурный контекст, Ахматова еще раз указывает, замечая в предпосланном «Поэме без героя» в качестве одного из предисловий отрывке «Из письма к N»: «Тем же, кто не знает некоторые петербургские обстоятельства, поэма будет непонятна и неинтересна»113. О том, как именно Ахматова работает с контекстом и как это отразилось в поэтике Бродского, будет сказано подробнее в одной из следующих глав.
Интересно, что в «Музе плача» «Поэма без героя» вообще не упоминается, хотя непосредственное влияние этого текста на молодого Бродского несомненно, и он приложил большие усилия, чтобы из-под этого ахматовского влияния уйти – показательно, например, его нежелание переиздавать «Шествие», в котором влияние «Поэмы без героя» видно, как говорится, невооруженным взглядом.
Свое впечатление от поэмы Бродский кратко сформулировал в беседе с Соломоном Волковым: «Помню, как я прочел „Поэму без героя“ в ее первом варианте. Я очень сильно возбудился. Впоследствии, когда „Поэма“ разрослась, она мне стала представляться слишком громоздкой. Впечатление свое о поэме я могу сформулировать довольно точно с помощью одной сентенции, даже не мной высказанной: «Самое замечательное в „Поэме“, что она написана не „для кого“, а „для себя“»114.
Очевидно, что, несмотря на замечание Ахматовой об отсутствии в «Поэме» третьих смыслов, Бродскому важна именно герметичность поэмы, недоговоренность и система намеков, которые в ней присутствуют. «Конечно, – замечает он, – Ахматова зашифровала некоторые вещи в „Поэме“ сознательно. В эту игру играть чрезвычайно интересно, а в определенной исторической ситуации – просто необходимо»115.
Биограф Ахматовой Аманда Хейт считает «Поэму» логичным финалом ее творчества: «„Поэмой без героя“ Ахматова в каком-то смысле завершила свое поэтическое странствие. Стоя на позициях акмеизма и постигая через жизненный опыт глубины языка живых символов, она сумела найти место своей жизни не только в судьбе своей страны, но и во всей мировой литературе»116.
Помните, как Ахматова, опасаясь прослушивания, писала на бумажке, показывала написанное собеседнику и тотчас сжигала над пепельницей? Поздние стихи Ахматовой, и особенно «Поэму без героя», можно представить как текст, комментарии к которому сожжены таким образом. И хотя сама она говорила, что никаких третьих смыслов «Поэма» не содержит, это лишь свидетельство того, что поэма была понятна (вопрос – до какой степени?) тесному кругу современников и единомышленников. Ахматова, однако, и не рассчитывает на полное понимание. Ситуация, в которой отправитель и получатель владеют одной и той же информацией, семиотически бессмысленна117.
Поэтический текст может быть адресован идеальному читателю, как в стихотворении памяти Бориса Пильняка из «Венка мертвым»: Все это разгадаешь ты один. Но в действительности он попадает к читателям реальным и провоцирует часть из них на поиск смыслов, активное сотворчество, попытку реконструировать авторскую интенцию. Другая часть считает, что в поэзии не все должно быть понятно, и находит удовольствие в авторском голосе, языке и образах. Есть и те, кто отбрасывает недочитанный текст как непонятный и раздражающий.
Это не специфика поэзии именно Ахматовой – это свойство хорошей литературы вообще. Разные когорты читателей (термин из исследований по психологии чтения) выбирают разные тексты. Отличительная черта Ахматовой та, что она выводит момент поиска нужного смысла на передний план, создавая ситуацию, в которой явно указывает на что-то неизвестное читателю, не давая при этом пояснений, облегчающих понимание.
Особенно отчетливо эта особенность видна в ряде поздних стихотворений Ахматовой, например, в цикле «Полночные стихи», который буквально пронизан указательными местоимениями в этой функции. Т. Ю. Хмельницкая писала Г. Ю. Семенову 15 сентября 1963 года: «На днях слушала стихи 74-летней Анны Ахматовой – совсем новые, совсем личные. В них была мраморная твердость и непререкаемая высота. И все-таки каждое слово в них окружено тайной недосказанности, поясом нераскрытых ассоциаций – и очень насыщенно и густо в этих, казалось бы, изваянных строках. И возможность догадки не портит их, а делает еще значительнее»118.
Вот как характеризует этот цикл Аманда Хейт: «„Полночные стихи“, написанные Ахматовой в конце жизни, образуют обособленный цикл стихотворений о любви. Любви, в них воспеваемой, грозят не новые повороты судьбы, в лице истории, войны или революции, но тень надвигающейся смерти. Обычные разлуки – предвестники этого неизбежного последнего прощания, и во власти влюбленных преодолеть его, побеждая саму смерть. Расставание, быть может, даже легче вынести, чем встречу. И что невозможно на земле, может случиться в музыке или общем для двоих сновидении»119.
«Полночные стихи» являются своего рода продолжением серии текстов, центральным образом которых является взгляд назад. Среди них «Лотова жена» и «Данте», о которых шла речь выше. Эпиграфом для этого цикла Ахматова выбирает строчку «Все ушли, и никто не вернулся».
Глубинная сложность цикла при его внешней простоте вызывает затруднения не только у многих читателей, но даже у некоторых исследователей, выливаясь в характеристики, подобные хармсовской истории о рыжем человеке: «В лирический сюжет „Полночных стихов“ события биографического характера не инкорпорированы, как не упоминаются здесь и какие бы то ни было фрагменты территориально-географического, культурно-исторического и тому подобного характера»120. Если перешагнуть через громоздкое сочетание события биографического характера не инкорпорированы, понимаешь, что мысль автора проста – эти стихи Ахматовой не связаны с ее жизнью. С этим трудно согласиться, хотя, действительно, детали жизненного и непосредственно связанного с ним читательского опыта Ахматовой не упоминаются здесь прямо.
Для других читателей все, напротив, чрезвычайно просто, и они дают сложному тексту ложное, зато романтическое объяснение. Вот, например, запись в дневнике ахматовской знакомой В. А. Сутугиной: «Читали стихи А. А. Исаю <sic!> Бродскому. Это молодой, 22-х лет, поэт, очень талантливый и она в него влюблена и такие стихи ему пишет – как в молодости писала. А он влюблен в какую-то молоденькую красавицу Марину, девушку». Через месяц та же Сутугина писала Ахматовой: «…мне удалось прочитать Ваши „Полуночные стихи“. Что это за прелесть! Это лучшее, что Вы написали за последнее время (по моему мнению). В них такой аромат молодости, что я вспомнила Вас с большим гребнем в волосах и меховом воротнике»121.
Предупреждая попытки такой интерпретации, Никита Струве пишет: «“Полночные стихи” <…> обладают всеми признаками „любовных стихов“. В каждом фрагменте присутствуют отчетливо ты и я, сливающиеся большей частью в мы; говорится о встрече, всегда краткой или невозможной, или о разлуке, богаче, чем встреча; о прощании навсегда; об общности, несмотря на пространственное расстояние, и т. д. Однако воспринимать „Полночные стихи“ как любовную лирику в обычном смысле этого слова, а тем более искать в них конкретные черты старческой привязанности – тем самым и экзистенциально, и эстетически ущербной – может привести к радикальному снижению этого последнего взлета ахматовской лирики»122.
Против поиска конкретных черт, даже в стихотворениях, посвященных конкретным людям, Ахматова выступала и сама. Как вспоминает И. С. Эвентов, беседовавший с Ахматовой о ее, посвященном Маяковскому, стихотворении, на предположение, что в нем имеется в виду конкретное выступление Маяковского, Ахматова «досадливо сказала: „Не пытайтесь искать в моем стихотворении какие-либо факты. Их там нет. Я описываю не случай, не эпизод. Вообще я ничего не описываю“»123.
Для нее важнее не простые биографические и бытовые соответствия, а сложная сеть литературных ассоциаций, вовлекающая читателя в активный процесс понимания, делающая его соучастником творческого процесса. Если не учитывать этого, можно не понять легкую иронию в строках из стихотворения Ахматовой «Читатель» (особенно если читать их на фоне мандельштамовского «Нет, никогда, ничей я не был современник»):
Чтоб быть современнику ясным,
Весь настежь распахнут поэт124.
Поэт действительно открыт для читателя, но от читателя требуется высокая степень готовности и знание предшествующей традиции – как показывают и «Поэма без героя», и поздние циклы Ахматовой, в том числе «Полночные стихи».
Это сложная задача. Иногда даже близкие к автору и хорошо знающие контекст читатели не понимали отдельных текстов и отсылок в них. Так, Лидия Чуковская вспоминает о чтении «Полночных стихов» в Комарово: «Я ничего путного сказать не могла, сказала только, что одного стихотворения не понимаю: „Красотка очень молода / Но не из нашего столетья“. Анна Андреевна с большой кротостью прочла его во второй раз <…>. Но я все равно не поняла <…> Анна Андреевна, ничего не объясняя, спокойно спрятала стихи в чемоданчик»125. Интересно, что здесь Ахматова самой формой своего ответа на вопрос о непонятном стихотворении как бы дает инструкцию читателю – если возникают вопросы, перечитай заново.
Поздние тексты Ахматовой приглашают читателя к активному сотворчеству, к совместному многоуровневому расследованию, сродни детективному: «То, что на одном уровне выступает как авторский текст, на следующем уровне оказывается цитатой, позволяющей установить новые связи, которые по-новому строят все пространство стихотворения, а на более глубоком уровне обнаруживается, что цитата с определенной атрибуцией представляет собой цитату цитаты (многостепенное цитирование, объясняющее отчасти взаимоисключающие при первом взгляде отождествления у разных исследователей, ср. необычайно показательную в этом отношении „Поэму без героя“»126.
Хорхе-Луис Борхес мечтал о возможности построить такой текст в своей новелле «Анализ творчества Герберта Куайна», описывая несуществующий детективный роман. «На первых страницах излагается загадочное убийство, в середине происходит неторопливое его обсуждение, на последних страницах дается решение. После объяснения загадки следует длинный ретроспективный абзац, содержащий такую фразу: „Все полагали, что встреча двух шахматистов была случайной“. Эта фраза дает понять, что решение загадки ошибочно. Встревоженный читатель перечитывает соответствующии главы и обнаруживает другое решение, правильное. Читатель этой необычной книги оказывается более проницательным, чем детектив»127.
Подобного романа так и не появилось, а вот Ахматовой удалось создать текст, который сам себя опровергает, требует повторных прочтений и интерпретаций, вводит читателя в заблуждение, но при этом дает ему в руки ключи, помогающие следовать за смыслом.
Понятно, что такого рода художественная практика не могла не беспокоить блюстителей социалистического реализма, тем более, в контексте многочисленных партийных чисток и кампаний за стерильность советской литературы. «Поэма без героя» и «Реквием» создавались в самые тяжелые годы жизни страны. В биографии Ахматовой эти годы отмечены не только войной и репрессиями родных и друзей. 14 августа 1946 года вышло известное постановление ЦК КПСС о журналах «Звезда» и «Ленинград», которое заклеймило поэзию Ахматовой как идеологически вредную и чуждую советскому читателю. «Ахматова является типичной представительницей чуждой нашему народу пустой безыдейной поэзии. Ее стихотворения, пропитанные духом пессимизма и упадочничества, выражающие вкусы старой салонной поэзии, застывшей на позициях буржуазно-аристократического эстетства и декадентства, „искусства для искусства“, не желающей идти в ногу со своим народом, наносят вред делу воспитания нашей молодежи и не могут быть терпимы в советской литературе»128.
Больше всего партийные знатоки литературы беспокоились за молодежь «…вдруг на 29-м году социалистической революции появляются вновь на сцену некоторые музейные редкости из мира теней и начинают поучать нашу молодежь, как нужно жить. Перед Ахматовой широко раскрывают ворота ленинградского журнала и ей свободно предоставляется отравлять сознание молодежи тлетворным духом своей поэзии»129.
Через полтора десятка лет, когда и Жданов, и его главный начальник лежали у Кремлевской стены, именно к Ахматовой продолжала приходить молодежь, те ленинградские и московские девушки и юноши, которые возродили русскую поэзию в последней трети XX века.
Один из них в августе 1946 года, когда «Правда» публиковала текст постановления, готовился пойти в первый класс советской школы № 203, бывшей немецкой Анненшуле – школы Святой Анны – на Кирочной улице, неподалеку от Фонтанного дома, где тогда жила Анна Ахматова.