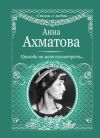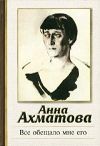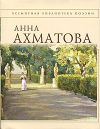Читать книгу "Иосиф Бродский и Анна Ахматова. В глухонемой вселенной"

Автор книги: Денис Ахапкин
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
Глава 2
Величие замысла
«Читать я начал рано…» – Почва и судьба. – В кругу Ахматовой. – Первые встречи. – Поворот. – Степень одиночества. – Действующие декорации. – «Вы не представляете себе, что вы написали…» – Величие замысла.
Иосиф Бродский родился 24 мая 1940 года – на следующий день после того, как сборник Ахматовой «Из шести книг» поступил в ленинградскую Книжную лавку писателей.
Читать он научился рано, а интерес к книгам стал проявлять еще раньше. «Мария Моисеевна <…> с гордостью рассказывала, как однажды, вернувшись с работы, она увидела, что ее трехлетний сын держит в руках книгу „Так говорил Заратустра“, как будто читает ее. Она взяла у него книгу посмотреть и положила ее вверх ногами, а Иосиф тут же вернул ее в правильное положение», – вспоминает беседу с матерью Бродского итальянский поэт и переводчик Аннелиза Аллева130.
Его детство не было радужным – война, эвакуация с матерью в Череповец, возвращение в Ленинград, истощенный блокадой, голодные послевоенные годы. В поэзии Бродского не найти детских воспоминаний, но очень многое в его характере определилось довольно рано и во многом благодаря эпохе, в которую он жил.
Война парадоксальным образом ненадолго открыла целому поколению недоступные до этого в СССР культурные горизонты. Мировая культура приходила к будущему поэту и его ровесникам не только через книги, но и через трофейное – кинофильмы, привезенные отцами из Европы и Китая вещи.
«Если кто и извлек выгоду из войны, – пишет Бродский в эссе «Трофейное», – то это мы, ее дети. Помимо того что мы выжили, мы приобрели богатый материал для романтических фантазий. В придачу к обычному детскому рациону, состоящему из Дюма и Жюль-Верна, в нашем распоряжении оказалась всяческая военная бранзулетка – что всегда пользуется большим успехом у мальчишек. В нашем случае успех был тем более велик, что это наша страна выиграла войну»131.
Может быть, отсюда, из этого детского опыта соприкосновения с непривычными и чарующими предметами, растет внимание к вещи в поэзии Бродского, внимание цепкое, активное, зачастую выводящее вещи на передний план стихотворения – как в «Стуле» или «Подсвечнике», – при этом не ограничивающееся описаниями, а проникающее в метафизическую суть описываемого. Бродский – поэт, который полно и последовательно воплотил принцип, продекларированный Мандельштамом в «Утре акмеизма»: «Любите существование вещи больше самой вещи и свое бытие больше самих себя – вот высшая заповедь акмеизма»132.
Тот, кто любит свое бытие больше, чем самого себя, становится «меньше, чем кто-либо» – это, наверное, более точный перевод названия самого известного эссе Бродского «Less than One», давшего имя и его первой прозаической книге, эссе, в котором он вспоминает свое детство. А о предпочтении существования вещи ей самой он говорит во многих своих стихах. Вот строки из «Римских элегий» – прямой ответ на слова Мандельштама:
Чем незримей вещь, тем оно верней,
что она когда-то существовала
на земле, и тем больше она – везде.
Но до этого еще далеко, а пока школьник Бродский составляет свой круг чтения и библиотеку из очень разных книг. Идеологизированная школьная программа помогала этому лишь частично. Л. В. Лосев пишет о круге чтения Бродского-школьника: «Иерархии, навязываемые школьной программой, вызывали протест, рудиментом которого осталось ироническое отношение к Толстому (как „главному писателю“ в официальной иерархии), равнодушие к Некрасову и Чехову. Толстому Бродский противопоставлял не только горячо любимого Достоевского, не включенного в советскую школьную программу той поры, но и Тургенева. У Тургенева он любил „Записки охотника“, в особенности рассказы „Гамлет Щигровского уезда“, „Чертопханов и Недопюскин“ и „Конец Чертопханова“. Тень детского иконоборчества лежит на отношении Бродского к Пушкину, хотя центральную роль Пушкина в русской культуре он никогда не оспаривал»133.
Вообще школьный курс литературы Бродского интересовал не особо, хотя отдельные задания, такие, например, как совместное чтение, могли его увлечь. Отвечая впоследствии на вопрос о детских воспоминаниях о Пушкине, Бродский вспоминал об этом: «В общем, особенных нет, за исключением опять-таки „Медного всадника“, которого я знал и до сих пор, думаю, знаю наизусть. Надо сказать, что в детстве для меня „Евгений Онегин“ почему-то сильно смешивался с „Горем от ума“ Грибоедова. Я даже знаю этому объяснение. Это тот же самый период истории, то же самое общество. Кроме того, в школе мы читали „Горе от ума“ и „Евгения Онегина“ в лицах, то есть кто читал одну строфу, кто читал другую строфу и т. д. Для меня это было большое удовольствие. Одно из самых симпатичных воспоминаний о школьных годах»134.
Однако большинство школьных впечатлений было не столь приятным, и в конце концов Бродский принимает решение уйти из школы: «В пятнадцать лет я сбежал из школы – просто потому, что она мне очень надоела и мне было интереснее читать книжки. Но это ни в коей мере не является свидетельством какого-то уникального предрасположения к чему бы то ни было – о стихотворстве я вообще тогда не помышлял. В седьмом или восьмом классе я просто приходил в школу с двумя или тремя книжками, которые читал на уроках. Очень хорошо помню, например, роман Джеймса Олдриджа „Дипломат“, довольно большой том, которым я в восьмом классе зачитывался. И не потому, что он „про иностранную жизнь“, а… уже и не знаю, с чем это связано – по крайней мере, то, что там описывалось, не очень совпадало с тем, что происходило вокруг, и это было интересно»135.
Олдридж, кстати, возникает позднее в его разговорах с Ахматовой, в довольно пренебрежительном контексте: «Анна Андреевна говорила, что русские об английской литературе судят по тем авторам, которые для литературы этой решительно никакой роли не играют. И Ахматова приводила примеры – один не очень удачный, а другой – удачный чрезвычайно. Неудачный пример – Байрон. Удачный – какой-нибудь там Джеймс Олдридж, который вообще все писал, сидючи в Москве или на Черном море»136.
Свой юношеский опыт чтения поэзии Бродский характеризует так: «Читать стихи я начал рано: Бёрнса в переводах Маршака, Саади, потом почти стандартный набор – естественно, Есенина, Маяковского и т. д.»137. Вслед за этим начинаются и его первые самостоятельные поэтические опыты, и вхождение в круг ленинградских поэтов и литераторов.
Яков Гордин, встреча с которым, по словам самого Бродского, была одним из его первых литературных знакомств, так вспоминает о начинающем Бродском-поэте: «Бешеная попытка прорваться в органичное мировосприятие – не жалобная, а трагедийная <…> и острое желание попробовать все. Первые два-три года в стихах идет раскачивание от Лорки до Незвала, от Слуцкого до Баратынского – притом, что есть группа стихов собственно его, ни на что не похожих, но все равно это бесконечные пробы»138.
Слуцкий упомянут не случайно. В ранней лирике Бродского хорошо чувствуется эхо его стихов, таких, как «Почему люди пьют водку?», «Усталость проходит за воскресенье», «Человечество делится на две команды»139. Вместе с Евгением Рейном Бродский ездил в Москву, чтобы показать Слуцкому свои стихи – и посвятил ему написанное по итогам поездки стихотворение «Лучше всего спалось на Савеловском…». Влияние было сильным, но Бродскому удалось его преодолеть, во многом за счет возвращения к классическим образцам русской поэзии и – на какое-то время – к классическим метру и ритму, которые затем под влиянием польской и английской поэзии трансформируются в моментально узнаваемое и ни на кого не похожее звучание его стиха.
Знакомство со стихами Баратынского становится переломным в отношении Бродского к поэзии. До этого она была лишь частью жизни, такой же примерно, как сезонные геологические экспедиции, в которые он нанимался каждое лето, чтобы заработать немного денег, теперь Бродский понимает, что это должно стать главным делом его жизни. Он так рассказывал об этом Евгению Рейну: «Году в пятьдесят девятом я прилетел в Якутск и прокантовался там две недели, потому что не было погоды. Там же в Якутске, я помню, гуляя по этому страшному городу, зашел в книжный магазин и в нем я надыбал Баратынского – издание «Библиотеки поэта». Читать мне было нечего, и когда я нашел эту книжку и прочел ее, тут-то я все понял: чем надо заниматься. По крайней мере, я очень завелся, так что Евгений Абрамыч как бы во всем виноват»140.
В начале шестидесятых Бродский много пишет и становится известен любителям поэзии в Ленинграде как один из многих молодых поэтов, читающих свои стихи при первой возможности: на квартирах друзей и знакомых, на «турнирах поэтов» и просто на улице. Он участвует в литературных вечерах в ДК им. Горького, во Всесоюзном геологоразведочном институте (ВНИГРИ), на физическом факультете ЛГУ, в других местах. Некоторые его стихотворения приобретают популярность.
Очевидец вспоминает один из таких вечеров: «Ведущий объявил: „Иосиф Бродский!“ Зал сразу зашумел и стало ясно, что этого поэта знают и его выступления ждут. И когда мальчик, только что подходивший ко мне, появился на эстраде, гул затих, наступила тишина. Раздался его голос – он был до того торжествен и громок, что мне сначала показалось, что говорит не он, а голос идет откуда-то из-за сцены <…> Первым Иосиф прочитал стихотворение „Сад“ („О как ты пуст и нем! в осенней полумгле…“). Когда он кончил – мгновенное молчание, а потом – шквал аплодисментов. И крики с мест, показавшие, что стихи его уже хорошо знали: „Одиночество“! „Элегию“! „Пилигримов“! „Пилигримов“!»141
К своим ранним стихам Бродский впоследствии относился очень критически, часто не давал согласия на их переиздание и очень не любил, когда о его поэзии судили только по этим текстам, несмотря на их популярность у массового читателя. Его поэтическая система быстро развивалась, и то раскачивание, о котором пишет Я. А. Гордин, приводило к тому, что на раннем этапе он шел методом проб и ошибок без определенной литературной стратегии. Вскоре, однако, он подошел к тому рубежу, где, по словам Пастернака, «кончается искусство / и дышат почва и судьба». Для того эволюционного скачка, который в 1962–1963 годах привел к формированию новой и оригинальной поэтики Бродского, принципиальны и почва, и судьба. Попробуем взглянуть на них чуть подробнее.
Начнем с судьбы. Бродский был известен не только ровесникам, любящим поэзию. Примерно с двадцати лет он попадает в поле зрения ленинградского КГБ. Причиной этого стали его стихи, появившиеся в одном из номеров самиздатовского литературного альманаха «Синтаксис», составителем которого был Александр Гинзбург. Гинзбург успел выпустить три номера – первые два были посвящены «москвичам», третий, куда вошли пять стихотворений Бродского, – «ленинградцам».
Издание «Синтаксиса» не прошло не замеченное властями. В июле 1960 года сотрудники КГБ произвели обыск в квартире Гинзбурга по подозрению в хранении антисоветской литературы и обнаружили редакционный архив альманаха – как уже вышедшие номера, так и обширные материалы для последующих. По воспоминаниям Гинзбурга чекисты вывезли из его квартиры «полгрузовика» рукописей. Какие же тексты попали им в руки?
Надо сказать, что альманах не был антисоветским142, как не были антисоветскими стихи Бродского, вошедшие в него. Проблема была в том, что назвать их советскими тоже было нельзя. В третий номер «Синтаксиса» вошли пять стихотворений Бродского: «Еврейское кладбище возле Ленинграда», «Мимо ристалищ, капищ…» (те самые «Пилигримы», которых требовала аудитория, остающиеся одним из самых популярных текстов Бродского, несмотря на скорее негативное к нему отношение самого поэта в зрелые годы), «Стихи о принятии мира», «Земля» и «Дойти не томом…».
Осенью 1960 года Бродского первый раз вызывают в КГБ для беседы. Повод – публикация его стихов в «Синтаксисе». Бродский был не единственным допрошенным по этому делу, но сам факт вызова означал, что КГБ заинтересовался им и начал сбор материала. Вскоре положение усугубилось.
В декабре того же 1960 года Бродский едет в Самарканд по приглашению своего приятеля Олега Шахматова. Шахматов был человеком незаурядным, но при этом абсолютно авантюрного склада. Он окончил военную школу пилотов и стал летчиком, но через несколько лет был осужден на год лишения свободы за злостное хулиганство. Освободившись в 1960 году, он неоднократно менял занятия и места проживания. В Самарканде он оказался в поисках некого мифического клада, но к приезду Бродского сокровища так и не нашлись, а деньги кончались.
Через двадцать с лишним лет в беседе с Михаилом Мейлахом Бродский рассказывал: «Некоторое время мы кантовались как бездомные, мотались с места в место, ночевали бог знает где – в каких-то оранжереях, у корейца-художника, который оформлял щиты то ли для Дома связи, то ли для Красной армии… Какой-то абсолютно фантастический эпос! Зима была довольно жуткая, холодная, мы сильно мыкались, и, в конце концов, нам пришло в голову – а почему бы нам просто не перелететь через границу, угнав самолет в Афганистан?»143.
Эта мысль, возникшая в праздном разговоре, как возникают многие юношеские безумные мысли, так никогда и не дошла до реализации. Однако Бродский, пробовавший в шестидесятые писать не только стихи, но и прозу, вернувшись в Ленинград, написал рассказ «Вспаханное поле», в котором герой собирается бежать из страны на самолете, и описаны его переживания в ночь перед побегом144.
Осенью следующего года Шахматова арестовали за незаконное хранение оружия и осудили на два года. Уже в тюрьме он заявил, что хочет дать показания по другим делам (видимо, он хотел смягчить условия содержания), и среди прочего сообщил о плане захвата самолета, в обсуждении которого участвовал Бродский.
29 января Бродского вызывают в ленинградский КГБ, а дома у него производят обыск. Два следующих дня он проводит во внутренней тюрьме КГБ на Шпалерной улице145. Однако дело заканчивается ничем – времена все еще относительно вегетарианские, и КГБ не заводит дело о «мыслепреступлении», выражаясь оруэлловским языком. Однако внимание к Бродскому становится прицельным, а изъятые во время обыска стихи и дневник через год послужат материалом для пасквиля «Окололитературный трутень».
Документы свидетельствуют о том, что наблюдение за поэтом продолжалось. Так, например, в КГБ поступают данные «о встречах Бродского в марте 1962 года со стажером США в Ленинградском университете Ральфом Блюмом, от которого Бродский получил какую-то книгу»146.
Все эти детали важно иметь в виду, поскольку Ахматова считала, что последующие события – суд по обвинению в тунеядстве и ссылка в Архангельскую область – произошли главным образом из-за дружбы Бродского с ней. Сам поэт вспоминал об осени 1963 года: «Мы виделись тогда по два раза в день, это продолжалось всю осень и прекратилось только потому, что меня арестовали. Она чувствовала себя виноватой, так как считала, что меня взяли из-за нашей дружбы. Не думаю, что это так»147. В свете этой реплики Бродского и сказанного выше понятно, что дружба с Ахматовой если и повлияла как-то на выбор Бродского властями в качестве жертвы, то была далеко не главной причиной этого. Как позже шутил сам поэт, «на каждого месье – свое досье», и его досье чекисты начали заполнять еще до встречи с Ахматовой.
Но если эта встреча не сильно повлияла на появление «дела Бродского», то влияние Ахматовой на формирование почвы для его поэтического творчества оказалось очень важным. Однако, прежде чем перейти к истории встречи двух поэтов в августе 1961-го и их последующей дружбы, нужно сказать несколько слов о том, кем – вопреки ждановскому постановлению – была Ахматова для молодежи конца 1950 – начала 1960-х.
Это было время, когда стихи Ахматовой после долгого перерыва снова начали печатать в советских газетах и журналах: «четыре – в 1956, двадцать одно – в 1957, восемнадцать – в 1960, восемь – в 1962, двенадцать – в 1963, двадцать четыре – в 1964, семь – в 1965»148.
В 1961 году вышел сборник стихотворений Ахматовой в серии «Библиотека советской поэзии». И хотя он не давал сколько-нибудь истинного представления о творчестве Ахматовой 1930—1950-х годов, сборник стал знаком ее санкционированного возвращения в мир советской поэзии. Ахматову сново можно печатать, и в оставшиеся пять лет ее жизни стихи стали появляться в литературных журналах, а в 1965 году вышла книга «Бег времени», которая представляла поэзию поздней Ахматовой уже более полно, хотя все равно в урезанном виде.
Для многих молодых людей – и не только поэтов, но инженеров, учителей, врачей, всех, кого интересовала литература – Ахматова стала главным представителем исчезнувшей русской культуры, связующим звеном между застывшей советской современностью и Серебряным веком русской литературы и искусства. А еще – одним из самых ярких представителей культуры, именно петербургской. Корней Чуковский писал: «Архитектура и скульптура ей сродни. Из ее стихов то и дело встают перед нами то „своды Смольного собора“, то „гулкие и крутые мосты“, то „надводные колонны на Неве“ <…> Она и сама в своем творчестве зодчий»149. Многие стремятся встретиться с ней в Ленинграде и Москве, и она всегда открыта для этих встреч. Приведу несколько свидетельств современников, которые помогут понять контекст знакомства Ахматовой и Бродского.
Анатолий Найман пишет: «Я познакомился с Ахматовой осенью 1959-го, мне исполнилось 23 года. Были общие знакомые, повод нашелся. К тому времени я уже несколько лет писал стихи, мне хотелось, чтобы Ахматова услышала их. И мне хотелось, чтобы они ей понравились»150.
Людмила Сергеева, жена поэта и переводчика Андрея Сергеева, ставшего в середине шестидесятых другом Бродского, вспоминает о том, что Сергееву очень хотелось познакомиться с Анной Ахматовой, и, наконец, он получил от Михаила Ардова ее телефон. Она остановилась, как часто делала во время приездов в Москву, в квартире Ардовых на Ордынке. Телефон Ардов продиктовал со словами, что звонить нужно не рано и «Анна Андреевна принимает всех». Было это в 1960 году.
«Когда Анна Андреевна подошла к телефону, Андрей выпалил: „Анна Андреевна, здравствуйте. С вами говорит Андрей Сергеев, я пишу стихи. Мне бы хотелось вам почитать“. Густой, обволакивающий голос Ахматовой, который слышу и я. „Пожалуйста, приходите“. – „Когда?“ – „Сейчас. Только я позову к телефону кого-нибудь из более нормальных людей, они вам объяснят, как добраться“». Они говорили «о самом главном – о силе и ответственности поэтического слова, которое и ведет за собой по жизни»151.
Александр Кушнер вспоминает: «Впервые привела меня к Анне Андреевне Лидия Яковлевна Гинзбург, один из ее давних, еще с конца 20-х годов, и верных друзей. Пришли мы втроем: Лидия Яковлевна, Нина Королева (она тоже шла к Ахматовой впервые) и я. Это было в первых числах марта 1961 года. Ахматова жила на улице Красной Конницы. <…> голос… Вот что запомнилось прочно и навсегда. Глуховатый, ровный. Медленная, отчетливая, не сомневающаяся в себе речь. Так никто не говорил, никогда, нигде. Разговор не вспоминается. Когда дошла до меня очередь читать стихи, я прочел стихотворение „Графин“, а за ним – „Фонтан“. – Изящно, прелестно, очень мило, – эти слова я, разумеется, записал в тот же вечер, вернувшись домой»152.
В начале мая 1961 года знакомятся с Ахматовой Евгений Рейн и Дмитрий Бобышев. Рейн вспоминает о первом визите в квартиру на ул. Красной Конницы в Ленинграде: «Ахматова сидела на узком диванчике, сказала, что неважно себя чувствует, расспросила меня о моих занятиях <…> Перед прощанием Ахматова спросила меня, не могу ли я – и лучше всего с каким-нибудь приятелем – помочь ей упаковать библиотеку. Дело в том, что осенью она должна была переехать в новую квартиру <…> У меня был такой приятель, тоже поэт <…> Дмитрий Бобышев. И через несколько дней вместе с ним я пришел к Ахматовой»153.
Многим из тех, кто стремился встретиться с Ахматовой, смутно осознавая важность этой встречи, ее поэзия была известна в урезанном виде. Натан Готхарт, встретившийся с Ахматовой в Комарово на пару лет позже Бродского (и бывший старше, чем он), вспоминает о том, что ему было известно на момент встречи: «Я первый раз вижу Анну Ахматову. Мне известны самые ранние издания ее стихов, сборник „Из шести книг“, вышедший перед войной, и недавняя книжечка, изданная в 1961 году в серии „Библиотека советской поэзии“, в ней автобиография Ахматовой и, кажется, статья А. Суркова. Знаю ее стихи, напечатанные в последних номерах „Нового мира“, и немного из „Реквиема“, отдельные стихи из него ходят по рукам в машинописи. И очень свежо в памяти постановление ЦК ВКП(б) 1946 года и выступление Жданова»154.
Бродский неоднократно говорил, что когда он впервые ехал к Анне Ахматовой, то не представлял себе человеческого и поэтического масштаба ее личности. Для него, как и для многих молодых читателей его времени, она оставалась автором любовной лирики 1910-х годов, автором «Вечера» и «Чёток».
Тем не менее некоторые стихи, написанные им до знакомства с Ахматовой, перекликаются с ее более поздними текстами. Один из очевидных примеров – поэма Бродского «Гость», написанная в мае 1961 года:
Постойте же. Вдали Литейный мост.
Вы сами видите – он крыльями разводит.
Постойте же. Ко мне приходит гость,
из будущего времени приходит.
Ср.: В «Поэме без героя» Ахматовой:
Гость из будущего! – Неужели
Он придет ко мне в самом деле,
Повернув налево с моста?
Совпадение очевидно. «Гость», судя по датировке, данной самим Бродским Владимиру Марамзину в 1971 году при составлении его первого самиздатовского собрания сочинений155, написан до знакомства с Ахматовой.
Это дало основание ряду исследователей сомневаться в датировке поэмы, однако, кроме указания самого Бродского, есть свидетельства того, что он читал ее весной 1961 года на вечере поэзии на физфаке ЛГУ: «В 1961 году по весне, на физфаке ЛГУ состоялся вечер „Два часа русской поэзии“. Правда, устроители в последний момент спохватились: в программе были – Бродский, Рейн, Найман, Бобышев и Горбовский – и заменили это на „Два часа СОВРЕМЕННОЙ поэзии“ <…>. Так вот, на вечере этом (который проходил днем, часа в 3), Бродский читал „Гостя“, Рейн „Соседа Котова“, Горбовский „Квартиру“, Найман – что-то изящное и кокетливое, а эпатировал – Бобышев»156.
С «Поэмой без героя» автор «Гостя» вполне мог быть знаком – к этому времени по Ленинграду ходили и зарубежная публикация 1959 года в альманахе «Воздушные пути», сделанная без ведома Ахматовой, и списки, исходившие от нее самой.
Бродский впервые приехал к Ахматовой в Комарово в понедельник 7 августа 1961 года. Мы помним, что август играл особую роль в ахматовской судьбе и мифологии. Таким образом, время встречи впоследствии воспринималось как знаковое. Как она писала в стихотворении «Август»:
Он и праведный, и лукавый,
И всех месяцев он страшней:
В каждом августе, Боже правый,
Столько праздников и смертей.
Кстати, последнее стихотворение, которое Бродский отправил редактору своей последней поэтической книги «Пейзаж с наводнением» Александру Сумеркину, тоже называется «Август».
Евгений Рейн вспоминает так о дне, когда он познакомил Бродского с Ахматовой: «Повез его в Комарово я, предварительно договорившись с Ахматовой. Иосиф захватил с собой фотоаппарат. <…> Помнится мне, что фотопленка в этот день была отщелкана целиком, и Иосиф подарил мне потом три или четыре кадрика, снятых тогда. После нескольких общесветских минут нас пригласили пить чай. В этот вечер Иосиф читал стихи, <…> 5 или 6 стихотворений. Я же прочитал только одно, написанное накануне. <…> Спустя долгие годы я стал припоминать дату этого визита. <…> Я вспомнил, что весь путь <…> сопровождался передававшимся репортажем о запуске в космос Германа Титова. А он совершил свой космический рейс 7 августа 1961 г.»157.
В предыдущем столетии «железная дорога изменила все течение, все построение, весь такт нашей прозы», – писал Мандельштам в «Египетской марке». Теперь же первые космические полеты давали ощущение изменившихся масштабов вселенной и возможностей человека. Это ощущение непосредственно отражается в поэзии Бродского, так что отмеченная Рейном деталь поездки очень хорошо встраивается в картину его литературной биографии.
В беседе с Соломоном Волковым Бродский вспоминает, что после этого визита побывал на даче Ахматовой еще несколько раз вместе с Рейном и Найманом, но эти встречи помнит не очень отчетливо, поскольку до определенного момента не придавал им особого значения. «В те первые разы, когда я к ней ездил, мне, в общем, было как-то и не до ее стихов. Я даже и читал-то этого мало. В конце концов, я был нормальный молодой советский человек. „Сероглазый король“ был решительно не для меня, как и „правая рука“, „перчатка с левой руки“ – все эти дела не представлялись мне такими уж большими поэтическими достижениями. Я думал так, пока не наткнулся на другие ее стихи, более поздние»158.
Поворотную точку в своем отношении к Ахматовой он описывал так: «На протяжении двух или трех месяцев впоследствии я продолжал наезжать в Комарово, либо сам, либо с кем-нибудь из моих друзей, и навещал Анну Андреевну. Но это носило характер скорее вылазок за город, нежели общения с великим поэтом. Во время этих встреч я показывал Анне Андреевне свои стихотворения, которые она хвалила, она мне показывала свои. То есть чисто профессиональный поэтический контакт имел место. Это действительно носило скорее характер поверхностный. Пока в один прекрасный день, возвращаясь вечером из Комарово, в переполненном поезде, набитом до отказа – это, видимо, был воскресный вечер. Поезд трясло как обычно, он несся на большой скорости, и вдруг в моем сознании всплыла одна фраза, одна строчка из ахматовских стихов [далее в интервью Бродский поясняет, что это была строчка«Меня, как реку, / суровая эпоха повернула». – Д. А.]. И вдруг в какое-то мгновение, видимо, то, что японцы называют сатори или откровение, я понял, с кем я имею дело. Кого я вижу, к кому я наезжаю в гости раз или два в неделю в Комарово. Вдруг каким-то образом все стало понятным, значительным. То есть произошел некоторый, едва ли не душевный, переворот»159.
Речь идет о «Северных элегиях», которые Бродский неоднократно называл в числе любимых ахматовских стихов, причем слово переворот как бы откликается на само значение строки и на мощный стиховой перенос в ней. Ср. замечание Р. Д. Тименчика о стихотворении Ахматовой в целом и об этой строке: «Оно начинается выразительным стиховым переносом, кажется, наследующим свою семантику из enjambement’ов Баратынского. Возможно, потому поразило оно Иосифа Бродского, поклонявшегося Баратынскому»160.
Что важно, перенос в стихотворении Ахматовой носит иконический характер, то есть прием подчеркивает самой своей формой то, о чем идет речь:
Меня, как реку,
Суровая эпоха повернула.
Мне подменили жизнь. В другое русло,
Мимо другого потекла она,
И я своих не знаю берегов.
Поворот – реки или судьбы поэта – оказывается изображен разрывом поэтической строки. В одной из следующих глав будет показано, как Бродский использует этот прием – не просто стиховой перенос или, как его называют, анжамбман (франц. enjambement), а отображение смыслового уровня на формальный.
Видимо, эта идея поворота явно или скрыто была связана в сознании Бродского с Ахматовой – так, в беседе с Волковым, описывая это прозрение в переполненной пригородной электричке, Бродский не приводит саму строчку, но упоминает поворот: «И только в один прекрасный день, возвращаясь от Ахматовой в набитой битком электричке, я вдруг понял – знаете, вдруг как бы спадает завеса – с кем или, вернее, с чем я имею дело. Я вспомнил то ли ее фразу, то ли поворот головы – и вдруг все стало на свои места»161.
Не могла не произвести впечатления на молодого Бродского и та свобода, с которой Ахматова чувствовала себя в мировой литературе. «Ахматова была человеком чрезвычайно начитанным – она читала по-английски, по-французски, по-немецки, по-итальянски с большой легкостью. Это, возвращаясь к этой фразе, что она нас вырастила, это правда. Я помню, что впервые „Ромео и Джульетту“ по-английски я услышал в ее чтении. Как, впрочем, и куски из „Божественной Комедии“: по-итальянски. В ее чтении»162. Вспомните Мандельштама, заплакавшего при чтении Ахматовой фрагментов «Божественной комедии»: «Нет, ничего, только эти слова и вашим голосом»163.
Ахматова тоже вряд ли поняла по первой встрече, с кем имеет дело. Бродский был одним из многих поэтов, которые приезжали в Комарово. Однако постепенно из этого широкого круга выделилась небольшая группа: четверо молодых поэтов, объединенных отношением к стихам и дружбой, которые ей были особенно близки и от которых она многого ожидала. Анатолий Найман вспоминает: «Ахматова однажды назвала нас „аввакумовцами“ – за нежелание идти ни на какие уступки ради возможности опубликовать стихи и получить признание Союза писателей»164.
Бродский впоследствии говорил, что названия «аввакумовцы» не помнит, в его памяти отложилось другое имя, которое Ахматова дала их группе: «Нас было четверо: Рейн, Найман, Бобышев и я. Анна Андреевна называла нас – „волшебный хор“»165.
Постепенно из этого «волшебного хора» все более выделяется голос Бродского. Ахматова с 1962 года начинает говорить о нем сначала как об одном из самых талантливых молодых поэтов, потом – как о главном поэте поколения. Приведу несколько примеров.
Лидия Чуковская записывает содержание беседы с Ахматовой 28 сентября 1962 года: «Потом о стихах Тарковского, Корнилова, Самойлова, Липкина: „Вот это и будет впоследствии именоваться „русская поэзия шестидесятых годов“. И еще, пожалуй, Бродский. Вы его не знаете“»166. За неделю до этого упомянутый здесь Самойлов отмечает, что Ахматова «хвалит И. Бродского и Наташу Горбаневскую», а через пару дней знакомится с Бродским сам. «Бродский – настоящий талант. Зрелость его для двадцати двух лет поразительна. Читал замечательную поэму „Холмы“. Простодушен и слегка безумен, как и подобает. Во всем его облике, рыжеватом, картавом, косноязычном, дергающемся, – неприспособленность к отлившимся формам общественного существования и предназначенность к страданию. Дай бог ему сохраниться физически, ибо помочь ему, спасти его нельзя»167.
24 марта 1963 года на вопрос посетившего ее в Комарово Натана Готхарта об интересных молодых поэтах Ахматова замечает: «Молодые? Вот Бродский. Он еще не печатается». И вновь в беседе с ним же 16 августа 1963 года: «Иосиф Бродский. Настоящий поэт. Прочитайте его поэму „Исаак и Авраам“»168.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!