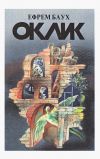Текст книги "Ефремова гора. Исторический роман. Книга 1"

Автор книги: Денис Летуновский
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Ефремова гора
Исторический роман. Книга 1
Денис Летуновский
Редактор Ю. А. Цыганков
Дизайнер обложки Т. Е. Балдина
© Денис Летуновский, 2023
© Т. Е. Балдина, дизайн обложки, 2023
ISBN 978-5-0060-9723-0 (т. 1)
ISBN 978-5-0060-9724-7
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Моим любимым доченькам
КНИГА ПЕРВАЯ
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
В те дни не было царя у Израиля;каждый делал то, что емуказалось справедливым.Книга Судей 17:6
ПРАЗДНИК
глава первая
1
Седой первосвященник – судья израильский с высоким кидаром11
Головной убор иудейского первосвященника наподобие чалмы, изготовлялся из виссона. На переднюю сторону кидара прикреплялась золотая дощечка с надписью: Святыня Господу.
[Закрыть] на голове и мальчик с надетым поверх одежды белым льняным эфодом22
Простой белый льняной эфод (ефод), или эфод бад. Священническое сплошное длинное одеяние с рукавами. В него облачалось все прочее священство в отличие от первосвященника, эфод которого состоял из двух полотнищ дорогой материи, сотканной из золотых нитей, виссона и шерсти.
[Закрыть] сидели у входа в скинию.
– Дядюшка Илий, – произнес мальчик, – ты обещал рассказать мне о праведной Анне и счастливейшем из блаженных Елкане. Все говорят, что Елкана, отец мой, никого так никогда не любил, как любит он Господа и жену свою – Анну. И то, что Феннана, вторая его жена, нелюбимая, но плодоносная, как Лия – старшая жена Иакова, предка нашего, думала, что дети ее будут единственной ниточкой, тянущейся от дома Цуфа, Тоху, Илия, Иерохама и, наконец, Елканы, отца Самуила, который и просит тебя рассказать о праведной Анне и…
– О нет, – перебил Илий, – зачем я взял на воспитание этого ребенка!?
– Мать моя дала обет Господу: если родится мальчик – то есть я, то она отдаст его на все дни жизни его в дар Ему.
– Так что же ты просишь меня заново пересказывать, если ты и сам все знаешь?
– У меня… – покраснел Самуил, – …я уже все забыл…
– Неужели все? – улыбнулся Илий.
– Все, все! – охотно кивал мальчик.
Его коричневые глубокие глаза блестели от летнего солнца, палящего без тени даже маленького облачка. Илий вдруг вспомнил, как утром видел Офни33
«Молодая лягушка», «головастик» (евр.).
[Закрыть] с братом его Финеесом44
«Медные уста», «мавр» (егип.).
[Закрыть], сыновей своих, берущих от жертвы Господу. «Что я могу сделать, если нечестие им слаще воздержания? Что я могу сделать, если я не могу ничего сделать?»
– Что же ты, дядюшка Илий? – спросил Самуил.
Илий будто очнулся от глубокого сна:
– Бог говорил со мной.
– Что же Он сказал? – не отставал ребенок.
– Он сказал: «Послушай Мое молчание и передай его сему отроку, и тогда посетит его мудрость Моя».
Самуил нахмурился:
– Я понял, – сказал он обиженно. – Ты хочешь, чтобы я немного помолчал, я надоедаю тебе своими глупыми детскими вопросами – прости меня, дядюшка Илий, я буду молчать, если на то воля твоя. Но если человек надоел другому человеку, то зачем говорить: «Бог говорил со мною»? Достаточно сказать: «Замолчи».
– Думай, как думаешь, – тихо ответил судья, – но только что Бог действительно говорил со мной.
У Самуила сделались невероятно большие глаза, и все его лицо как-то вытянулось:
– Но слово Господне весьма редко в наши дни, и видения Его не часты!
Илий не отвечал, и Самуил решил, что судья не услышал его:
– Вот, – сказал он с прежней резвостью, – ты снова задремал, дядюшка Илий, неужели тебе мало ночи для сна твоего? Ведь сны праведников коротки…
– Что мне знать о снах праведников, – вздохнул Илий, – когда сердце мое неспокойно за сыновей моих…
2
Первосвященник проводил большую часть своего свободного времени за беседами и нередко спорами с маленьким Самуилом. Когда-то давно он, на этом же самом месте, увидел молодую женщину. Она стояла в скинии, и без труда можно было заметить, как шепчут ее губы. Самого шепота слышно не было. Ее тело покачивалось. Ноги подкашивались, она чуть ли не падала. Создавалось впечатление, будто она голодна, или больна, или…
– Доколе ты будешь пьяною? Вытрезвись от вина твоего и иди вон из храма! – вознегодовал Илий, взяв ее под локти.
– Прости, господин мой! – остановила его Анна. – Я – жена, скорбящая духом. Не пила я ни вина, ни сикеры. Это вино молитвы сделало из тела моего непослушную ослицу. Не думала я, как мне стоять или как кланяться, – в молитве пребывало сердце мое, и доныне пребывает, и будет пребывать, пока хоть кто-нибудь его не услышит!.. – платком закрыла она свое заплаканное лицо.
– И ты прости меня, старика! – обрадовался удивленный таким ответом Илий. – Иди с миром, Бог Израилев исполнит прошение твое и даст тебе все, что ты просила у Него.
Женщина ушла. Скиния обезлюдела. День заканчивался, и приближалось время вечерней жертвы.
Анна поспешила домой, ликуя и представляя, как обрадует она Илиевым (а значит, и Божьим!) благословением своего Елкану. «Что за ночь подарит нам Небо!» – восхищалась она красным закатом.
Рожденные из печной трубы тощие вороны, узкими прорезями глядящие на все, что творится там – под растопыренными пальцами. Сердце стервятника. Хищника. Камни летят в его проклятый веками след.
Вот он – путь, положенный передо мной, вот охраняющая меня рука, вот голос, говорящий из бездны самого гиблого одиночества. Каждый мой вдох наполнен общением. Пока не знаю с кем. Со всем видимым и тем, что до времени не замечаю. С живым и дремлющим: что окружает меня, что непрестанно радуется, без умолку рассказывает. Ах, я помню эти рассказы – с молоком луны и Анны оно щедро полнило поры, пробелы, незанятые пустоты моей чистой, благоухающей, авелевой души.
Я не нарушу ничье спокойствие. Мое тихое присутствие будет для вас благословением. Я буду с вами, пока Бог не благословит вас. В том будет моя вера, мое упование. Жив Господь, не оставляющий Своих детей, ненавидящих друг друга, непокорных, упрямых. Бедных.
Я приду, ты почувствуешь! Я постучусь к тебе изнутри. Я стану разговаривать с тобой твоим сердцем.
Когда-то было такое время, когда меня не было. Я появился тогда, когда начал себя помнить. А до этого – свитки, на тростнике которых лежит пыль. Я провожу по ней пальцем. Остается тонкая линия вечеров, коротавшихся за слушаньем маминых рассказов. Я помню ее молитвы, ее воздевания рук; скучные игры со сверстниками, скорое мое взросление, смену дня и ночи, череду этих нехитрых перемен. Впервые я распознал вечность, глядя на сменяющие друг друга события – неизменные в своей повторяемости. Я замечал, что след, оставленный мной на песке, засечка, сделанная на стволе дерева, обида, высказанная родителям, скоро затягивались, оставляя еле заметное углубление. Легкий нажим. Будто закат – несмелый надрез, шрам, внутри которого болит и светит впустую солнце.
Меня заперли. На этот раз моя комната была светлая, через купол которой можно было смотреть. Я смотрел… Все видел – белое с одним посреди глазом. Он долго спал, после чего вдруг просыпался, вспыхивал (я даже не успевал зажмуриваться), загорался весь, сиял и так уже и смотрел на меня, вздрагивая, моргая, подмигивая, однако зрачок не отводя в сторону. «Я бы так не смог», – думал я перед тем, как уснуть.
Снился глаз; потом их стало несколько; потом еще больше. Они смотрели на меня – по-доброму, по-незлому. Мне радостно было, что рядом есть кто-то. У каждого из них было по шесть позади крыльев, они произносили звуки, пели: «Свят, Свят, Свят…» – звучало как колыбельная. Помню каждое слово. Потом их не стало, и поэтому – думаю, что поэтому – их уже не было слышно. Ни потом, ни теперь…
* * *
– Сестра моя Феннана, где муж наш? Спешу я сообщить ему данное мне благословение Илия!.. «А значит, и Самого Бога!» – хотела добавить Анна, но не решилась.
– Что это за спешка такая, – нахмурилась Феннана, вытирая жирные руки о грязный, пропитанный кухней фартук, – разве ты не меньшая жена в доме Елкановом, чтобы так кричать? Знай свое место! Господь наградил меня за послушание и смирение детьми, что не устают выходить из чрева моего так, что скоро я потеряю им всякий счет. А ты, утроба которой закрыта, постель которой даже и после посещения мужа моего остается холодной и напрасной, вбегаешь с раскрасневшимся лицом и называешь меня сестрой своей, хотя и далека от родства моего… Что тебе надо, идолище бесчувственное? Или мало тебе Елканы, мужа моего, который приходит к тебе, когда я тяжела и не могу принять его?
Феннана напирала, словно загоняя в расставленные силки испуганную лань:
– Благословил ли тебя Илий на смерть твою? Если же нет, то что так радуешься? Или не большей тебе будет радостью сказать: «Вот, к предкам я ухожу, проведя всю свою неплодную жизнь в проклятии Божьем? Ах, зачем я была рождена? Ах, зачем родители мои не умертвили меня в первые дни мои?»
Анну обдало гнилое, зловонное дыхание. Пот и скрежет, нечесаные сальные волосы, выставленные шипы, когти, слизкая чешуя.
– Что же ты стоишь, никчемная, – причмокнула Феннана, – или выгнать тебя из дома Елканова, как гиену, которая не знает ни приюта своего, ни угла своего, ни родных своих, ни бога своего? Или разбить тебя, как пустой глиняный горшок без дна, в который лить можно день и ночь – все одно, все в песок. И за что только мой муж любит тебя, а меня нет? Ведь он жив в потомках своих благодаря мне!
Феннана с каким-то присвистыванием и вдруг вырвавшимся стоном тяжело и грузно зевнула:
– Шлюшка! С тобой он только развлекается! Ничего, пусть, недолго мне еще терпеть: изживу, сама уйдешь – псина из рода песьего. Ну!? – чего дрожишь?
Анна, задавленная, униженная, прижалась к стене, но, не пропуская огромный ком в свое маленькое горло, чуть всхлипывая, проговорила: «У меня будет сын», – и выбежала во двор, не подумав о том, услышала ее Феннана или нет.
Конечно же, Феннана ее услышала! Но не только услышала. Феннана почувствовала, что то, что сказала ей Анна, – это хотя и тихая, с трудом высказанная, сдавленная, почти немая, но – правда!
Выбежав во двор, Анна еле различала окружающее ее. Вот дом, вот место, с которого открывается прекрасный вид – с одной из самых больших высот Ефремовой горы; вот дети Феннаны – обступили ее (любимую, но несчастную жену), держа ее за руки, подводя к колодцу.
Поднялся хамсин55
Пустынный ветер.
[Закрыть]. Продыху от него нет! В каждой щели песок. Такой мелкий – пыль. «Из праха вышел, в прах и вернешься». Родные мои, кто вы? Почему вспомнили обо мне именно теперь? Сколько же вас! Кру́житесь над головой, ложитесь под ноги. Иду не видя, не замечая. Все вы тут: от самого первого крика человеческого. Как бы мне хотелось услышать этот крик! Нет ничего более желанного – продолжить вас. Знаю, рождаются мертвые: пройдет жизнь, высыпется песок весь без остатка, и нет нас. Где мы? Куда мы? – к вам! Стелиться под подошвы вновь пришедших, которые, как и мы, будут жить.
Взметайте, пойте пронзительным свистом! Пусть говорят, что, мол, снова Яхве послал непогоду – «по грехам, – говорить будут, – нашим». Но знайте, есть те, кто видит вас, кто чувствует ваше присутствие. Как нераздельная череда – шествуем спина в спину, держась за руки. И никто не посмеет прервать эту животворящую цепь. Из праха восстанут новые, ступающие по нашим следам.
Как жду я того момента, когда смогу заглянуть в глаза моему сыну! Как жду я того часа, когда скажу Елкане: «Вот, муж мой, это твой сын». «Са-му-ил…» – что-то сказало вокруг, что-то произнесло. Кто-то? Этот голос! Я где-то уже слышала его – такой знакомый, такой близкий. Даже голос матери можно забыть – не вспомнить, но этот! «Са-му-ил…» Снова раздалось одновременно далеко и настолько рядом, что будто изнутри – из того нутра, откуда только и может доноситься такой голос. Я не знаю ничего о потаенной стороне моей луны. «Анна, луна моя!» – говорит Елкана. «Но, – заплетаюсь я, от трепета не могу выговорить, – луна далеко, а Анна твоя здесь, в твоих руках…» «Анна, – будто в каком-то забытьи повторяет он, – жена моя, – не перестают шуметь финиковые пальмы, ручей тонкого Иордана льется, забирая дыхание, кружа голову, перетекая в конечности и наконец выплескиваясь наружу – внутрь, до самой моей глубины – там, где рождается нежность, успокоение, продолжение. – Анна, – слышу в его голосе, – луна моя! Анна…»
– Анна, Анна, лучше ли тебе, Анна, очнись же, Анна, жена моя! Елкана стоит рядом с тобой, Елкана, муж твой. Вот так, вот, приподними голову. Я помогу.
– Что со мной?
– Не разговаривай, тебе стало плохо, и ты упала в обморок. Как же ты напугала меня, Анна, любимая моя жена…
– Я хотела сказать тебе…
– Молчи, молчи, потом скажешь. Конечно, скажешь, только молчи, теперь молчи – потом…
Елкана смотрел на бледные, почти белые губы своей жены и шептал: «Сохранил Ты мне ее, Господи, сохрани и веру мою: я стар, она неплодна, но есть ли что невозможное для Тебя?..».
Весь день Елкана был не в себе. Переходил из комнаты в комнату, ворчал на рабов, не ел и не пил, а на Феннану раз так посмотрел, что та скрылась у себя в кухне и долгое время не показывалась.
«Время. Оно старит нас, делая немощными. Оно пролетает мимо, и свист его крыльев оглушает. Куда скрыться от него, куда спрятаться? Но не в побеге – в Боге свобода! Он не оставит нас, в немощи своей уповающих на Него. Однажды Он явит Себя, откроется носящим имя Его на руке и повязывающим его на лоб. Господь мой и Бог мой…» – Елкана смотрел на весенние плоды молодого тишрея66
Осенний месяц еврейского календаря. Приходится примерно на сентябрь-октябрь.
[Закрыть], молчал: за всю его тревожную и несладкую жизнь вокруг его глаз накопилось столько морщин, а на голове его было столько седых волос, что ему, как никому другому, было о чем молчать.
«Финики цветут. Благодарю Тебя, Господь, Бог мой, что Ты даешь нам воду и добрый урожай. Сделай же милость, пошли благодать и жене моей, Анне, которую Ты дал мне, чтобы она расцвела, как только могут расцветать финиковые сады! Мальчика, Господи, отдам Тебе во служение, а девочку воспитывать буду в законе Твоем. И не будет Тебе по всей земле во все дни ее больше благодарности, чем от духа Елканова. Вот я, Господи, и вот жена моя пред лицом Твоим».
В свое время по молитве Иисуса, сына Навина, солнце остановилось. Теперь оно восполнило самое себя, стремительно догнав недостающее время. Прошло, как и не было. И не вернешь. Сиван77
Весенний месяц, приблизительно май-июнь.
[Закрыть] освежил жаждущую землю поздними дождями.
Впереди томительная, съедающая все на своем пути засуха, бесконечная, а после – долгий сезон дождей. Но что это по сравнению с мимолетной жизнью, за которой скрыты бездны бездн, как облака, за которыми не видно Бога.
– Пой, Анна, пой, жена моя, у тебя родился сын!
Назорей88
Назир – «посвященный Богу» (ивр.). Человек, принявший на себя обет воздерживаться от употребления вина (и даже винограда), не стричь волос и не прикасаться к умершим (Чис. 6:1—21). Обет мог приниматься на определенное время или навсегда.
[Закрыть] от первых дней своих,
Назорей Самуил!
Это чудо – помни, помни,
Святый Илий предсказал,
Жив Господь! – воспой, Израиль —
Рама99
Нагорный приграничный город колена Ефремова. В этом городе родился, жил и был погребен святой пророк Самуил. Иначе этот город называется Рамафа или Рамафаим: «двоякое возвышение» или «две высоты», также – Рамафаим-Цофим.
[Закрыть], пой и веселись!
Елкана вышел из шатра. Ему хотелось со всем миром поделиться вестью, чудом. «Вот оно – начало нового! Теперь готов я душу Тебе отдать – с благодарностью, с упокоением. Мой сын – назорей – станет вместо меня прославлять имя Твое».
– Э-э-эй, соседи! Исаак, Лия – возрадуйтесь вместе со мной, воздайте славу Тому, Кто силен оживить, восставить из мертвых, Кто вдохнул душу живую в бесплодное чрево. Радуйтесь, люди! Есть теперь заступник у рода Елканова: Самуил от первых дней своих посвящен Господу…
Елкана, как мог, бежал по улочкам и переулкам Рамы, стучал в двери знакомых и незнакомых ему домов, обнимал прохожих.
– Услышьте и передайте всем, кого встретите, – жив Господь! Жив Господь, не оставляющий в скорби молящихся Ему и уповающих на милость Его! Полуденные тени —
Качают ветку абрикоса,
В ладье просторной колыбели
Качает Самуила Анна.
Прохожие оглядывались: кто улыбался вслед пританцовывавшему старику, кто с равнодушием, а от некоторых и вообще доносилось: «Совсем с ума посходили! Бог забыл о нас: вот уже сколько поколений мы не слышим и не видим Его. Какой толк в нашей избранности, когда наши дети умирают от голода? А тех, кто не умер в детстве, убивают на полях сражений. Люди не доживают до почтенных лет. Ты, Елкана… посмотри на себя – ну куда тебе сына?».
Многие начинали смеяться, и волны смеха переходили из улицы в улицу.
– Анна, жена твоя, сына-то нагуляла, видать, а теперь говорит, будто от тебя. Камнями побить их – обоих!
– Нет, нет, посмотрите на мускулы нашего уважаемого Елканы, – люди давились от сотрясавшего их хохота, – он же силен как лев, высокороден как ливанский кедр…
– И мудр, как дикий осел! – хватались за животы те, кто, будто городской пожар, переняли разошедшуюся по городу новость.
– Сильнее рога́ поддерживай – отвалятся!..
– Ничего, еще пято́к карапузов выдержат!..
– Передай женушке, чтобы она хорошо за тобой ухаживала, потому что после того, как плитой накроешься, ей прикрываться будет уже нечем!..
Все более замедляя шаг, Елкана остановился. Сел прямо на дорогу, прислонился к торговой лавке, отдышался, перестал прислушиваться к настигавшим слух обидным, пустым выкрикам. Седые длинные волосы касались плеч. Когда-то они были чернее щетки Урии-трубочиста. Теперь их цвет напоминал хранящуюся в ковчеге манну, кости давно умершего человека.
– Как голос матери скоро услышу я зов шеола. К чему эти сплетни? Разве я заслужил нечестие и позор? Разве Анна не любимая моя жена и разве я сам не знаю, что Бог даровал нам сына? Пусть болтают. Когда увидят святость Самуила, тогда, может, растают и их железные комья, которые они по привычке еще называют своими сердцами.
Елкана обхватил голову руками: на пальцах виднелись толстые от напряжения синие прожилки – пересекаясь, волнами налегая одна на одну, они обрывались на запястьях, откуда начинались длинные рукава потертого, заношенного хитона.
– Бедные, бедные люди!.. – вслух молился старик.
Но вскоре большинство жителей Рамы признало в детях Анны благословение Божье. Начали вспоминать о закрытом лоне праматерей Сарры и Ревекки. Говорили об особом провидении, которое приготовил Всевышний терпящим и любящим Его и друг друга. Уже не упоминали мелких сплетен, которые поначалу составляли главную тему разговоров на рынке и у городских ворот.
Не случайно было сказано о «детях» Анны, ибо, кроме Самуила, в скором времени у нее родились еще три сына и две дочери.
Стоит еще упомянуть, что главным распространителем гнусных слухов была… Феннана. Теперь она просто сгорала от бессилия что-либо предпринять, от желчи, от душившей ее зависти. Ее местом в доме стала кухня. Всю злость свою она вымещала на рабах и на своих детях. Пробовала пересаливать или недожаривать пищу, но все было напрасно: ее просто перестали замечать – и в первую очередь Елкана. Имя Феннаны вообще не произносилось. Ее шаги постепенно превратились в нахохленное шорканье, ее голос – в тяжелое, с одышкой, хрипение. Волосы ее начали заметно выпадать. Она не в меру осунулась, сгорбилась, иерихонским дубовым листом медленно усыхая.
* * *
Вздрагивающий свет – полумрак – мерцающей лампы то открывал, то вновь прятал заплаканное, встревоженное лицо Анны:
– …Пережить еще один день, ночь – до следующей субботы, до новолуния. Осталось всего несколько мгновений! А потом – нас разделят навсегда… Кувшин, чтобы разделить, надо сломать. Два расколотых черепка зачерпнут ли когда воду или станут пригодными лишь для месива новой бесформенной массы? Глина! Ну и пусть она никогда не возрадуется, зато ничто ей не причинит боли. Зачем Ты вдохнул в эту глину живую душу! Зачем не остались мы пустыми жбанами, зачем Ты не идол, а Бог живой!? Идол создал бы нас истуканами… Всевышний! – вино молитвы наполнило сердце Анны. – Все люди Твои. Нужно ли отдавать то, что и так принадлежит Тебе? Это мой первенец, данный мне милостью Твоей по молитве Илия, позволь же еще немного побыть с моим Самуилом1010
Самуил (שׁמוּאֵל) – «услышанный Господом».
[Закрыть]! Обет принесен, да… но сердце матери во мне говорит иное, противное данным обещаниям. Смилуйся надо мной, это невыносимо! Я страдала, когда чрево мое было закрыто от Твоего благословения, но теперь мои страдания умножились: мне нужно расстаться с даром Твоим. Какие другие утешения заменят эту утрату? Что осталось мне – мечтать о каждой будущей встрече? Мучаться от мысли, а не было ли предыдущее свидание последним? Я – мать, и сейчас я нужна ему больше, чем престарелый священник! Оставь его мне, хотя бы до времени, когда он сам способен будет выбирать. Молю Тебя…
Анна была одна в небольшой комнате. Как и тогда, в скинии, говорили не уста ее, но вопияло сердце. Доносились слова упреков, прошений, надежды… От остальной хижины ее отделяли низкие, не достающие до потолков, из высушенных на солнце глиняных кирпичей стены. Анна слышала из соседней комнаты голос маленького Самуила. Все больше отвлекалась она от молитвы, все больше прислушивалась к молочному лепету малыша. По нескольку раз выпрашивала она одно и то же; думала лишь о том, как успокоить дитя, чем занять его, не голоден ли он, не холодно или не жарко ли ему. Она вышла. Перед ней стоял мальчик лет четырех. Своими карими глазами он был обязан матери, а отцовские черты угадывались с трудом.
Анна поцеловала мальчика в лоб и стала складывать вещи.
– Мама, куда ты меня собираешь? Ты же прекрасно знаешь, что я такое не буду носить! – Самуил показал на сшитый Анной белый эфод.
– Ты слишком разговорчив для твоих четырех лет, а вот маму ты уже научился обижать.
– Прости меня, пожалуйста, но мы жили, жили, и вот ты меня куда-то собираешь и шьешь для меня очень красивую одежду, которую я жду, не дождусь, когда буду носить.
– Подлиза.
– А ты мне ничего не рассказываешь!
– Удивляюсь, как это столько слов поместилось в твою маленькую головку.
– Да, я еще маленький, но у меня такие умные родители… – Анна что-то хотела сказать, но Самуил перебил ее на полуслове. – И совсем я не подлиза, просто я тебя очень сильно люблю, только мне все равно непонятно – зачем ты собираешь…
– Моей нетерпеливой крошке хочется знать все заранее, – сказала Анна, будто пропела колыбельную. – Смотри, сынок, не торопи события, они сами настигнут тебя…
Облака плыли со стороны Силома. При слове «дождь» любое сердце способно смягчиться, тем более материнское – и без осадков теплое, мягкое.
– Хорошо… – сказала Анна.
– Я тебя внимательно слушаю! – приготовился Самуил.
– С тобой невозможно разговаривать. Все дети как дети – плачут, учатся говорить и едва ходят…
– Ты так хочешь, чтобы я был как все?
– Нет, сынок, нет, просто мне кажется, что я разговариваю со взрослым человеком, понимаешь?.. – Самуил (улыбнувшись про себя) утвердительно закивал. – Это очень давняя история… Когда тебя еще совсем не было, я обещала нашему Господу…
– Я знаю, мама, ты обещала Ему меня. И вот я подрос и совсем уже не буду скучать по своим родителям, и ты собираешь меня в скинию. Скоро вы поведете меня в Силом, чтобы оставить там у священника Илия, – я знаю… Прости, мама, я проговорился.
Анна смеялась. Она не могла себя остановить:
– Негодный мальчишка, ты и сам все знал!
Самуил сидел, укоряя себя за свою болтливость.
Уже к вечеру не было ни одного жителя Рамы, кто бы не слышал о том, что произошло в доме Елканы. Отцы восхищались умом и такой болтливостью ребенка, матери смеялись, потому что смеялись по любому поводу, даже если это было совсем и не смешно, а дети – сверстники Самуила – ничего не понимали: праздно кричали и плакали.
Наконец наступил День. День, которого ждали все, и День, которого Анна начинала бояться:
– Я не отдам его! Ради чего? Да, у меня родился сын, но зачем, кому нужны такие жертвы? Его никто не спросит, только я буду в ответе.
Она вспоминала Ревекку, взявшую на себя возможное проклятие Иакова.
– …Мать отдала своего сына…
При этом она качала головой, как бы говоря: «Нет, нет…» – и тихо, неслышно даже для самой себя, начинала петь:
Сомкну ли глаза,
Увижу ли Свет вечерний?
Ни память, ни в поле роса…
Анна покрывала голову шерстяным платком:
– «Ни память, ни в поле роса…» Благословен Ты, Господи Боже наш, Владыка вселенной…
Елкана держал на привязи трех белых тельцов. Подле него стоял небольшой кувшин с ефой1111
Мера сыпучих и жидких веществ, равная примерно 24 литрам.
[Закрыть] пшеничной муки и целый мех молодого вина. Анна замерла позади мужа. Самуил прятался за спиной матери. Семейство пришло совершить ежегодную жертву и исполнить данные обеты.
Илию вдруг показалось, что, помимо него и сыновей, во дворе скинии был еще кто-то:
– Показалось… – прошептал он. – Утро создано для того, чтобы священник мог, ступая по Гедеоновой росе, слушать Небо. И даже если он ничего не услышит – молиться за души, что ночью улетали в обители ангельские, а утром возвращались – пройдя пустыни и взяв Иерихон – назад в свой сонный, мешковатый и всегда не выспавшийся Египет1212
Согласно еврейским верованиям, во время сна душа покидает тело и восходит на небо, где она черпает новые силы или оказывается во власти сил зла.
[Закрыть]. Кому вздумается (он хотел сказать: «Кому хватит благочестия») в наше-то время прийти к утренней жертве?
Илий обернулся.
– Неужели в Израиле остались благочестивые люди, которые пришли к жертвеннику вознести такую… – он оглядел тельцов, глиняный кувшин и мех из добротной, новой овечьей шерсти, – такую богатую жертву?
– О, господин мой, – Анна подошла к старцу, – да живет душа твоя, господин мой! Я – та самая женщина, которая здесь – при тебе – стояла, молясь Господу. О сем дитяти молилась я, и исполнил мне Господь прошение мое, чего я просила у Него! Вот муж мой, и вот я, и вот сын наш Самуил. Он уже в том возрасте, чтобы я смогла исполнить обещание свое, данное Господу: я отдаю его, – она показала на мальчика, – в скинию на служение Богу. Пусть будет он праведным назореем от начала дней его и до конца. Пусть он не стрижет волос своих, не пьет вина и сикеры. Всем сердцем пусть служит Богу отцов наших, всей силой своей, всей крепостью. На все дни жизни отдаю сына моего. На все… дни… жизни… сына моего… – Анна подавила в себе подступивший ком, – отдаю…
Самуил стоял и думал: «О чем она чуть не плачет? Разве обо мне? Разве я причинил ей столько горя?».
Анна укоряла себя: «Надо было спрятать его! Как Моисея, в корзинке пустить по воде. Я виновата в затворе моего сына. Я добровольно отдаю, оставляю мое Благословение… Дай же мне скорее замуровать тебя. Здесь, в этих стенах. У самого жертвенника заковать в кандалы обетов и послушаний. Сын мой, рожденный мною, у тебя больше нет матери, отныне только Отец, Бог Авраама, Исаака и Иакова, будет заботиться о тебе, петь тебе грустные колыбельные». Анна говорила, но ее тут же перебивал другой изнутри голос:
«Как могла я не исполнить обет? Ради себя? Ведь не о Самуиле плачет сердце матери, ведь даже не сердце плачет, но жалость: неплодное чрево вместило душу живую!.. Господь усмотрел, и Ему спрашивать. О чудо! – материнство, причина всех причин, красная нить поколений… Анна, Анна – не лук ли сильных преломляется, а немощные препоясываются силой? Даже бесплодная рождает семь раз, а многочадная изнемогает. Господь умерщвляет и оживляет, низводит в преисподнюю и возводит, делает нищим и обогащает, унижает и возвышает».
– Мир и благоволение дому твоему, – Илий поклонился Елкане, Анне, – подойди ближе, Самуил.
Священник чуть присел, протянул руки. Самуил подошел.
– Не бойся, ты ко всему привыкнешь. Можешь называть меня «дядюшка Илий».
Он гладил мальчика по голове. Как же ему – священнику Бога живого – недоставало детского голоса, тепла! Человека, присутствие которого скрасило бы его одинокое служение и заставило забыть или исправить (на это еще оставалась надежда) примером своим и примером этого чистого существа беззаконие сыновей.
Вскоре родители Самуила, уже навсегда оставив его, пустились в обратный путь.
Дорога усыпляет. Маслины справа, финики позади. И через два дня поворотов и перевалов маслины справа… Заезженная мелодия, знакомая с самых первых походов в святой Силом. В Раме – дом, где ничего не осталось. Куда возвращаться? Дом – не в городе, не на углу улицы, не в пустых комнатах, гулких коридорах и мертвых камнях. «Одно за другим: с ветреной легкостью забываю вчерашний день. Ничто не тяготит меня, не заботит. Родить и снова родить других, похожих на него. Оставить память в народе. В крови ли память? Самуил моя кровь, но жизнь – дух! – вдохнула в него не я! Чей он сын? Елкана заботится об оставленных в доме рабах, о скоте, пастбищах. „Бог благословил, – думает он, – мою семью. Анна станет плодовитой не меньше Феннаны. Совсем скоро в счастье она забудет скорбь“. Иногда я ненавижу его, иногда он мне безразличен. Я называю его „мой господин, мой муж“. Что стои́т за произносимыми словами – другие ли слова или сопутствующее им в конце молчание? Достаточно немного, совсем малость молчания, чтобы высказать много больше, чем за целые годы болтовни, сложенной в пустое».
* * *
Силом одной стороной своих стен утопал в безмолвии Иудейской пустыни, а другой насыщался неимоверной для центральных земель Израиля голубизной, чистотой, прохладой и близкими оазисами струящегося неподалеку полноводного – после весенних дождей – Иордана. Отсюда виден был древний Иерихон с его скалистыми окрестностями и зелеными равнинами. Именно здесь была установлена скиния, принесенная вместе с ковчегом завета из Синайской пустыни.
Прямоугольный шатер, покрытый красной кожей. Древесина акации. Золотые застежки, крючки, серебряные петли, нити, драгоценные камни…
Входивший в скинию видел две неравные части, разделенные занавесью из пурпурных покрывал, чашу для омовений, лежащую на спинах семи золотых тельцов, семиствольный, горящий золотом, огромный светильник и алтарь из двенадцати необтесанных камней для возношения жертв и благовонных курений. В глубине другого отгороженного пространства, гораздо меньше первого, – во Святом-святых – покоилась величайшая святыня Израиля, его защита, милость и наказание. Один раз в год Илий входил туда и жертвенной кровью кропил со всех сторон крышку обшитого золотом ковчега.
– Да будет благословенно, да возвеличится и прославится внушающее трепет великое имя Всевышнего! – Бормотал судья в свою сбившуюся бороду, глядя поверх жертвенника. Позади него стояли его сыновья, громко зевая, переминаясь, прыская со смеху. «Уж лучше оставаться одному, чем с такими помощниками…» – сокрушался первосвященник, вслух робко произнося: «Да освятится и да прославится великое имя Твое в мире, созданном по слову Твоему…».
– Да наступит Царство Его, – говорил он, – как можно скорее, да будет оно еще при жизни нашей явлено всему народу Израиля…
Верил ли он в то, что говорили его уста? Думал ли он, о чем он просил?!.
Финеес заметил, что край отцовского эфода надорвался, и если всмотреться, то можно увидеть сухие, слабые ноги старика. Внезапный смех парализовал полусонного Илия.
– Смотри, старший брат мой Офни, неужели покров священника Господнего прохудился настолько, что виден весь его стыд? – гоготал противным (как это бывает у всех подростков) баском Финеес.
– Да, – поддержал его Офни, – отец наш приходит к своему жертвеннику как к девке. Я слышал, что богиня Астарта любит обнаженные тела.
– И вправду, отец, – перебил Финеес, – может, твоему Богу понравились оргии Молоха или Ваала?
– Но, брат мой, здесь, кроме нас троих, никого нет. Значит, брат, мы это будем делать втроем? А если Богу Авраама, Исаака и Иакова, Богу богов, Который вывел нас из Египта… – Офни надрывался от смеха, – …если Ему понравится, то Он сойдет во всей Своей славе и тоже будет среди нас.
– То-то мы повеселимся, а когда Ему надоест с людьми, то мы, отец, мигом принесем Ему золотых терафимов1313
Домашние идолы.
[Закрыть]. Ведь написано, отец: «Да не будешь ты в унынии». Ну, что ты стоишь? Ты только скажи, мы все сделаем.