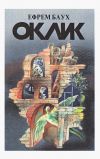Текст книги "Ефремова гора. Исторический роман. Книга 1"

Автор книги: Денис Летуновский
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Он замешкался:
– А вдруг мне снова почудилось? Или теперь это действительно был голос Илия…
Самуил не знал, на чем остановиться.
– Он мой учитель, – наконец сказал мальчик. – Пойду снова к нему и спрошу, звал ли он меня. Если он и на этот раз… нет, я не стану его будить, просто окликну. Ответит – спрошу, а нет – так буду знать наверняка, что не он.
Самуил подошел к священническим покоям, немного постоял. «А если не он, то кто же?..» – подумал. Вошел.
В комнате горела большая лампа. Самуил не ожидал увидеть свет и с непривычки сильно зажмурился. На минуту ослеп, ладонями стал растирать ужаленные глаза.
Илий не спал, ходил по комнате, когда же вошел Самуил и закрыл руками лицо, вплотную приблизился к нему:
– Я знал, что ты придешь. Я не мог уснуть, ждал тебя.
Илий говорил скоро – как человек, которому нужно сказать что-то важное тому, кто в настоящий момент очень и очень далеко: ходит из угла в угол, выглядывает на улицу и вот, в противоречие всякой ожидаемости, перед ним стоит тот, кого он так ждал.
– Это ты хорошо сделал, что вернулся. Видишь, ты меня совсем не разбудил – ты вышел от меня, и я с того времени даже не вздремнул, все ждал тебя. А сам к тебе не решился идти. «Вот, – думал я, – приду, а больше-то его никто и не звал – спит себе». Понимаешь? – Илий усадил Самуила на край постели и сам сел рядом: – А если ты пришел, значит, не просто так. Слышал, значит, снова мой голос?
– Да… – заговорил было Самуил, но Илий его перебил.
– Так вот, мальчик мой, – первосвященник в спешке глотал слова, – в наше время не часты видения Господа, а слово Его и того реже. Вот я и стал забывать, нет, не забывать… надеяться перестал, что Бог вновь станет говорить с кем-нибудь из Своего народа.
– Ты думаешь, со мной говорил Бог? – спросил Самуил, хотя и сам хотел спросить Илия, не Бога ли то был голос.
– Не думаю, а утверждаю: с тобой говорил Господь! Он говорил к тебе моим голосом, чтобы не испугать и не повредить души твоей. Чтобы ты послушал, так как Его голоса ты еще не знаешь.
– Что же мне ответить Ему, если Он снова заговорит со мной? – Самуилу уже не терпелось вновь услышать этот ничему не подобный… «На голос Илия, – сказал в себе мальчик, – он совсем не похож».
– Голос, – с жаром объяснял Илий, – который ты слышал, не похож ни на что. – Самуил незаметно, про себя, улыбнулся. – Если Он и в другой раз призовет тебя, отвечай Ему так…
Илий задумался, а когда стал продолжать, то говорил Самуилу не просто слова, но передавал ему сокровенную тайну, постичь которую дается не каждому. Он перешел на шепот, чтобы никто, кроме отрока, не смог его слышать.
– Пойди назад ко Святому-святых, – сказал Илий, – и ляг на свое обычное место, и когда Зовущий позовет тебя, ты скажи: «Говори, Господи, ибо внемлет Тебе раб Твой».
Первосвященник замолчал, а Самуил мысленно проговаривал сказанное его учителем. Потом поднялся с постели, поклонился Илию.
Через минуту он переступил порог, лег на тонкой своей циновке и стал ждать.
«Слово Господне редко во дни наши…» – сотни раз эта фраза слетала с уст первосвященника. Самуил не понимал, спрашивая его, почему Бог перестал говорить со Своим народом. «Как же мы еще живем, если никто не может сообщить нам волю Господа?» – спрашивал он старца. В ответ Илий только качал головой, говоря: «Ты совсем юный, но дух твой полон мудрости, ибо смотришь в самую сердцевину. Что сказать тебе? Не зная воли Господней, народ соблазняется Ваал-Зевулом, Астартой и прочим нечестием. А не слышим мы слово Божье оттого, что перестали ходить путями Его. И чем дальше, тем все более в этом лабиринте вырастает новых стен. Кому под силу будет сломать новый Иерихон? Кто обратит сбившихся с тропы? Ночь мы давно называем днем, а пороки наши почитаем за „обретенную“ свободу. Указываем на тлеющий уголь, называя его ярким солнцем… Но это до тех пор, пока свет от лица Всевышнего не станет ярким и свет лучины в доме нашем не покажется нам слабым мерцанием. Тогда Израиль выбросит назад в печь тлеющий уголь, ибо поймет и увидит, где истинный свет, а где лишь слабое, свет напоминающее мерцание».
Так говорил Илий, а мальчик мечтал только о том, чтобы своими глазами когда-нибудь увидеть того, к кому обращено будет слово Господа. «Через него, – мечтал Самуил, – Израиль снова услышит волю своего Бога, Который защитит нас от филистимлян, неурожаев и засухи. И тогда земли, покрытые мертвым песком, как и в прежние времена, наполнятся до краев медом и молоком».
Самуил проснулся. Долго лежал, не вставая. Ему становилось страшно от одной только мысли, что все открытое ночью Богом ему придется пересказать Илию. «Господи, – сказал он, – почему я? Почему из среды сильных Ты избрал слабейшего?» Наконец он поднялся, отворил двери дома Господня и… Навстречу ему шел Илий.
– Самуил, – позвал он, – мальчик мой!
– Вот я! – нерешительно ответил тот.
Илий заметил смущение в лице отрока, а посему сказал:
– Ты хочешь скрыть от меня волю Всевышнего, – Самуил потупил глаза, – но знай: к тебе говорил Владыка всего сущего! Ни сейчас, ни впредь, какой бы опасности ни подвергалась твоя жизнь, ты не должен скрывать и малейшего из переданного тебе. Запомни это! Господь избрал тебя в Свои пророки не для того, чтобы ты прятал взгляд. Не ты – Бог говорит через тебя! А если не послушаешь моего слова, то будет имя твое проклято навек, ибо больше, нежели не слышащих, Господь наказывает слышащих, но не исполняющих волю Его.
Самуил поднял голову и, глядя прямо в лицо Илия, сказал:
– Пришел ко мне Господь, и стал, и воззвал: «Самуил, Самуил!». Тогда сказал я, как ты научил меня: «Говори, Господи, ибо слышит раб Твой». И сказал Господь: «Вот, Я сделаю дело в Израиле, о котором кто услышит, у того зазвенит в обоих ушах, – Самуил говорил просто, не запинаясь, твердо. – В тот день Я исполню над Илием все то, что Я говорил о доме его через пророка Моего: Я начну и окончу. Накажу дом его за ту вину, в которой он не оправдан: знал, как сыновья его нечествуют, и не обуздывал их. И посему клянусь дому Илия, что вина его не загладится ни жертвами, ни хлебными приношениями вовек».
Самуил перестал говорить, а Илий, словно ожидая сказанного, ответил: «Он – Господь, что Ему угодно, то пусть сотворит».
* * *
И возрастал Самуил, и Господь пребывал с ним во все дни жизни его, и он, слыша слова Господни, передавал их всем, кто не слышал. И узнал тогда весь Израиль от малого до самого большого колена, от северных до южных пределов его, что слово Господа открыто не умудренным годами, а отроку. В те дни говорили в Израиле: «Если захочет Бог, Он и младенцу откроется».
И продолжал Господь являться Самуилу в Силоме при скинии. И был Дух Господень на отроке, и он не возносил главы своей. Любил приношения Богу и милостив был к приносителям. И любили Самуила за его скромный, отзывчивый нрав, а Елкану с Анной почитали за счастливейших родителей, ибо их сын стал благословением для всего дома их.
ЭКРОН. КИР'АНИФ. ПОХОД
Глава четвертая
Стены рыдают от горя слезами,
застлавшими древние камни,
Стонут пески, плодородные земли,
колодцы, ливанские кедры.
Время стоит в стороне, взирая на молодость павших,
Лица которых оставлены видеть
доспехи вечернего солнца.
Стань посреди холмистого поля, полного зноем, болью,
Криком вороньим – грубым,
молчанием долгим, тошным.
Прикосновенье железа помнят земли, почившие —
пылью, ставшие прахом,
Вражеским потом: мечами распаханы,
словно волами, плугом.
День ли субботний, проказа, безлюдное место
вдали от детского смеха?
Души ли воинов смотрят на теплые раны,
страданий не зная?
Кто призовет любимую Симху,
лозу́ виноградную – Лию,
Кто приподнимется, встанет, услышав небо,
моления предков?
Сонмом вчерашних юнцов-хлебопашцев
при Авен-Езере,
Робко прячась за медные латы, спины,
как есть – вслепую,
Переходя от города к городу, струнами бряцал
священной псалтири,
Стрелы пуская, чьи наконечники родом
из кузниц Галгала,
Морем, соленым ветром брошенный
тысячу лет скитаться,
Видя несметные орды (черной золой посыпанные)
Дагона,
Шел, будто пятился, падая в ступе песчаной бури,
Богом оставленный, вскормленный голодом,
жаждой – седой Израиль.
Утром, как только забрезжит светило
в молочных глазах тумана,
Медью плавится желтое зарево копий,
кольчуг филистимских.
Кто ты, пришедший остаться
в братстве священном, мертвом
Или, о щит опираясь, в глухом одиночестве
выйти навстречу славе?
Пусть ты сражался до крови —
царь твой наденет лавры.
Больше не кажется сладкой победа —
терпкая и чужая.
1
Народ мастеровой, пришлый, наемный. Без крон, без корней. Сегодня здесь, а завтра… Кто знает, наступит ли оно – завтра. Вот и живут сегодня – радуются. Радость эта особая – угрюмая. Каменщики, плотники, резчики, водоносы, башмачники с булочниками, краснодеревщики с мусорщиками. С утра пестрит народ в проветренных за ночь хитонах, к вечеру же, согбенные усталостью, потностью и тоской, расходятся они по своим норам-жилищам, вкопанным в землю по самые кровли. Подвалы, гнилые убежища. Другие работают на себя. А эти стелют прямо поверх наструганных опилок, погнутых гвоздей, ведер, разбросанных инструментов. Дубленая козья, воловья, а то и кусками сшитая кошачья кожа. Жены. Дух жареной пищи, безрадостных, быстрых объятий. Дети. Кипарисовые мечи, тряпичные куклы, мухи, вылепленные из грязи и хлеба. Родители бранились – запасов муки не так много, чтобы их тратить на – пусть и маленькие! – божества, которых – под страхом смерти, табу, вето! – нельзя съесть.
В таком квартале на окраине – у самых городских ворот Экрона – вот уже восьмую годовщину смерти Сулуфи жили кузнец Сомхи, Елфа и служившая у них Мара. Их дом трудно было назвать домом – мазаная конура, куда они переехали сразу после того рокового… затмения. Сомхи не мог себе простить – каждый раз, когда вспоминал о дочери, безутешно рыдал, терзал себя, оставлял на руках надрезы с выжженными клеймами покаяния и вечной памяти.
Входившие сюда слышали скрип. На какое-то мгновение они замирали, не понимая, отчего стало вдруг душно, откуда взялись эти бегущие вдоль спины…
С каждым новым шагом скрип все больше заполнял годами выточенные пусто́ты. Будто время можно сравнить с водой, капли которой для камня являются самой настоящей пыткой. Об этой хижине можно было сказать, что архитектор лишь внешне поставил нагромождение кое-как выполненной лепнины, забыв о внутреннем ее наполнении. Вспоминались пирог без начинки, пустая мумия.
Как трусливы шаги входящего сюда человека! Как осторожны они! Неверны, неточны – обманчивы, застенчивы. Не шаги, а дрожь, лихорадка, заячье сердце, затаенный, приглушенный, немой жертвенный трепет. Дребезжат ключи, волнами накатывают друг на друга морщины, шершавые ладони, сухие губы, глаза раскрыты до красноты. Повсюду невозможные, нелепые, клейкие капли. В их прозрачность затягивает, под их покровом, безвоздушным куполом остаешься, пока вновь не услышишь странный, исходящий… из-под твоих ног. Скрип.
Сквозь запертую изнутри дверь. В щель увидев черты. Отнюдь не случайный взгляд, брошенный с улицы. Вывороти наизнанку, заново надевай! Невыносимо, душно, взаперти-то! Хоть выжми, а все равно меньше не станет. Не убудет. Вот она вся, как есть – сидит, сидит, потом встанет, обернется, вновь сядет, и так до вечера, до следующего полумесяца. Никто и не вспомнит, сколько уже – так вот. Рванье заплатанное свое наденет, говорит – «платье новое, дорогое». На лежанке прикорнет, воображая теплые объятия… кого? Когда-то давно, не помню. Имя такое звучное, родное – в жизни не забудешь. Кто это был? В глазах блеск, лицо его – августовское небо. Волосы масляные, густые – гребень ломался. Всего не упомнишь. Забудешь. Сущее решето!
Дно, ил, вязкий сыпучий песок – только ступи. Оставленные серьги, ленточка с оберегом, глубокие следы от цеплявшихся пальцев. Немного откопать: после мелкого, дробного, тысячного песка – мясистое, высохшее, застывшее в немой гримасе. Широко раскрытый рот – до самых скул, с диким оскалом, с девичьими некогда ямочками, с выцветшей улыбкой. Глухой крик – сдавленный, никем не распознанный, сжатый до пустой фисташковой скорлупы. Она здесь, она всегда была здесь, никуда не выходя, забываясь на короткие ночные часы-мгновения. До выстраданного молчания. С животными – не человечьими – постанываниями:
– У меня припадок? Найдите в себе смелость и выгоните меня прочь. – Она плюнула себе под ноги! – Никто не спросит, не спохватится. Где ваши гнусные слова? Где ваши боги, где моя дочь?
В ее лице страх, сменяющийся десятилетней беззаботной детскостью, нежностью: попеременно слезы и громкий смех, переходящие в длящуюся часами истерику, всплеск просветления и долгожданное забытье.
Елфа огляделась. Вытаращенные белки́ будто ощупывали – щупальца! – осязали. Она улыбнулась: услышала. Вот уже на протяжении многих лет эти шаги означали для нее одно: идет «добрая Мара» – так она называла некогда ненавистную ей служанку, которая всегда была при ней: переодевания, кормления, обмывания, чтение, воспоминания.
С того самого дня, когда Елфа увидела свою дочь на жертвенном камне, она повредилась умом. С ней случались припадки при виде любых насекомых – копошащихся, ползающих. «Когда, – говорила Елфа, – смотришь на землю, она тут же оживает».
Но более всего – мухи: только заслышав вибрацию с тонким жужжанием, она закрывала уши, валилась на землю и – будь то на улице или в доме – вопила не своим – хриплым, истеричным голосом: «Так много! Шубы, наброшенные на столбы! Вас – в топкую яму! Носы, глаза, волосы… носы, глаза, волосы… Ж-ж-ж-ж!!! Сожрали одних – к другим! Каждого, всех! Нож, всех, ж-ж-ж-ж-ж…».
Люди старались коснуться ее: «Она, – говорили, – пришла оттуда! Сам Ваал-Зевул избрал ее!». Еще слышалось «святость», «не каждый»… Смотрели на Сомхи, к которому все относились с уважением и почитанием: «Он отдал дочь свою и жену. Благочестие, милость Ваал-Зевула…».
Кузнец брал на руки беснующуюся Елфу, унося во мрак конуры, а если все происходило не на людях, то, связывая ее, громко плакал, ударяя себя в грудь. «Сулуфь, – глотал он горе свое, – Сулуфь!!!»
Мара привыкла. Убирала за Елфой разбитые черепки, зашивала разорванные одежды.
* * *
– Открой, Сомхи, открой! – Сильно, казалось, железной рукой, барабанили в дверь. – Открой! – требовал грубый мужской голос. – Мы знаем, ты в своей дыре. Вчера вечером видели, как ты с женой и служанкой входил внутрь.
– Кто вы, что вам надо? – ответил кузнец. – Ночь на дворе, прошу вас, кто бы вы ни были, уходите.
– Мы, – после недолгой паузы снова колотили в дверь, – солдаты из личной гвардии его верховного жречества Кир'анифа. Из последней переписи населения нам известно, что ты поселился в Экроне, ты платишь налоги и имеешь кузницу.
– Что вам надо?
– По долгу жителя Экрона ты обязан стать на защиту города.
Дверь отворилась, бледный Сомхи вышел, лампой осветив лица солдат – их было четверо.
– Что случилось, – спросил он, – и что вы хотите от меня?
– Прощайся с семьей, а с первыми лучами выходи на построение перед главным храмом. Израиль идет на нас войной. Ты кузнец, у тебя есть хорошее оружие. Возьми его. Мы собираем всех мужчин.
Они ушли.
– Они забирают тебя! – Отвернувшись к стене, всхлипнула Елфа. – Мы останемся здесь с моей доброй Марой. Она заменила мне дочь. Но мы умрем с голоду прежде, чем я сойду с ума в Вааловой преисподней. Ты будешь воевать, тебя убьет Яхве, и мы с тобой больше никогда не увидимся – ты в плену у одного, а я у другого. Демоны. Бедная Мара! Как же ей будет ненавистна свобода!
2
Со всех концов города стекались потоки, ручьи, а кое-где и целые реки людей. К третьей ночной страже это походило на сплав темного, густого леса. То и дело образовывались заторы, один на другой наваливались стволы, толстые ветви удерживали проход, словно пробка в пивном кувшине.
– Что они еще выдумали? – слышалось то там, то здесь.
– Акиш – правитель Экрона! Он царь.
– Цари что дети малые – ссорятся без причины.
– Мы этих «детей» кровью примиряем!
– Да, не всем нам вернуться…
– Не всем и дойти – воевать-то будем при Авен-Езере! С такими полчищами, – огни факелов умножали идущих вдвое, шаги – вчетверо, – мы окажемся там не меньше чем через пару закатов. Кто взял оружие – не дойдет, а кто вместо оружия несет с собой запасы хлеба и воды, тому нечем будет сражаться.
– Очень просто, Мале́к, я приставлю к твоему горлу мой меч, и ты отдашь мне все твое хлебосолье, – говорил водовоз Нахор.
Послышался смех.
– Полегче, – выкрикивали другие, – а то навалимся все, и ни похлебки не спросишь, ни даже одного израильтянина не проткнешь.
– Соглашайся, Нахор, – встревал нагловатый молодчик, – одним махом и голодным не будешь, и на войну не пойдешь!
И народ хохотал над Нахором больше, чем над его остротами.
В ту ночь не замешивал булочник Черемши́ в кадке муку, чтобы утром, проходя по улицам с подносом горячих буханок на голове, звать, обращаясь к еще запертым ставням: «Хле-е-еб! Хле-е-еб!». В ту ночь белошвейка Мизирь ни разу не уколола палец, занятая сборами на войну мужа своего. Дети спали. Отец перед выходом посмотрел на них, в щеки поцеловал.
– Свидимся ли когда? – прощался он. – Себя и их береги. Пусть боги хранят вас. Пока меня не будет, питайтесь из сбереженного, а если со всеми не приду, найди себе мужа и за себя отдай ему этот дом, чтобы он впредь кормил вас. Не плачь. На все воля богов – захотят и вернут они меня к моей дорогой Мизирь. Если родишь от другого, не приноси его Ваал-Зевулу, потому что он и так помнит нашего первенца и ему не нужен второй. На, – он положил в женину руку небольшой, с отверстием камень, – возьми мой талисман и отдай мне свой. – Она закопошилась, наскоро протянула, отдала. – Вот так, вот и хорошо, вот и попрощались.
3
На храмовой площади не продохнуть. Колесницы, топот, пот, сорванные голоса. Шныряют между сомкнутыми рядами солдаты из гвардии Кир'анифа. Направо-налево бросают – под ноги, над головами – приказы. Скулы напряжены. Ладони сжаты до кулаков. Выструнившись, кожаным наперсником не оботрут в крупной испарине лоб. Икры вздрагивают, кованой грудой железа играют свинцовые мышцы. Пудовые затылки, плечи – крыльев орла размах, шрамов пересеченье. Единым камнем, стеной нерушимой стали – не сдвинуть, не подойти. Сопротивленье помыслит безумный, в сраженье пойдет подобный.
Небо порозовело – от ваксой замазанных очертаний до легкого (дотронуться – и исчезнет) всплеска, девичьего румянца. Как такое возможно? Перед войной ли? Последняя чистота перед набившейся в ноздри, уши, глаза и рот… Земля! Зимой цветущая, а все остальные луны страждущая, огнедышащая. Пришли и видели наши лица. Уходим – пусть миром дорога нам будет.
Вот оно – нарастает! Слепит уже, рвется наружу. Но не стремительно, не хаотично – ровно, прямо, сильно и явно.
В Экроне солнце всегда появлялось там, откуда и должен рождаться свет – от жертвенника. Тысячи горожан одним замершим взглядом смотрели поверх, ступенька за ступенькой – отсюда туда – розовеющего мрамора. Лестница! Поднимаясь, она возносит сердца и мысли. И вот новобранцы уже не думают об оставленных семьях и верстаках, их не заботит скорая гибель от рук Израиля, от жажды, от жала дикой пчелы. Сейчас – в предвкушении они стали единой глыбой – блеснет алтарь окровавленный, откроет недра свои и выйдет оттуда солнце.
От жертвенника отделилась человеческая фигура, подняла руки.
– Кир'аниф! Кир'аниф! – раздалось в толпе.
– Он поведет нас!
– Боги будут покровительствовать нам!
– Мизирь…
Кир'аниф сжал обе руки, а когда стал медленно разжимать их, сквозь пальцы, ударив в глаза смотрящим, вырвался первый луч.
Старые и молодые – с кольями, топорами, кирками, камнями, с вещевыми мешками за плечами, – тысячи стояли пораженные.
– Это наш верховный Кир'аниф! – пронзительно, восхищенно закричал кто-то.
От подножия лестницы до напомаженных жреческих завитков прокатилась сплошная, все и вся накрывающая волна гула, людского вопля, топота, визга, ломающего преграды смерча радостной, разъяренной толпы. Волны накатывали одна на другую. Превращались в сплошную, ничем не останавливаемую мощь. Вперед, вперед! – крутили страшные жернова. В пыль перемалывая вчерашних мирных ремесленников, пьянчуг, грабителей, домоседов – в бушующий вихрь. Все в едином порыве – срыве, надрыве – пропастью раскрывали брызжущие слюной рты:
– Кир'аниф! – взлетало.
– Кир'аниф! – тонуло.
– Кир'аниф! – рассыпалось на мириады частей, вновь сливавшихся в одно целое.
Кир'аниф ждал, сладко щурясь, словно принося Ваал-Зевулу в благоуханную жертву все эти глотки, через которые наружу вытравливались загнанные души.
Наконец он сжалился над ними. Поднял руку, и все оглушительно стихло.
– Мужи Экрона! – неторопливым, размеренным басом начал жрец. – День еще не взошел, а Израиль уже хочет у нас отнять его. – Он вслушался в нависшее над храмом, над площадью оцепенение. – Их дикие племена попирают мирные клятвы. Способные на скорую ложь и низкое предательство, вот уже сорок два урожая2727
Примерно двадцать два года.
[Закрыть] они подстраивают против нас засады, совершают опустошительные набеги. Саранча с ползучими гадами опасны менее этого грязного народа. Они безбо-ожники! – Широко протянул он. – Они слушают придуманного ими Яхве, которого никто не видел; не признают верховенства филистимских – сильных и зримых богов.
Немного выждав, продолжал:
– Наши дети выросли, зная, откуда дует разрушительный ветер вражеских колесниц. Их вождь и наставник Илий – старый, выживший из ума судья и жрец. Он один из всего Израиля верит, что Яхве – Бог! Больше никто!
Верховный стал медленно спускаться, как при молитве воздев над головой руки.
– Посмотрите вокруг, что вы видите? Кто может сосчитать звезды, капли в море, песок или вас – мужи Экрона? Боги дают нам пример в этом зримом мире, показывая, что их – богов – великое множество, и только безумцы и слепцы, как Израиль, могут до сих пор защищать мерзость единобожия.
Кир'анифу оставалось еще с десяток ступеней, чтобы поравняться с разинувшим рты народом.
– Израиль – бешеный лис, дикая кошка, толстый прожорливый удав. Он задушит и поглотит все, если не остановить его. На вас, – жрец замер, оглядывая тьму обращенных к нему лиц, – на каждого из вас я возлагаю священный долг не только разбить непокорный Израиль, но и пленить ковчег завета, где под ситтимовой крышкой с глядящими друг на друга огненными духами обитает Яхве. Сломив врага, вы навсегда убережете свои семьи от нашествий и выплаты податей, а взяв в плен их единственного Бога, вы обретете благоволение и щедрость ужасного Ваал-Зевула, сладкой Астарты, весельчака Дагона.
К подножию лестницы подкатила колесница, Кир'аниф вскочил в нее и, проносясь вдоль выстроенных рядов, чеканил:
– Священная война! Газа, Аскалон, Азот, Геф ждут нас в лагере при Афеке. Там в пустыне между Афеком и Авен-Езером и поведет нас в бой Ваал-Зевул. И падут от меча филистимского хулители божьих имен, и станет Израиль одним из подданных нам народов. Сметем, сломаем его, и, не в пример египтянам, сотрем память о нем, и землю, захваченную у братьев наших хананеев, вернем себе в вечное владение. Солнце взошло! Ваал-Зевул, храни поклоняющихся тебе! Мужи Экрона, вперед!
Так скрипучая ветряная мельница начинает вращать свои старые лопасти. Так столетние кедры с хрустом, с треском, с клокотанием, с чудовищным чревовещанием, с замиранием и ускорением, с силой стремительной, сокрушающей – падают. Враз! Посторонись! Топот пеших сдабривается всплесками звонких кимвалов. Ру́ки не жалей бить в кожу молочных телят. Растянутая на ободах. Столько земли нет, чтобы вместить всех. Пеласгов множество. В сражении павшие будут отомщены. Дети, внуки – глаза их не видели уходящих. Живые утробы полны слез о них. Герои в агонии с лезвием в теплой груди. Нас не забудут, нас вспомнят в бесславии мирных времен. Три дня в пути – и нам улыбнется спокойная жизнь. Зевулова вечность или израильский плен? Свободная Филистия или рудники, до часа последнего томление в кандалах?
4
За колесницей Кир'анифа бежал скороход.
– Верховный, – глотал он слова, – у следующей заставы тебя будет ждать лазутчик.
«Соглядатай принес вести. Что скажет он? Призвать к ножу несложно – вдолбить в их головы ненависть к чужой религии, к земле и вообще к тому, что те – другие и только поэтому заслуживают расправы. Наобещать им покровительство богов и духов, самому пойти впереди них. Вон они – толпы, обезличенные двуногие, ведомые всяким, у кого хватит запала как можно дольше держать их в страхе!»
Кир'аниф думал обо всем сразу: предстоящая битва, тысячи людей, которые скоро почувствуют первые признаки голода и жажды, а накормить и напоить их будет нечем; в награду за победу – верховное жречество над всей Филистией; слишком узкая, не походная обувь; не дающие покоя знаки богов: вороны над кучкой прислужников, несущих жертвенник Ваал-Зевула; сладковатый привкус во рту; подступающая головная боль.
«Весь день будет мучить, – поморщился Кир'аниф. – Хорошо, что не сегодня доведется услышать израильский шофар с лязгом их бронзовых мечей, гнущихся от нашей стали».
Проехали два холма, прошли по степным рассечинам, что остались после паводков сезона дождей. Миновали Лод, деревушку Óно, слева оставили Бене-Верак, увидев шатры.
– Застава!
Навстречу жрецу скакал верхом на верблюде погонщик.
– Не лазутчик ли? – вглядывался в приближающегося всадника Кир'аниф. – Надо напоить… – он оглянулся: пыльные, измученные переходом молчаливые люди тянулись позади, – всю эту псиную свору!
Верблюд остановился рядом с колесницей. Погонщиком и вправду оказался лазутчик.
– Приветствую тебя, верховный жрец ужасного Ваал-Зевула! – сказал он, немного кланяясь в сторону Кир'анифа.
– Что видели твои люди? – грубо и небрежно бросил тот, даже не посмотрев в его сторону.
– В Силоме мы видели Самуила.
– Кого? – удивился, но больше как-то испугался Кир'аниф.
– Это их пророк, – лазутчик хотел было доложить о расположении израильских войск, но…
– Я знаю, кто такой Самуил, – словно пощечиной ударил жрец, – однако, – произнес он, размышляя вслух, – с тех пор, когда Бог говорил ему… В каком, – снова обращаясь к лазутчику, – в каком возрасте Самуил?
– Он молод, мой господин. Борода только начала пробиваться на лице его.
– Что же он говорит? Скажи, если слышал.
– Все слышал, – охотливо отвечал лазутчик. – Он призывал народ Израиля не ходить в Авен-Езер и не вступать в сражение с нашими царями.
– Что ты такое говоришь? Я не ослышался?
– Все так, господин мой, дословно передаю тебе слова его: «Прежде, – сказал Самуил, – чем идти на нечестивых войной, нужно покаяться, чтобы Победитель Сам пошел среди нас».
– Он так сказал?.. И что народ?
– А что народ? – лазутчик зашипел на верблюда, и тот сел. – Как всегда – взбунтовался: чуть скинию в Силоме не разрушил, мы еле ноги унесли.
– Кто же подстрекал их на то?
– Кого подстрекал, мой господин?
– Народ кто подстрекал? Или ты скажешь, что Израиль не таков, как прочие племена? Будто у него хватит смелости решиться на бунт или на какое иное дело без главаря – без того, кто пойдет первым?
– Я понимаю, о великий Кир'аниф: народа всегда много, а тот, за кем они идут, всегда один, да? Только у Израиля не один, а целых два зачинщика.
Лошадь заржала, мотнула головой, отчего жреческая колесница сдвинулась с места. Кир'аниф сильно, сокрушающе ударил животное плеткой.
– Не Илиевы ли то сыновья – Офни и Финеес, старые плуты? – он улыбнулся кривой, уродливой ужимкой.
– Они, мой господин, они, – быстро отвечал солдат.
– Давно я их не встречал, а раньше, бывало, частенько видел. Приходили сюда откупаться от нас. Я же им тогда условием ставил не деньги, а то, что они принесут жертву Ваал-Зевулу.
– И что же, мой господин?
– …Хотя тебя и следовало бы наказать за то, что задаешь вопросы, но, так и быть, скажу. Они с радостью согласились: принесли в жертву своих служек. Вот глупцы! Никогда не уважал тех, кто предает своих богов! А ты говоришь – народ! Перед народом они служат их Яхве, но готовы предать Его при малейшей возможности, пусть и с «благородными» целями.
– Что делать, мой господин, безымянная чернь глупа.
– Чего ты достиг, чтобы себя отделять от них?
– Я, мой господин, насколько далек от них, настолько не близок к тебе.
– Что ты мелешь, раб подневольный?
– Ты такой же подневольный, как и я, а потому и свободны мы с тобой одинаково.
Кир'аниф внимательно посмотрел на лазутчика: запыленные одежды его выдавали долгую бессонную дорогу. Доспехи впивались в кожу, раня до крови. Сухие губы говорили что-то несуразное. Так никто не решался обращаться к верховному служителю жертвенника. Гнев с брезгливостью сменились желанием раздавить, смять.
– Ты можешь быть мудрее твоих предков в сотни раз, однако для нас, – этим «для нас» жрец дал понять, что они происходят из неизмеримо разных сословий, – ты не ближе, чем Гаризим2828
Гора на территории Самарии.
[Закрыть], и не слышнее высохшего источника.
– В твоем воображении, Кир'аниф, я могу быть кем угодно, поэтому не исключай и той возможности, что я стану твоим, например, царем или убийцей – и первое потребует от меня больших усилий, ибо мне просто нет никакой охоты заниматься вторым ремеслом.
– Ты дерзкий маленький урод, – прошипел Кир'аниф.
– Не дерзкий и не маленький, – возразил тот, – а уродом я вынужден быть в той лишь степени, в которой показываю тебе твои же недостатки. Другой бы радовался. Ну, а если и не радовался, то, угрожая, кипятясь и краснея, следил, как бы не изобличить самого себя.
– Ты, раб, хитер!
– Если ты меня еще раз назовешь рабом, я вскочу на твою колесницу, и ты присоединишься к пешим рядам, – лазутчик показал в сторону марширующего войска. – Думаешь, эти голодранцы, которых ты забрал от семей, вступятся за тебя, оставшегося без крова и храма? Нет! Суд обратится на голову самого судьи, падет и сокрушит его, так что ты будешь жалок, а люди скажут: «Куда подевалось его превосходство? Или он перепрятал его до лучших времен?».
– После похода я уничтожу тебя, – заскрежетал жрец.
– Не успеешь, – спокойно ответил тот. – Израиль, несмотря на заклинания Самуила, все равно идет на нас.
– А-а-а, – протянул Кир'аниф, – ты не боишься меня, потому что думаешь: «Он не выберется из этой заварухи – его подстрелит лук, чей-то внезапный клинок сломит его выю». Теперь я точно вижу, что ты раб, ибо смелость твоя – хоругвь слабого, а хамство и дерзость твои – отголосок черни, которую ты так ненавидишь.
– Глупо ненавидеть то, что внутри нас. – Лазутчик указал на жреческих гвардейцев: – Пусть не все экронцы, но пусть хоть эти остановятся, напьются и отдохнут. Послезавтра им предстоит сражение. Я обо всем распоряжусь.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?